Текст книги "Крик Алектора"
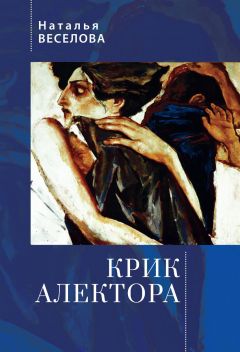
Автор книги: Наталья Веселова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Гер, а, Гер… – робко теребила его рукав красивая, но уже отжившая в нем свое Глаша. – Я знаю, что мне с тобой нельзя… Не твоего я поля ягода… Но, может, потом, когда вернешься… Уже, наверно, с усами, в очках… женатый… Хоть в няньки к своим деткам возьмешь меня?..
Вернуться в родные пенаты Герману не пришлось. Когда через несколько быстрых лет, хотя уже и в следующем веке, он стал выпускником Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии «в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными», барыни-энтузиастки на свете уже не было, а больница, ею затеянная, во врачах не нуждалась: совершенно не интересовавшая овдовевшего супруга, она мирно разваливалась на семи ветрах, недостроенная и растаскиваемая тороватыми крестьянами на хозяйственные нужды. Отец давно упился до смерти и тихо лежал на сельском кладбище; старый друг, похоронивший его, слово насчет Германа сдержал, полностью оплатив его обучение и маленькую комнату на всем готовом, – но рассчитывать на дальнейшую поддержку юному эскулапу не приходилось. Способный и тяжкого труда не боявшийся, молодой человек был сразу же принят на скромное жалованье палатным врачом в Мариинскую больницу, в хирургическое отделение, вскоре начальством выделен и поставлен ассистентом к столу – ну, а там уж оказалось недалеко и до самостоятельных ампутаций. Небольшой, но драгоценный дополнительный доход, который можно было свободно тратить на выписку иностранных медицинских журналов, давали частные визиты, куда его все чаще и чаще стали приглашать по рекомендациям «чудесно исцеленных» пациентов больницы – мелких чиновников, лавочников, церковных дьячков…
В одном из небогатых петербургских домов – деревянных, похожих на убогие загородные усадьбы, на шестнадцатой линии Васильевского Острова, неподалеку от зловонной речки Смоленки, он и встретил любовь своей жизни – бледненькую безденежную дворяночку, измученную частыми родами женщину, названную по Святцам в честь преподобной Евстолии Константинопольской, но стяжавшей жизнь не блаженную, как та, а незаметно-мученическую…
«Но я не посмела… Как всегда, не посмела ничего… А Г., по причине своей природной робости, тоже все не решался на серьезный разговор, которому так явно приспело время… Тишина затягивалась, становясь мучительной… Я изо всех сил искала тему для разговора, чтобы разорвать адскую пелену молчания. «Ах, да! – наконец, нашлась я. – Вам велела кланяться Евочка Суханова». Г. оживился, довольный тем, что мне удалось изыскать повод нарушить тишину. Мимо окна проплыл газовый фонарь, и я различила в темноте его благодарную улыбку. «Merci, – вежливо отозвался он. – Не расскажете ли, как поживает семейство Сухановых?». Разумеется, его мало интересовали эти «маленькие трагедии», но, чтобы слышать мой глубокий грудной голос бесконечно, он готов был выслушивать все, что угодно, даже истории про посторонних или мимолетно знакомых людей. Мало кто из мужчин на такое способен – я оценила такт и деликатность моего Г.»
О, нет. Она считала свое сипловатое козье мемеканье чуть ли не изысканным контральто… Тогда, в карете, он готов был действительно убить Надин – за то, с каким эпическим спокойствием она не рассказала, а именно поведала ему, словно былину, о том, что Евстолия неделю тому, как разрешилась почти мертвой девочкой, промучившись больше суток, в конце которых их общая подружка, окончившая, кроме их общего Павловского, еще и Повивальный институт, пошла на наложение щипцов, коими буквально раздавила хрупкую головку плода… Ребенок еще дышал, когда измученная мать, сама еле живая, потребовала немедленно окрестить его и впала в глубокий обморок только после того, как увидела, что акушерка сполна проделала весь обряд… Надин еще и присовокупила, интимно привалившись к плечу остолбеневшего попутчика и обдав его волной несвежего дыхания и кислым, не смотря ни на какие духи, запашком вечно потного тела толстой женщины: «И знаете еще, что? Можете считать меня enfant terrible[21]21
Ужасный ребенок (фр).
[Закрыть], но я почти рада этому ужасному обстоятельству. Ну куда, скажите на милость, ей сейчас, в двадцать четыре года, шестой ребенок? С семнадцати лет она рожает их даже чаще, чем раз в год: кроме этой девочки она еще двоих потеряла, вы ведь не знали? Да, да, один другого заразил корью – и оба сразу… Но были еще двое старших, которых удалось уберечь, потому Евочка и не умерла от горя еще тогда… Это чудовище, ее муж, и месяца после родов ей передышки не дает, а у нее плодовитость просто какая-то исключительная… – она мерзко понизила голос: – Один раз – и готово, затяжелела… В общем, ей и пятерых сейчас хватает, все здоровье съели. Хорошо, что малышку Бог прибрал…». Этого своего откровенного монолога в задуманном увлекательном романе «ужасное дитя» конечно, не упомянуло! Как и того, что Герман закрыл лицо руками, представив себе, как сутки напролет кричала любимая женщина, мечась по мокрой постели, рожая ребенка от ненавистного изверга, а рядом не было даже опытного медика, только какая-то недоучившаяся повитуха, вообразившая себя «акушером», – совсем люди с ума сошли! Куда смотрел Государь, как дал убедить себя разрешить женщинам отвечать за жизнь людей, когда они и за свою-то собственную толком ответить не могут! Надо же, взяла щипцы и раздавила! А потом тащила наружу, ломая и выкручивая девочке шею, раздирая нежные ложесна матери, не обращая внимание на стоны и кровь… Надин, конечно, не написала и о том, как, выслушав ее, он сказал, что ему дурно, велел остановить карету и выскочил в ночь! Попал в подсохшую лужу, погубил брюки от единственной летней льняной пары, растянул лодыжку, потерял ориентировку, столкнулся на ходу с фонарщиком, гаркнул ему в лицо: «Где Нева?!» – а тот не то испуганный, не то просто ошарашенный, молча махнул рукой назад… Почему-то не догадавшись кликнуть извозчика, Герман бросился в ту сторону бегом, и уже к полуночи, когда на Башне болтунов и бездельников, наверное, открывалось очередное собрание клинических идиотов, Герман стоял у обшарпанного, без ограды и дворника, деревянного дома с темными окнами, со стороны Смоленки густо несло тиной, от недалекого ночного трактира слышались пьяные голоса гуляк…
Только у двери, едва не дернув на волне все того же страстного порыва старомодную цепочку звонка, он внезапно опомнился: о, Боже, что он сейчас чуть не сделал! Герман мгновенно представил себе всю ситуацию не со своей, такой очевидной точки зрения (возлюбленная, возможно, при смерти, он примчался спасать), а с позиции ничего не подозревающих Сухановых. Весь дом (в котором больная родильница и пятеро детей, между прочим) заснул после тревожного душного дня, а сама Евстолия, может, только сейчас забылась неглубоким сном, истерзанная болью, дурнотой, горячкой и еще Бог весть чем, спит набегавшаяся прислуга на кухне, няньки похрапывают в детских… Вдруг всех будит отчаянный звон у двери, будто ночной прохожий, настигаемый разбойниками, умоляет его спасти! Кто-то, еле поднявшись, ковыляет к двери, долго гремит замками, открывает, а там – спаситель! Доктор, которого никто не вызывал, – в грязных по колено брюках, с безумным взглядом и даже без верного саквояжа с инструментами. Может, он догадался бы пробормотать что-то полувразумительное о том, что пришел по просьбе Надежды Николаевны… Но почему ночью? И в таком виде? Возможно, его и впустили бы как знакомого врача, еще недавно успешно пользовавшего главу семьи, но вряд ли стали бы будить барыню! А если бы и «барин» проснулся! Тут уж байкой для прислуги не отделаться!
Сдвинув канотье на затылок, Герман прислонился потным лбом к двери… Нужно успокоиться, придумать завтра благовидный предлог – и уже чинно-благородно, с инструментами, днем… После больницы нанести визит фон Леманн (бездельница как раз проснется после своего ночного «заседания» и будет кушать на балконе кофей со сливками и кучей пирожных; нет, так действительно в революционеры запишешься – ему-то в семь утра надо уже обход делать!), уговорить ее ехать вместе, рассказать, каким опасным может сейчас быть положение ее подруги… Да… Да… Так лучше. И знакомство возобновить, и очевидную пользу принести любимой… А там…
Он был застенчив и за «там» не заглядывал. И правильно делал: на следующий день Надин с категорической томностью отказалась везти его лечить подругу – ее, якобы, уже благополучно поставила на ноги все та же «женщина-акушер», отправившая на тот свет ребенка и чуть не спровадившая туда же и роженицу…
Той ночью после бойкой пробежки и внутренней встряски заснуть оказалось делом трудным. Обычно, встав в половине шестого утра и оказавшись дома ближе к полуночи, он заставал прислугу, сорокалетнюю девицу Катю, спящей (ей у холостяка оказалась вольница: нанятая за пять рублей «с отсыпным»[22]22
Прислуга могла наниматься «со своим горячим», т. е. должна была сама себе покупать «чай, кофе, сахар и булки», а могла – «с отсыпным», получая все это от хозяев; второе было выгоднее, потому что редко кто считал, сколько она съест и выпьет.
[Закрыть], немудрящий обед, ради которого и кухарку держать было не с руки, она кое-как готовила лишь по воскресеньям, а всю остальную снедь хозяин делил с ней почти по-братски), наедался оставленных для него на кухне сандвичей с белорыбицей по средам и пятницам или бужениной, если не было поста, потом наскоро ополаскивался под приготовленным умывальником с остывшей водой, а после буквально рушился в постель, на ходу, почти в полусне раздеваясь, – а глаза открывал только после третьего Катиного крика: «Бари-ин! Бари-ин! Службу-то проспите!».
На этот раз он в постели глаза даже не закрыл. Лежал, закинув руки за голову, смотрел в серый потолок, на котором чуть подрагивал отсвет крошечного огонька лелеемой Катериной лампадки, – со своего места на кровати Герман видел его синим через цветное стекло, а наверху трепетавшим уже первозданно оранжево с красивым голубым ореолом – и скорбно думал о том – как в двадцать пять лет могло такое приключиться. Как угораздило в возрасте, когда холостые ровесники после тяжелого дня весело едут в публичный дом или греются ночь у костра за Мариинкой, стоя за театральными билетами, или едут с дамой на Морскую в «Вену», где и кухня хорошая, и цены доступные, и приличные писатели ужинают, – как угораздило его безответно влюбиться в хилую чужую жену, в очередной раз беременную от нелюбимого мужа, и все силы свои, кроме тех, что отдавались больным, всю жизнь положить на это чувство!
Все началось с маленького, кривобокого и до карикатурности тонконогого писаря, повредившего, казалось, необратимо, свое главное орудие труда – правую руку: ее раздавили полозья лихача, даже не обернувшегося, когда какой-то мелкий человечишка, остановившийся его пропустить, вдруг поскользнулся на ровном месте и шлепнулся в навозно-снеговую кашу на Загородном, неловко выбросив руку вперед. Эту-то руку и пересек толстый железный полоз, и, конечно, присоединилась инфекция… «Готовьте ампутацию», – бросил через плечо хирург, мельком глянув на повисшую среди рваных лохмотьев обескровленной плоти почти неживую кисть. Герман, палатный врач, молча кивнул, с тяжелым сердцем соглашаясь, но несчастный, должно быть, уловил искру жалости и сомнения в глазах молодого врача. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! – тонким, почти девичьим голосом возопил он, цепляясь здоровой рукой за полу докторского халата. – Не погубите, доктор! Пропаду калекой! Деток трое! Жена на телеграфе работает! Неужели ж мне на шею к ней! Ведь писарь же я, а как писарю без руки! Помилосердствуйте! Не режьте – может, снадобье какое поможет!..». И Герман на свой страх и риск отложил ампутацию, понимая, что рискует местом, если разовьется заражение крови и маленький писарь умрет. Четверо суток юный доктор ночевал при больнице, но руку, лично прооперировав и загипсовав, отстоял. Когда больного выписывали, у него уже двигались пальцы, и все шло к тому, что через несколько недель он сможет снова этой рукой мученически зарабатывать свои гроши коллежского регистратора[23]23
Писари в Российской империи относились к низшему, 14-му классу в «Российской Табели о рангах», имели чин коллежского регистратора.
[Закрыть]… Германа же он почитал после этого за полубога и даже явился благодарить, титулуя спасителем и благодетелем, – вместе с худосочной супругой в большой, как у барыни, шляпе и с тремя прилизанными гимназистами, заученно шаркавшими ножкой под строгим взглядом «папеньки». Семейство преподнесло «избавителю» странный подарок – многоэтажный пирог, собственноручно выпеченный телеграфисткой и содержащий на каждом этаже по нескольку видов начинки меж перегородками. Пирог потом ели несколько дней всем хирургическим отделением, включая ночных сиделок, а спасенный писарь с тех пор принялся исправно поставлять доктору частных пациентов, рекомендуя его с такой горячностью, что те, наверно, думали, будто речь идет о медицинском светиле в ранге статского советника, и очень удивлялись, увидев в лице Германа высокого костлявого молодого человека в пенсне и с потертым коричневым саквояжиком. Так и оказался он в деревянном доме Васильевском острове, где ему тоже пришлось спасать конечность, хотя и не такую судьбоносную, как в случае с маленьким писцом. Хозяину дома соседский дворник и два его подручных уронили на большой палец ноги тяжелый комод, который по распоряжению главы семейства переносили в другую комнату; слишком уж бурно проявил пострадавший свой начальственный нрав, желая лично руководить переноской и водворением вещи на нужное место и путаясь у мужиков под ногами, – те и потеряли в какой-то момент равновесие…
Когда доктора, призванного в качестве волшебника, только еще ввели в прихожую, где страдальческая оленья голова словно высовывалась из стенки, он сразу услышал сверху громкие, но, как ему показалось, несколько демонстративные стоны и оханья. Из гостиной вышла огромная, одетая в светло-сизую шелковую блузку женщина с грубым лицом и двумя черными бородавками под подбородком и отрекомендовалась:
– Здравствуйте, доктор, меня зовут Надин фон Леманн, я подруга хозяйки. Она наверху с супругом. Пожалуйте на второй этаж, – и пошла рядом, указывая дорогу.
В доме не было электрического освещения, поэтому впереди бежала старая горничная с подсвечником, в узком коридоре, ведущем к лестнице, все время приоткрывались какие-то двери, демонстрируя в полутьме чьи-то любопытные лица, – а у Германа вдруг захолонуло сердце – так, что он сам удивился. О чем было беспокоиться? Обычный визит – он уже два года по таким ездил и давно перестал волноваться. Но ту короткую дорогу ему еще много раз предстояло вспоминать, как паломнику, вернувшемуся из Палестины, еще долгие годы снится Via Dolorosa[24]24
Крестный Путь Спасителя, по которому Он нес Свой крест по дороге на Голгофу к месту казни; находится в Старом Городе в Иерусалиме, Израиль.
[Закрыть]. Сердцебиение участилось, слегка похолодели руки. «Да что это со мной? – недоумевал Герман. – Неужели какой-нибудь приступ, не приведи Господь, начинается?». Трагические завывания стали слышны на лестнице еще громче.
– Вот ирод! – не стесняясь, прокомментировала вполголоса Надин. – Жена у него семь раз рожала, восьмого ждет. Представляете, доктор, когда Евстолия однажды ночью не смогла сдержаться и закричала в родах, так он прислал горничную сказать, что барин-де почивают, а сии бесчинные крики ему-де спать не дают. Так она, бедная, кулак себе в рот засунула и кожу насквозь прокусила, до мяса… А сам пальчик, видите ли, ушиб, и ревет, как резаный боров… В жену вцепился, будто помирать собирается, и ее же обвиняет…
Они уже подошли к двери, за которой разыгрывалось представление, и Надин со странной интимностью шепнула ему:
– Вы уж, доктор, освободите ее… Скажите, чтоб жену услал… Она носит тяжело, а эта кровососная банка, ее муж, ей уже сутки прилечь не дает…
«Если все так, то экая же мой пациент скотина!» – успел подумать Герман, открывая дверь. Но то не дверь оказалась, в Врата Судьбы.
Впоследствии именно впечатления того дня помешали ему увлечься стремительно входившей в моду теософией – потому что она содержала учение о реинкарнации. Принять это соблазнительное верование, перелагавшее ответственность за все дурное и награду за все хорошее, совершенное человеком жизни, на некую неизвестную, весьма удаленную во времени и пространстве особу, в которую дóлжно перевоплотиться, ему помешало простое и ясное знание: жизнь у души одна, просто перед единственным воплощением ей показывают все, имеющее произойти. А особо впечатлительные души в поворотные моменты судьбы могут отрывочно вспоминать показанное.
Так и он, определенно, узнал ее – эту маленькую женщину, бледную до синевы от бессонницы, осунувшуюся, с тяжелыми тенями вокруг больших, источающих мощный внутренний свет глаз, с каштановыми прядями, отделившимися от небрежно сколотой прически, в мышиного цвета домашнем платье без единой украшающей детали… В дрожащем свете трех свечей в бронзовом подсвечнике, женщина поднялась ему навстречу со стула, стоявшего в притирку к огромному покойному креслу, где, завернутый в плюшевый плед, с повязкой на голове и ногой, опущенной в эмалированный таз с водой, громко стонал, полулежа, брюхастый мужчина с капризно-брезгливым выражением одутловатого лица. В глазах хозяйки дома, шагнувшей с вымученной улыбкой навстречу доктору, мелькнуло, как и у всех, удивление его молодости. Но, несмотря на это, она уже торопливо приветствовала его:
– Как я рада, что вы пришли, доктор! Проходите же! Я имела смелость пригласить вас, потому что вы, как известно, спасли руку писцу из Ревизионной части, где мой муж служит секретарем. Когда он послал на службу, чтобы сообщить, что не выйдет из-за несчастья, то сам столоначальник отправил к нам посыльного с вашим адресом и настоятельными рекомендациями пригласить вас, потому что про случай с писцом все знают. Боюсь только, не упустили ли мы время: все произошло еще вчера днем, но только сейчас мой муж согласился показаться доктору… – этот надломленный голос с легкой врожденной хрипотцой тоже до сердечного трепета был знаком ему.
Не в каком-то далеком прошлом «воплощении», где оба они могли быть только другими, не похожими на себя нынешних, а именно эту женщину, именно с этими глазами и голосом он знал и любил всю жизнь, но только теперь произошла судьбоносная встреча. Она тоже смотрела ему в лицо с неким смутным узнаванием…
– Евсто-олия! – послышался протяжный требовательный стон из кресла. – Опять твоя несносная болтовня! А между тем никто не спешит избавлять меня от мучений!
Герман взял себя в руки:
– Сударыня, я настоятельно прошу вас теперь же удалиться, а еще лучше – лечь отдохнуть. Вам необходим сейчас длительный сон, чтобы восстановить силы. А я пока займусь осмотром нашего пациента.
Услышав это, пациент, кажется, даже забыл о своих мучениях:
– Сон?! Как это она будет спать, когда ее муж так страшно страдает?! Да еще и по ее же вине! Ведь если бы она, как умелая хозяйка, выполнила свою обязанность и толково распорядилась перенесением проклятого комода, мне не пришлось бы вмешиваться, и ничего бы не случилось! Место жены – у скорбного ложа супруга, и никто не имеет права освобождать ее от святого долга облегчения…
– Вы овдоветь, я полагаю, не хотите?! – резко перебил Герман, взяв привычный тон общения с такого рода страдальцами – тон, от которого они мгновенно принимали вид покорный и испуганный. – Что с вашей ногой, мне еще неизвестно, а вот ваша жена – на грани сердечного припадка, и это видно без всякого осмотра. Сударыня, я настаиваю, чтобы вы немедленно отправились куда-нибудь, где вас не будут беспокоить, и легли отдыхать. Возможно, вам тоже потребуется лечение: впрыскивание камфары, скорей всего… Я зайду к вам позже.
Благодарная улыбка промелькнула на ее губах:
– Хорошо, доктор, я послушаюсь вашего совета, – и она повернулась к мужу: – Никифор Егорович, мне действительно нехорошо, доктор прав. Я скоро опять приду, а пока вам вместо меня поможет доктор…
– …Богданов, – подсказал Герман.
– …доктор Богданов, – эхом отозвалась Евстолия, и он точно знал, что уже слышал эти слова из ее уст.
– Велите, пожалуйста, свету подать, чистой воды побольше, и какую-нибудь старую простыню, которую не жалко выбросить, – мягко попросил Герман. – Вероятно, придется возиться с гипсом…
«Либо мы много раз живем одну жизнь – тогда это и есть ад, либо просто знаем, кого ждем в единственной жизни, чтобы наверняка не пропустить…» – растерянно подумал он.
Мощный большой палец ноги Никифора Егоровича Суханова просто треснул в двух местах, и никакой ампутации не требовалось. Если бы не было на нем нескольких глубоких ран, грозивших нагноением, то следовало наложить гипсовую повязку на всю ступню и спокойно ждать выздоровления в течение месяца, но раны, к несчастью, имелись, поэтому вместо твердой белой калоши Суханов получил мгновенным наитием изобретенную Германом гипсовую лоханку, оставлявшую раны доступными для врача, но надежно фиксировавшую сломанный палец. Чтобы угомонить взвизгивавшего при каждом прикосновении, как огромный свин, титулярного советника[25]25
9-й класс в «Российской Табели о рангах», предпоследний перед 8-м, дающим право на личное дворянство; люди незнатного происхождения чаще всего свою чиновничью карьеру заканчивали именно в этом классе.
[Закрыть], потребовалась чуть не двойная доза морфия, после которой он кротко дал обработать раны и наложить гипс, а потом и вовсе захрапел, откинув голову. Потом была уродливая и стыдная возня с перекладыванием мирно свистящей и хрюкающей туши на кровать, для чего прислугу посылали в соседний дом за дворником и еще какими-то дюжими парнями; поднимали г-на Суханова, как покойника на стол под образа, после этого доктор лично совал каждому гривенник в лопатой подставленную ладонь, и все это время думал: «Как она несчастна; Боже, как же она несчастна; и какой счастливой мог бы сделать ее я…».
Когда Герман уходил, хозяйка уже беспробудно спала, и гораздо милосердней, чем разбудить и ставить диагнозы, было дать ей проспать столько, сколько позволит супруг и две няньки, уже озадаченно торчавшие в коридоре в ожидании барыниных распоряжений насчет укладывания детей, которых, как оказалось, обязательно надо было ритуально вести прощаться на ночь с папенькой. В своем не ослабевавшем вдохновенном порыве Герман зверски распугал всех, сказав, что господа болеют и будить их он запрещает, пока сами не позовут; а паче не велит беспокоить барыню, даже если барин проснется раньше и ее к себе потребует; иначе барыня умрет «от сердца», и он за это обеих нянек и горничную, а заодно и кухарку с ее пожарным, отправит в кутузку в кандалах, а оттуда – прямиком в Сибирь…
«Причудливый быт обитателей и гостей Башни, всегда очень развлекает меня! Везде коридоры, неожиданные повороты, драпировки, странные маски, костюмы, фигуры… Поэт Белый[26]26
Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый), 1880–1934 гг.; поэт, писатель, критик.
[Закрыть] (это, конечно, интересней, чем прозаическое Бугаев, ха-ха!) говорит, что войдешь сюда – и забудешь, в какой ты стране и времени. Вот уж это точно! Той ночью я отвела его в сторонку и настойчиво попросила быть моим судией – прослушать одно мое экзотическое стихотворение, которое мне самой очень нравится: Незримый луч коснется тихих губ /И упадет, согрев две синих тени…/ «Любимая!» – как ветра стон из труб! /Восточный гордый мальчик на коленях. /Он прям и строен, и упрям, как бог, /Он молод, словно смуглый повелитель, / «Все для тебя, любимая – Восток, /Бриллианты и цветы, твоя обитель!» /Как мне хотелось подобрать слова, / Стать гордой и прекрасной, словно праздник. /Он клялся мне, что кругом голова, А я клялась: он мой земной избранник!Борис Николаевич очень внимательно слушал и кивал, а потом спросил, долго ли я прожила на Востоке, раз так похожа на турчанку… Тут нас позвали в залу, где как раз закончился доклад мистического анархиста Чулкова[27]27
Георгий Иванович Чулков, 1879–1939 гг.; поэт, писатель, переводчик, критик.
[Закрыть] – и его всерьез, представьте себе, закидывали апельсиновыми корками, потому что доклад не понравился. Мне тоже дали корку и хотели, чтобы я кинула, но я сказала, что доклада не слышала, потому что читала Белому стихи и, следовательно, не могу «бросать камни»: вдруг доклад показался бы мне интересным? Все сразу бросились к Чулкову и предлагали ему уединиться со мной в одной из комнат и прочитать доклад лично мне – а потом принять из моих рук вознаграждение, какое я сочту нужным… Я со смехом отказывалась: все-таки я еще слишком молода и красива, чтобы оставаться наедине в комнате с чужим мужчиной. И, кроме того, моему жениху это точно не понравилось бы… Такую мою твердость все очень одобрили, а одна странная женщина (она точно курит гашиш, иначе что там в лакированной шкатулочке, которую она не выпускает из рук, за странные «медовые» пилюльки) назвала меня столпом нравственности – и все опять очень смеялись… Пяст[28]28
Владимир Алексеевич Пестовский (Пяст), 1886–1940 гг.; поэт, писатель, теоретик литературы, критик, переводчик.
[Закрыть] подал мне шампанского, встав на одно колено…».
Нет, читать это было положительно невозможно. Герман ощутил в кончиках пальцев странный зуд – настолько неприятно было даже просто держать в руках эту пухлую тетрадку, набитую пошлостями. Он аккуратно положил ее на стол и огляделся: позднее февральское утро понемногу заявляло свои права слабым пепельно-серым светом за раздвинутыми гардинами. Он повернул выключатель настольной лампы с солидным бронзовым основанием, изображавшим вставшего на задние лапы тигра, и свет в окне сразу приобрел перламутровые оттенки, предвещая день с высокими, почти весенними облаками, уже слегка подсвеченными бледной розоватостью. Прошелся по мягкому ковру кабинета Надин, отвел довольно пыльную бархатную портьеру у двери, выглянул в темный коридор. Под дверью столовой мерцала узкая полоска света и неслось вполне разборчивое бормотанье: «… благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием твоим…, – опытная монашка из Новодевичьего исправно продолжала свое скорбное бдение над телом, не заснула, не бубнила себе под нос невразумительное, читала тихо, но четко: – Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя…»[29]29
Пс. 17, ст. 68–69.
[Закрыть].
Хотелось спросить себе чаю и хоть булку какую-нибудь – но он не знал, где спит прислуга, кого нужно – и можно ли! – будить по такому поводу, потому решил пока потерпеть и вернулся в кабинет, обставленный с кричащей, даже вопиющей, а потому неприличной роскошью. Один чернильный прибор из хрусталя, малахита и золота – вычурный, громоздкий, аляповатый – стоил, наверное, его годовое жалованье. А у Надин был так – безделушкой на столе… Картины, однако, она покупала с толком: в потемках почти верилось, что на стенах мелькают этюды Федотова или даже какие-то наброски Иванова. Но при этом не повернуться и не продохнуть было от тряпок вишневого бархата, свисающих в «художественном беспорядке» буквально отовсюду; на драгоценной, красного дерева мебели было неудобно сидеть, потому что зад скользил по шелковой обивке, немецкий полусекретер-полубюро огрызался неожиданными ящичками и тайными дверцами, хранившими сущую ерунду, вроде засохшей розы или надушенного платка с таинственным инициалом – платка, верно, украденного, чтобы целовать его и в него же – плакать, у беспечного владельца, имевшего несчастье стать объектом романтического чувства Надин… «Роза, конечно, тоже была не преподнесена владелице, а сорвана с какого-нибудь куста, у которого состоялась некая знаменательная беседа», – с правомерной после всего прочитанного злостью подумал Герман. Он вспомнил, что однажды после прогулки с Надин не досчитался запонки – дешевой, серебряной – и подумал, что неплохо бы поискать ее сейчас в одном из ящичков – так, чтобы убедиться в подозрениях.
– Пышки, горячие пышки! – пропел вдруг прекрасный, прямо оперный тенор неподалеку.
Герман вздрогнул: одно из окон кабинета выходило на торцевую сторону дома, поэтому крик первого разносчика, расхваливавшего свой товар во дворе, будя заспавшихся в кухнях кухарок, здесь был очень хорошо слышен; Надин, никогда не появлявшаяся в своем кабинете раньше трех пополудни, наверное, даже не знала, сколько по-настоящему вкусных вещей можно купить рано утром, просто высунувшись в окно.
Герман так и поступил: шустро откинул очередную гардину, раздвинул на локтями подоконнике горшки с поникшими растениями, брякнул шпингалетом и рванул заклеенную на зиму раму. Та с треском поддалась, осыпая вату, как снег, – и вот уже влажный, прохладный и все же неуловимо весенний воздух ударил в разгоряченное лицо. Он высунулся до пояса и замахал руками в сторону тепло одетой фигуры с лотком, невозмутимо распевавшей оду пышкам, подняв лицо в светлеющее небо.
– Эй, любезный!
Фигура с достоинством развернулась и медленно направилась в его сторону, а дойдя до окна, оказалась красивейшим молодым мужиком в тулупе, белом переднике и на совесть завязанном треухе; синие, как у барышни на эмалевом медальоне, глаза, были так ярки, что цвет их прекрасно различался и в утренних сумерках:
– Чего тебе, барин? – удивился пышечник необычному покупателю.
– Чего-чего, пышки давай, пять штук. Держи гривенник, – и, смутившись, Герман пояснил: – Доктор я…
– Так это, мы, ваше благородие, по записи торгуем… Расчет в конце месяца, – парень озадаченно ковырялся двузубой вилкой в лотке, укладывая румяные пышные тестяные кольца на слой пергаментной бумаги.
– Да бери уже! – с жадностью хватая сверток с пышками, Герман насильно сунул монетку в руку мужичка. – До конца месяца еще дожить надо…
Он прикрыл окно и стал с наслаждением поедать горячие, подернутые сахарной пудрой пышки, по-студенчески запивая их водой из графина, обнаруженного в углу за кисейной занавеской. Некоторое время он задавался вопросом, питьевая ли это вода или сырая и старая для поливки цветов, а потом мысленно махнул рукой. Он жевал, глядя в окно на оживающую улицу и прихлебывая из горлышка, слушал знакомую и любимую утреннюю музыку петербургского двора:
– А вот спи-ички хорош, бумаги-конве-ертов!..
– Селе-одки, голландские селе-одки!.. Ки-ильки ревельские, ки-ильки!..
– Клюква-ягода-клю-уква!..
– А вот чинить-паять-лудить самова-ары! Кастрюли лудить-паять-починя-ать!..
– Костей-тряпок-бутылок-ба-анок!… – это последнее завывание принадлежало уже забредшему старьевщику, нечастому утреннему гостю.
Со смутным трепетом ожидал Герман появления шарманщика с небольшим органчиком и с несчастной, многократно битой, больной обезьянкой на серебряной цепочке и в платьице, наученной кувыркаться под жалобный скрип тяжелого ящика-катеринки[30]30
Распространенное русское название шарманки.
[Закрыть], выдававшего всю ту же «Сharmant Katarina»[31]31
«Прекрасная Катарина»; звуча по-французски как «Шарман Катарин», послужила появлению одного из названий инструмента.
[Закрыть] или несколько фальшивых аккордов «На сопках Маньчжурии», – но ему, конечно, был еще не сезон…
В светлеющем с каждой минуте мареве то и дело мелькали белые фартуки разносчиков снеди, даже просеменил в пестром халате смешной «ходя-ходя»[32]32
Торговец-китаец.
[Закрыть]; под конец, сопровождаемый целым кошачьим оркестром, прошествовал с узким длинным лотком продавец печенки для кошек по две копейки порция, и Герман вспомнил, как студентом брал ее на гривенник, якобы для кота, а сам жарил для себя на маленькой керосинке и съедал прямо со сковородки, подбирая потом вкусный сок вчерашней горбушкой ситного: оплаченный «стол» был скуден и недостаточен для еще растущего организма… Он вдруг с улыбкой подумал, что тот лоточник ни минуты не обманывался насчет прожорливого животного, будто бы поедавшего в день по пять порций и все еще не околевшего от обжорства, и шел к горемыке-медикусу первому, зная, что тот сделает его торговле хороший почин.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































