Текст книги "Крик Алектора"
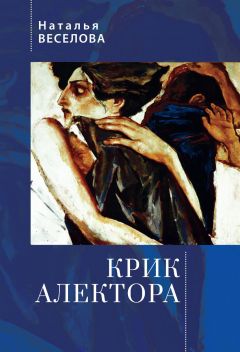
Автор книги: Наталья Веселова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В коридоре уже слышались мелкие шаги расторопной прислуги, можно было – но теперь не хотелось! – требовать чаю; выглянув, он велел позвать монашку, сунул ей за услуги серебряный рубль, вновь сел к секретеру и наугад раскрыл трепаную тетрадку, все-таки влеко-мый собственным образом, запечатленным там, – пусть и пропущенным через чужой, вовсе не проницательный, все и вся искажавший взгляд…
«Счастливейший день в моей жизни пришелся на Вербную среду[33]33
Среда шестой недели Великого Поста.
[Закрыть], так что последовавшая Страстная с ее тремя днями говенья и приобщением в Чистый четверг оказалась неподобающе радостной. Сколько ни пыталась я проникнуться приличествующим случаю мрачным покаянным настроением – все равно постоянно ловила себя на мысли, что невольно улыбаюсь, вспоминая тот яркий, серебряно-синий от вербы и неба день. А всего-то приехала я на Конногвардейский, имея смутную мысль купить на Вербе[34]34
Праздничный базар на Вербной неделе.
[Закрыть] всем знакомым по маленькому смешному подарочку, вроде обезьянки на булавке или какой-нибудь галантереи, да и просто вербы набрать побольше, чтобы велеть украсить иконы хоть в нескольких комнатах. Все шесть лет, с тех пор, как вышла из института (отсидев там даже класс пепиньерок[35]35
Девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение (женский институт) и оставленная при нем для педагогической практики.
[Закрыть], что было условием в завещании бабушки), я всегда шла за вербой сама, не поручая прислуге, потому что однажды выяснилось, что мне очень нравится выбирать ее, прикидывать, на каких ветках ярче и пунцовей кора, а тугие, как бы из жемчужно-серого бархата, шарики чаще и крупней. А еще мне нравились те, которые уже покрылись золотистым пухом, готовые раскрыться: когда Пасха не ранняя, их обычно больше… Игрушки я тоже всегда любила, как маленькая. Вот и в ту благословенную среду я не стеснялась, идя к своему экипажу с охапкой вербы, играть на ходу пестрым раскидайчиком[36]36
Маленький бумажный мячик на резинке.
[Закрыть], за что злой гимназист, подкравшись сзади, сбил мне шляпу с головы на нос, а грубый народ вокруг расхохотался… У меня навернулись было слезы обиды, но я быстро успокоилась, рассудив, что, раз я веду себя, как кухаркина дочка, то меня и примут за горничную, принарядившуюся в даренную барыней ношеную шубку… Пришлось рассмеяться вместе со всеми – и в тот же момент я увидела моего Г., как раз весело покупавшего «американского жителя»[37]37
Чертик в стеклянной, наполненной водой трубке, прикрытой резиновой пленкой, при нажатии на которую вертелся; очень популярная до Октябрьского переворота 1917 г. игрушка..
[Закрыть] у разбитного мужика, сопровождавшего товар обычной присказкой: «Черт водяной, питается травой, лешему свояк – стоит пятак!». Забыв про все, я протиснулась к Г. и, пользуясь ярморочной свободой, легонько хлопнула его по плечу: знакомство наше можно было считать довольно тесным, потому что весь минувший месяц, когда ужасный Евочкин муж преувеличенно долго хворал, требуя к себе внимания, доктор Б. исправно навещал его, а я – Евочку, чтобы не дать ей сойти с ума в этой нездоровой обстановке.Правда, если совсем уж не кривить душой, то из-за нее я приходила только первые дни, когда Никифор Егорович был особенно несносен и во всем искал Евочкиной непростительной faute[38]38
Вины (фр.).
[Закрыть]. А потом… Да, потом между мною и доктором установилось что-то вроде тайного союза: внешне соблюдая безупречный светский этикет, мы разговаривали улыбками и глазами, и на этом пути продвинулись так далеко, что к концу нудного лечения надутого дурака Суханова были вполне уже близкими людьми, заговорщиками нарождающейся любви. Когда Г. спускался от пациента, Евочка взяла обычай непременно поить его чаем с постными коврижками и пряниками, внимательно расспрашивая о том, как идет выздоровление ее мужа. Только я одна знала, что моя подруга обманывает самое себя: на самом деле, будь она хоть-чуть свободней хотя бы в мыслях, то мечтала бы о том, чтобы у благоверного развилась гангрена, и тот бы скончался в страшных мучениях, оставив ее пусть бедной – но свободной вдовой титулярного советника и хозяйкой собственного дома. Мечтала бы, если бы могла допустить в себе такие чувства. А чувства эти, принимая во внимание личность ее дражайшего супруга, были бы вполне естественными, ибо простительно жертве на пытке мечтать о смерти палача… Но Евстолия слишком добра, чтобы понять саму себя, увы… Разговаривая с ней, Г., конечно, вполне разделял это мнение, что было понятно из его грустно-вопрошающего взгляда, который он исподтишка поднимал на меня. Я незаметно кивала и ободряюще улыбалась, переводя разговор в область воспитания детей, лечения воспалившегося отростка слепой кишки или постной стряпни… Кивала – и мечтала о том, чтобы хоть раз остаться с доктором Б. наедине и поговорить по-настоящему – голосом, а не глазами… Почти собралась с духом в следующий раз предложить подвезти его после визита, но, когда через день с этим твердым намерением я приехала на Васильевский, оказалось, что Суханов сегодня неожиданно заявил, что здоров, приказал снять гипсовую повязку и скупо расплатился. С обычной грубостью он распорядился при мне и чуть не расплакавшейся от стыда жене: «И довольно, матушка, этого пройдоху-лекаря поить-кормить задарма… И так, как липку нас ободрал, не пойти бы по миру… Эй, Фроська – или кто там есть в прихожей! – проводи-ка господина, да поживей!». У них всего одна прислуга и кухарка со своим горячим, да две няньки неученые, которые не знаю, как детей еще не угробили, – но обрадовались, злыдни, унижению образованного человека. Он побледнел и, не попрощавшись, быстрым шагом покинул гостиную, и слышно было, как в прихожей кто-то из деревенских баб небрежно накидывал на него пальто с издевательским «Пожалуйте-с»… Я, конечно, не осмелилась броситься вслед, что выглядело бы уж совсем не comme il faut[39]39
Не так как надо (фр.); русская калька – «не комильфо».
[Закрыть] в тот момент… Евочка закрыла лицо руками от стыда, а я – от горя: в тот момент я вообразила, что потеряла свою любовь навсегда.И вот, не прошло и недели, как вдруг я вижу его – и где! – на Вербе! – в самом, казалось бы, неподобающем месте для встречи двух влюбленных из хорошего общества! Итак, я похлопала его по плечу, и он обернулся… Не могу описать того живейшего восторга, который вспыхнул в эту секунду в его голубых, как вербное небо, глазах!
– Надежда Николаевна! – и мы оба уже протягивали друг другу руки, причем, от волнения он сорвал перчатку только в последний момент. – Как же я рад вас видеть! Откуда вы здесь?
– Ах, на Вербной я каждый год сюда езжу… – пробормотала я, словно оправдываясь за то, что оказалась в столь экзотическом виде: с шариком на резиночке, в шляпе, едва задвинутой обратно после дерзкой выходки мальчишки, с пучками рассыпающихся веток и повисшей на тесемке муфтой. – Люблю сама выбирать вербу и покупать милые безделушки… И потом, эта праздничная суета… Толкотня… Все это меня так будоражит… «Улыбкой ясною природа /Сквозь сон встречает утро года…»[40]40
А.С. Пушкин «Евгений Онегин».
[Закрыть] – помните? Вот, например, вафельщик… Когда еще можно будет подойти и так запросто…– Сударыня, вы желаете вафлю? – сразу же услужливо подхватился он.
– Да! Да! С кремом! – по-девчоночьи лихо согласилась я.
Подхватив под руку, он ловко повел меня к торговцу, и три минуты мы оба, завороженно, как приготовишки, наблюдали за простым, но торжественным процессом: пожилой серьезный грек заливал на чугунную дощечку жидкое тесто, накрывал другой и отправлял на минутку в жаровню; потом румяную, но еще мягкую вафлю он сворачивал в кулек, который мгновенно заполнял сливочным кремом… «Сейчас я попробую это лакомство в шестой раз!» – дрожа в странном нетерпении, подумала я. Г. с улыбкой передал мне трубочку – она была ужасно горячая сквозь бумажку, и я подумала, как это было бы мило с его стороны, если б он взялся держать вафлю сам и кормить меня с рук – но, конечно, просить о таком не дерзнула… Для этого он, наверное, должен все-таки быть официальным женихом… или даже мужем…
– А вы что же? – удивилась я, заметив, что себе Г. вафлю не покупает. – Не любите?
– Н-не знаю… – вдруг замялся он. – Я их никогда на Вербе не пробовал… – он совсем смутился и замялся: – Я, видите ли, Надежда Николаевна… Я пост соблюдаю… Все шесть недель и Страстную… И даже рыбы не вкушаю, кроме Вербного Воскресенья и Благовещенья. Но зато Пасха тем дороже выходит, и причащаешься, вроде бы, со смыслом… После одного случая… Сразу после гимназии… начал. И отвыкать не намерен… А крем тот сливочный – скоромный, стало быть…
Я чуть не выронила свою вафлю:
– Вы?! Но вы же доктор, образованный человек!..
– А вы считаете, что посты заведены только для черни? – тихо спросил он.
Я не нашлась что ответить… Так вот он какой! Что ж, таким я еще больше его люблю! И пробормотала:
– Просто у меня недостаточно сил на такие подвиги… Но на Страстной я говею! Всегда говею! Это с института еще привычка, там распределяли, кому когда говеть, и мне почему-то часто выпадала именно Страстная… Правда, рыбу всегда на обед давали, конечно… А этот базар… Вы не думайте… Я не скоромное есть пришла, я просто хотела вербы купить и подарочки знакомым, вы ведь тоже… – и тут, охваченная мгновенной вспышкой ужаса, я запнулась на полуслове…
«Для кого он покупал чертика?! Не матери же или сестре! А вдруг он – женат?! И уже дети есть! Вот и пришел, как добрый отец, купить им смешных игрушек! А я-то… Боже мой, Боже мой!». На моем лице, наверное, изобразилось такое смятение, что Г. попросту испугался. Он сжал мой локоть:
– Давайте переменим тему разговора. Вижу, она болезненна для вас… Если я невольно затронул какие-то, быть может, неприятные воспоминания (а вряд ли – о женском институте! – они могут быть слишком приятны), то прошу покорнейше простить.
– Вы… для кого… «американского жителя»… покупали?.. – выдавила я с жалкой улыбкой жертвы, желая расставить все точки над «i» сразу, чтоб не мучить себя понапрасну. – Для… – тут я вздрогнула, – … сынишки, верно?
Но Г. беззаботно расхохотался:
– Помилуйте! Откуда было взяться у меня сынишке, когда сначала – Академия, потом больница, операции, визиты к пациентам! Тут и захочешь за барышней поухаживать – да где ее найдешь, эту барышню, когда только к ночи, бывает, освободишься и спать валишься, как подкошенный… Нет, игрушка эта для одного слабоумного юноши, который лежит у меня в палате после операции… Мы все его жалеем и иногда приносим гостинцы. Мать у него очень бедная, на поденщину ходит, а отца и вовсе нет… У нас ведь больница для бедных, вы, может быть, знаете…
Я так обрадовалась, что почти крикнула:
– Я тоже хочу! Давайте, я ему что-нибудь куплю и передам!
Мы огляделись в довольно густой шумной толпе: отовсюду слышались задорные крики продавцов, расхваливавших свой товар, смех покупателей и зевак, треньканье шарманки, надрывные крики попугаев и свист канареек в клетках – все это слилось для меня в одну торжественную музыку любви… Совсем рядом раздался зычный голос:
– А вот теща околела и язык продать велела! – и мы разом обернулись на продавца знаменитых «тещиных языков»[41]41
Свистулька в виде картонной трубочки, которая, когда ее надували, превращалась в подобие длинного красного языка с перьями на конце.
[Закрыть].Я сразу же купила один и передала Г. для несчастного больного мальчика. Мы вышли с базара, отнесли вербу в мою карету, а потом пешком добрались до набережной и долго стояли у парапета, глядя, как ладожский лед неровными серо-желтыми глыбами несется по невской стремнине, и разговаривая о единственных общих знакомых – все тех же Сухановых: я с возмущением рассказала Г. историю их брака, мимоходом возмутившись попранием женских прав – с целью посмотреть, как он к этому отнесется. Г. горячо поддержал меня, утверждая, что браки должны заключаться только по взаимной большой склонности, а выдавать бесприданницу за кого попало, лишь бы сбыть с рук, – свинство…
Именно с того благословенного дня мы стали видеться с определенной регулярностью, благо назначать свидания нам было удобно: освободившись, Г. иногда телефонировал мне из больницы, я ехала ему навстречу, и мы шли пить чай или на прогулку, а однажды я даже решилась пригласить его к себе домой и показать свою студию с незаконченной картиной на мольберте, которую он очень похвалил. Но, к великому моему сожалению, встречи наши были не так часты, как мне бы хотелось: ведь после службы в больнице Г. часто ездил с частными визитами в разные концы города, возвращаясь порой поздно ночью. В те дни, когда я, устав ждать, телефонировала в клинику сама, а он говорил, что встреча опять не состоится, я читала ему в утешение свои стихи…».
Если, читая предыдущие отрывки, Герман испытывал целую гамму неприятных чувств – от раздражения через неприязнь до откровенного гнева и возмущения, то теперь к горлу подступила острая сентиментальная жалость. Бедная, бедная, глупая большая девушка Надя с отдаленными немецкими корнями, обеспечившими ей жалкое «фон», – такое же округлое и в золотом пенсне, которое она из кокетства надевала, рассматривая то, что считала «произведением искусства»! Они никогда не ходили вместе в театр (Герман боялся столкнуться со знакомыми и сгореть от стыда), но легко было представить, как она томно лорнирует публику полной рукой в белой перчатке до локтя. Стихи Надин были не стихами, а катастрофой, в голове иногда назойливо всплывали вычурные, как и ее шляпа, нелепые строки, которыми она угощала его по телефону: «Держу в ладонях горсть хмельного инея, / Твой образ обжигающе жесток…» – а он стоял у черного аппарата, уткнувшись лицом в стену и чувствуя спиной насмешливые взгляды коллег, считавших, что молодой доктор разговаривает с невестой… Однажды он простоял так, слушая витиеватые вирши, до тех пор, пока позади не раздалось требовательное покашливание: оглянувшись, он обнаружил главного хирурга, давно уже терпеливо ждавшего своей очереди телефонировать – и терпение, наконец, потерявшего.
Ту среду Герман тоже запомнил как переломный день. Ни на какую Вербу он, конечно, не собирался, потому что коробку марципана с картинкой, изображающей упитанного ангелочка, сидящего, судя по цвету ветвей, на кусте ивы, он подарил своему подопечному оперированному идиоту еще утром, а украшением скромной квартиры к праздникам занималась только старая Катя. Просто он рано отделался от визита на Вознесенском и вдруг оказался совершенно свободным в пять часов пополудни, а день был так ярок и чист, так явственно ощущалось первое дыхание весны, что даже крайняя, давно привычная усталость не погнала его домой на Бассейную, а смутное радостное предчувствие заставило неторопливо, со вкусом пересекать Исаакиевскую площадь, улыбаясь на ругань извозчиков, трепетать жадными ноздрями, как почуявший запах овса молодой мерин, – только пахло талым снегом, навозом и Невою… Впрочем, он, наверное, впоследствии придумал себе это романтическое предчувствие, потому что уже неделю, с тех пор, как удачно вылеченный, но неблагодарный пациент самым неожиданным и хамским образом велел почти что выгнать его из дома, Германа так и тянуло хоть глянуть в сторону Васильевского, а глаза сами искали в любой толпе невысокую и неприметную фигурку Евстолии. Странное дело! Он знал, что любимая женщина ждет шестого ребенка от прегнусного мужчины, своего мужа, в любовь ее к которому, пусть даже отцветшую, увядшую и опавшую, он не верил ни одной минуты. Молодой человек прекрасно понимал безнадежность и даже некую «непрактичность» собственной любви – и несомненную греховность ее – тоже, но рад был своей неизбывной муке и готов довольствоваться малым – теплым взглядом поверх откушенного кренделька, медленным движением бледной руки, протягивающей полную чашку на блюдце, всегда робкой, словно нарушающей какой-то строгий запрет, улыбкой… Теперь все это грубо отняли и перечеркнули: явиться в дом было немыслимо, караулить на улице – так «барин» не задумается и околоточного кликнет, да и в участок отволокут, чего доброго… И вообще, сказано же: «Не пожелай…»[42]42
Начало 10-й заповеди Господа по Синодальному переводу Библии.
[Закрыть].
А дальше все случилось как в сказке: миновав Конногвардейский манеж, он ускорил шаг, содрогаясь от варварских звуков, несшихся с Вербы, инстинктивно желая быстрей пройти место скопления одуревшего от веселья народа, – и почти налетел с разбегу на Евстолию, как раз сошедшую с извозчика. Разминуться было невозможно. Скромная шляпа, серая накидка, отороченная старым собольком, весьма потертая муфта и лицо, вспыхнувшее от счастья, которое не удалось в первую секунду выдать за подобающее случаю выражение светской любезности. А он свое и не думал скрывать, да и организм не позволил: голос сорвался и охрип, задрожали губы, спутались слова на языке:
– В-вы… В-вы… Еств… Евл… Евстолия…
А она уже преодолела первый порыв, легонько засмеялась, подсказывая: «…Владимировна», – и подала руку в перчатке – руку, с которой он забыл, что делать, захватил в обе ладони и начал мять и трясти, не отрывая взгляда от ее порозовевшего лица.
Евстолия руку не отнимала, продолжая неотрывно смотреть Герману в глаза со странным вниманием, словно ища что-то важное в глубине его взгляда, – нашла и удовлетворенно кивнула сама себе…
– Доктор, вы, конечно, приехали на Вербу? – наконец, нашлась она и быстро-быстро заговорила: – А я вот тоже вырвалась. Никифор Егорович всегда приезжает домой в полдень, чтобы пообедать и соснуть пару часов, а в три опять собирается и едет на службу – и уж до семи… Так столоначальник завел – никто, конечно, противиться не смеет… Все привыкли… И вот я с шести утра до полудня с детьми и хозяйством кручусь, потом слежу, чтобы мужу обед правильно подали, и сама поем… Пока он спит – дети гуляют, в любую погоду, даже в ливень и мороз, чтоб не тревожить, а я рукодельничаю… Но вот после трех часов иногда удается сбежать, когда детей покормят и уложат на дневной сон… Правда, в семь должна быть, дома, как юнкер на плацу, иначе… Неважно, что иначе… А на Вербу я каждый год обязательно езжу, старшим детям – остальные-то совсем малыши еще – за игрушками, чтобы было чем удерживать их в воскресенье на обедне… Они уже знают, что получат игрушки, и стоят тихо, не ноют… И вот, мы всей семьей приезжаем домой и садимся за рыбу – на Вход ведь положено рыбное[43]43
Двунадесятый церковный праздник Вход Господень в Иерусалим, он же – Вербное воскресенье, когда по уставу разрешается на трапезе рыба.
[Закрыть] – и они все такие тихие и кроткие, едят быстро и все смотрят на меня… А когда папенька разрешает нам встать из-за стола, мы гурьбой бежим в спальню, пока Никифор Егорович не поднялся наверх… Я быстро раздаю им всех этих обезьянок и чертиков, говоря, чтоб играли тихо-тихо… Няньки их уводят на первый этаж, в детские, и в доме у нас воцаряется тишина… Дети играют, я вышиваю, а папенька не сердится и ложится вздремнуть… Хоть на полчасика дух перевести, а потом…
Герман внимательно слушал эту на первый взгляд бестолковую речь, за которой так и вставала гнетущая, полная угрозы атмосфера дома, где даже детский смех под запретом, ребят выгоняют на улицу в снег и холод, подарки дарят так, чтобы не увидел глава семьи, хозяйке можно выйти из дома лишь тайком, а из-за стола встать только после разрешения… Среди немногочисленной прислуги, наверняка, есть доверенные лица хозяина, а проще – шпионы и докладчики, считающие съеденные пряники и потраченные медяки…
– Идемте… – прошептал он, сглотнув. – Идемте, купим, все что хотите… Много-много игрушек купим вашим деткам!
У первого же развала, где она придирчиво выбрала три разноцветных, украшенных фольгой раскидайчика, Герман полез в карман в поисках мелочи, и между ними завязалась короткая борьба за право заплатить. Он с холодным ужасом понял, что своих денег у Евстолии нет ни копейки, что она урывает и копит на эти грошовые подарочки крохи из, наверняка, подотчетных денег, выдаваемых мужем на хозяйство, а в этом спартанском «хозяйстве» не предусмотрены ни шпильки для волос, ни лавандовое мыло, ни лайковые перчатки, ни резинки для чулок, ни одеколон, ни пудра – словом, ничего из тех будничных мелочей, которые как воздух необходимы женщине; представил, насколько мучительно ей просить у сурового супруга пять копеек на коробочку крючков для корсета или полтинник на пару чулок, предъявлять протертые локти на трижды перешитом платье, чтобы вымолить средства на самое простое новое – да еще и получать постоянно высокомерные отказы вкупе с упреками в расточительности, и с болезненной жалостью подумал, что Евстолия просто крадет эти деньги, чтоб избежать унижения… У Германа слезы выступили на глазах и, проглотив сухой ком в горле, он решился:
– Евстолия Владимировна, я хочу, чтобы вы знали: я все понимаю о ваших… обстоятельствах… Располагайте мной, как вам угодно, и не стесняйтесь… Не считайте себя моей должницей – это я ваш должник по гроб жизни, потому что… Потому что, не узнав вас, я не узнал бы самого нужного и драгоценного – того, чем жив человек… Поверьте, детские безделушки – не цена для такого знания… Весь материальный мир – не цена…
Он думал, Евстолия не поймет, испугается, возможно, даже возмутится таким почти признанием малознакомого человека, начинающего доктора из больницы для бедных. Она подняла на него серьезный светлый взгляд, и молодой человек увидел, какое скорбное и смиренное выражение лица у этой юной женщины, выражение, делавшее ее на десятилетие старше:
– Спасибо вам, доктор, за вашу заботу. За понимание. За доброту и щедрость. Пока вы говорили, я думала от последней отказаться, считая, что она может сблизить нас… излишне. Но теперь поняла – я обязана согласиться, потому что… – голос ее отчетливо дрогнул, и Герман понял, что она едва сдержала слезы, – …потому что, если не считать неразумных детей и моей бедной Нади (от нее я беру иногда подарки – но только детям, ведь она всем им крестная)… У меня никого в жизни нет. Иногда и словом не с кем перемолвиться. Поверьте, я часто вижу в глазах людей снисходительную жалость – например, когда сослуживцы мужа и их жены приходят с визитами, – но искреннюю доброту – никогда. В вас я впервые встречаю то, что давно ждала почувствовать в живом человеке, и бессовестно с моей стороны было бы лишать вас радости сделать мне приятное. Поверьте, даже все эти копеечные игрушки в моем положении – не пустяк… Вы даже не представляете…
Герман стиснул ей руку:
– Больше ни слова, – и немедленно заплатил пятиалтынный за раскидайчики, а потом, как сумасшедший, устремился к другим лоткам.
Были куплены обезьянки, заводные канарейки, «американские жители», «тещины языки» – еще какие-то вербные пустячки, каждый строго в трех экземплярах – и большой лист расписной бумаги, чтоб завернуть все это… Евстолия благодарила очень сдержанно, понимая, что не он ей, а она ему в каком-то смысле сделала одолжение. Тогда молодой человек купил в мелочной лавке маленькую синюю птицу с булавкой для дамской шляпы и попросил разрешения самому приколоть ее:
– Пусть и у вас останется что-то на память об этом дне…
Евстолия не сопротивлялась. Достав крошечные дамские часы на серебряной цепочке, она быстро взглянула на них:
– Седьмой час. Мне пора… Никифор Егорович может вернуться раньше… – и грустно добавила: – Если он не застанет меня дома, то мне несдобровать.
– Он смеет поднимать на вас руку?!! – почти взревел потрясенный Герман.
– Нет пока еще… Но думаю это не за горами, – обреченно отозвалась Евстолия.
Он побелел от гнева:
– Знал бы я – до колена бы ему ногу ампутировал! А я палец лечил! О, идиот… Но наверняка можно найти на него управу… Обратиться к закону…
– Закон делает жену без собственных средств полной рабыней мужа, – чуть усмехнулась Евстолия. – У меня ведь и паспорта нет[44]44
Если женщина не успевала получить собственный паспорт до совершеннолетия, в 21 год, выйдя замуж раньше, то, по законам Российской Империи, вписывалась, как и дети, в паспорт мужа и лишалась прав на отдельное проживание, передвижение и вообще личной дееспособности (за исключением имущественной), и могла вернуть эти права, только овдовев или получив развод (последнее было редкостью); такое положение дел сохранялось до 1914 года.
[Закрыть]. Надя уточняла у своих знакомых, даже к адвокату ходила – ведь она у нас такая деятельная… Но и она признала, что в моем случае все бесполезно. Было б у меня приданое, от которого он зависел бы, – тогда другое дело.
– По-моему, я скоро сделаюсь революционером, чтобы освободить всех несчастных, ради вас одной, – почти серьезно сказал Герман.
Евстолия опустила глаза:
– Я не стою такой крови. Вспомните французскую революцию… А у нас в пятом году что творилось – забыли? Я в те дни была больна после родов, но прямо под нашими окнами жандарм кого-то застрелил. Хорошо, что не дошло до гильотины, как в Париже. Но в следующий раз вполне может дойти, не правда ли? А какая гарантия, что и меня не гильотинируют вместе с другими? Вот и пропадут все ваши революционные труды втуне… – горько улыбнувшись, она сама себя перебила: – Мне решительно пора, кликните извозчика, пожалуйста.
В эту секунду рядом раздался зычный крик:
– Рытцать копеек! Рытцать копеек! – то вейка[45]45
Извозчики-финны, катавшие людей во время народных гуляний, в основном, на Масленице; стоимость поездки всегда была тридцать («рытцать») копеек.
[Закрыть] ссадил ездока и зазывал нового.
– Раньше они были только на Масляной… – улыбнулась Евстолия.
– А он во времени заблудился! Аргонавт, как у Уэллса, – стараясь во что бы то ни стало перебить ее и свою грусть, рассмеялся Герман и махнул финну. – Милости прошу, Евстолия Владимировна, прокатиться на машине времени[46]46
«Аргонавты времени» (рассказ, 1888) и «Машина времени» (роман, 1895) Г. Уэллса
[Закрыть].
Они забрались в открытую коляску, и бодрая крутобокая лошадь, вся в разноцветных ленточках, рысцой потрусила к Благовещенскому мосту… Евстолия остановила извозчика сразу за Малым проспектом, говоря, что подъехать к дому на вейке и с кавалером немыслимо, и решительно пресекая все попытки проводить ее. Герман только и сделал, что помог ей выйти и быстро поцеловал теплое запястье над перчаткой – а она уже рвалась прочь, тревожно оглядываясь по сторонам… Он сел обратно в коляску и не велел кучеру трогаться до тех пор, пока серенькая, как весенняя воробьиха, фигурка не скрылась из глаз, смешавшись с пестрым человеческим ручейком…
– Ну, что ж – обратно… – вздохнув, велел он, зная, что вейка должен вернуться к базару, и смутно желая оказаться там снова.
На Конногвардейском он рассеянно ходил в толпе, иногда ловя себя на мысли, что улыбается, будто милая тень все еще шла рядом и звучал над плечом дорогой надломленный голос… Здесь они впервые серьезно заговорили рядом с тележкой, где горой навалены раскидайчики… А у этого торговца он покупал дурацких «американских жителей»… И вдруг мелькнула смутная мальчишеская мысль: «У нее хоть синяя птица на шляпе осталась на память об этом дне, а у меня – ничего!» – и он немедленно купил себе глупую игрушку, уже предвкушая, как будет нажимать пальцем на резинку, будя сонного чертика, немедленно вспоминать все подробности отдаляющегося во времени яркого вечера – и улыбаться после тяжелого дня, полного чужих страданий и собственной усталости.
В этот момент кто-то залихватски хлопнул его по плечу, Герман вздрогнул, обернулся и увидел Надин фон Леманн. Ее прыщавое лицо под почему-то криво сидевшей шляпой, увенчанной пестрыми фетровыми кустами из цветов и листьев и торчавшими отовсюду перьями, расплылось в жабьей улыбке – но впервые он от чистого сердца обрадовался ей, просто потому, что только что пережил свою нечаянную радость встречи с любимой, и она осветила и освятила весь день наперед. Хотелось отмерить долю радости каждому встречному – почему бы не фон Леманн – некрасивой, бездарной, глуповатой – безнадежной? Купил ей вафлю с кремом – про то, что Великий пост надо соблюдать не одну неделю, она, конечно, и не слыхала! – и, как дурак, соврал, что игрушка, которую он не успел убрать в карман, куплена для блаженного из больницы, чем вызвал ее, не иначе как великопостный, порыв сделать доброе дело почти бесплатно. Так и вертелось на языке сказать ей – мол, чем за пятачок «язык» покупать, пожертвовала бы тысяч сто из своих даровых миллионов для Евстолии – тайно, чтоб не обидеть ее! Ведь легко могла эта сентиментальная богатая старая дева, даже днем надевавшая на толстый мизинец бриллиант не менее карата, покупавшая крестникам дорогие и ненужные подарки, устроить подруге, которую так жалела, какое-нибудь «дядюшкино завещание» через своих знакомых – и тем освободить ее от ежедневных издевательств мелкого титулярного советника! При богатой жене муж-бедняк быстро присмиреет! За такое Господь, пожалуй, и при жизни вознаградил бы… Так ведь нет, такое ей в завитую голову и не приходило!
Пока они шли к Неве, раздражение Германа все-таки проснулось и грозило испортить впечатления всего дня – особенно, когда Надин, пламенея праведным гневом, рассказала, как тетка Евстолии, взявшая девочку в свой дом после смерти ее родителей, считала себя благодетельницей, воспитывая бедную сиротку-племянницу наравне с родной дочерью и отдав в тот же институт. Наравне-то наравне, но приданого ей не положила ни копейки и выдала замуж семнадцатилетней за своего вдового и бездетного дальнего родственника, чем-то ей тоже обязанного и не желавшего упустить редкую возможность arracher la fleur l’innocence[47]47
Сорвать цветок невинности (фр.).
[Закрыть], что и сделал с потрясающей жестокостью и цинизмом, силой уведя молодую в спальню, когда гости еще сидели за свадебным столом, – а потом, пылающую от стыда и оскорбления, растрепанную и заплаканную, приволок обратно уже без fleur d’orange[48]48
Дословно – «цветок апельсина» (фр.); русская калька – «флёрдоранж» означает венок из этих цветов на фате невесты как символ ее невинности.
[Закрыть], торжественно и со смаком объявив всем присутствующим о свое подвиге, причем пьяные чиновники сально зареготали, прыснули их разодетые и тоже подвыпившие супруги… Герман вспомнил, как в этом месте подробного и весьма красочного рассказа у него мелькнула полностью оформленная мысль подстеречь и убить Суханова, – мысль, конечно, немедленно подавленная, но ужаснувшая его до глубины души… А Надин, не подозревая, какую пронзительную боль причиняют ее слова, продолжала размеренно повествовать о том, как муж Евстолии за человека жену не почитал вовсе, причем, нарочно не унижал никогда: для него обращаться с ней хуже, чем с вещью, которой все-таки дорожат из-за денег, некогда заплаченных, было делом обычным и само собой разумеющимся – ведь не доход она принесла, а одно разорение, как лишний рот и расплодительница «захребетников».
«Жалея» подругу, Надин лично вызнала у знакомых раскованных художниц и особо высокой моралью не отличавшихся поэтесс все про патентованные французские средства, предупреждающие зачатие, – и принесла их Евстолии как-то на Святках в качестве подарка, чтобы освободить ее по мере возможности хоть от ужаса ежегодных родов. Но, воспитанная в строгой религиозности, несчастная с возмущением и даже со слезами отказалась, как с недоумением вспоминала Надин: «Вот слышишь – в соседней комнате твои крестники с няней поют у елки? Слышишь? Неужели тебе не страшно представить, что чей-то из них голосок мог сейчас не звучать в этом хоре?! – с ужасом воскликнула она. – Тебе простительно, ты девица и сама не знаешь, что делаешь! Убери немедленно от меня эту гадость и никогда не упоминай о таких безнравственных вещах! Иначе… Иначе ты мне больше не подруга…». В глазах у Германа потемнело и остро застучало изнутри в темени, будто-кто-то проламывался оттуда на свет, – как врач, он понимал, что это следствие повышения кровяного давления, и запросто может лопнуть в мозгу какой-нибудь сосуд – правда, неловко утешил себя тем, что для апоплексии он, как будто, еще молод… А между тем, Надин, как ни в чем не бывало, принялась пытать его вопросами о женских правах – полностью раздавленный ее рассказом, он несуразно бормотал в ответ, выражая на этот раз полное согласие.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































