Текст книги "Твой девятнадцатый век"
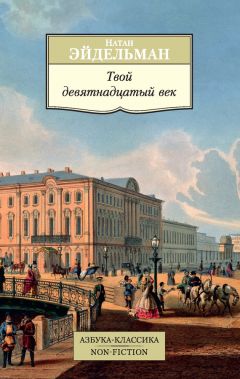
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Вероятно, взятые Ивановским бумаги, – писал их первый исследователь Вячеслав Якушкин, – были предназначены к выдаче родным декабристов, но ими получены не были; быть может, Ивановский взял их даже с разрешения своего начальства».
Ленинградские ученые Вацуро и Гиллельсон пристальнее пригляделись к надворному советнику и литератору Андрею Ивановскому в период после окончания декабристского процесса, когда приговоры были приведены в исполнение… Как-то уживались в Ивановском две довольно различавшиеся натуры. Исправный, культурный чиновник служит в III отделении, то есть тайной полиции, и одновременно печатается в журналах и альманахах. В 1828 году он сам издает альманах «Альбом северных муз», где рискует, разумеется без указания на авторство, напечатать смелые строки приговоренных людей – Рылеева, Александра Бестужева; позже пытается помочь ссыльным Федору Глинке, Александру Корниловичу.
Все это по тем временам было чрезвычайно смело, пахло каторгой или солдатчиной… Между тем шеф жандармов А. Х. Бенкендорф очень доволен Ивановским, вполне доверяет ему, соглашается быть «восприемником новорожденной дочери».
Когда до шефа дошло, что Пушкин находится в подавленном состоянии из-за запрещения ехать в армию, действовавшую против Турции (1828), Ивановскому было приказано навестить поэта и ободрить. Сохранились воспоминания чиновника об этом визите. Узнав, что можно ходатайствовать о присоединении к одной из походных канцелярий, Пушкин оживился и будто бы воскликнул:
«Вы не только вылечили и оживили меня, вы примирили с самим собой, со всем, и раскрыли предо мною очаровательное будущее! Я уже вижу, сколько прекрасных вещей написали бы мы с вами под влиянием бусурманского неба для второй книжки нашего „Альманаха северных муз“…
Мы обнялись.
– Мне отрадно повторять вам, что вы воскресили и тело и душу мою».
При этом свидании Ивановский, конечно, не признался Пушкину, что держит дома коллекцию его писем к Рылееву и Бестужеву. Этот секрет он открывал только самым близким людям и, кажется, вместе с ними жалел о загубленных литераторах.
Один из корреспондентов Ивановского писал ему довольно откровенно еще осенью 1826 года: «Назначьте свободную минуту, когда я могу приехать с Вашими письмами и моей благодарностью… Прошу Вас, ради самого неба, любезнейший Андрей Андреевич, для славы родины сохранить все, что осталось от нашего молодца вожатого». Имелся в виду Александр Бестужев, бывший «вожатый» декабристского альманаха «Полярная звезда».
Трудно поверить, что такое письмо мог получить – и, видимо, с сочувствием прочитать и сохранить – видный чиновник секретной полиции, работавший в комиссии, которая осудила и Рылеева и Бестужева…
Впрочем, ссылаясь на расстроенное здоровье, Ивановский в начале 1830-х годов вдруг просится в отставку. Бенкендорф огорчен, уговаривает – но тщетно… Не пожелал перспективный чиновник перспективнейшего ведомства дождаться неминуемых генеральских чинов и окладов. Он поселяется в глухом псковском имении Гривине Новоржевского уезда (а в Гривине чердак, а на чердаке сундук…). Оттуда Ивановский иногда отправляется в столицу или на заграничные курорты; в общем, ведет жизнь незаметную и оканчивает ее в 1848 году, на пятьдесят седьмом году жизни.
Можно ли за внешней биографией разглядеть потаенную?
Одним из немногих осведомленных был сосед Ивановского, владелец другого псковского имения Александр Николаевич Креницын. Имя это сегодня известно только немногим специалистам. Между тем оно заслуживает большего. Мало, очень мало мы порою знаем о людях, несомненно того достойных… Впрочем, Александр Креницын попал в известный Алфавит декабристов. Это значит, что о нем говорилось, упоминалось на следствии. Изгнанный еще в апреле 1820 года из Пажеского корпуса за вольнодумство и оскорбление гувернера, Креницын был разжалован в рядовые, выслан в Полтаву, однако благодаря друзьям оставался «на столичном уровне». Из сохранившейся переписки его видно, что он хорошо знал Баратынского, Кюхельбекера, Александра Бестужева и сам был автором сатирической поэмы «Панский бульвар», к сожалению пропавшей.
Дослужившись за пять лет до прапорщика, Креницын 30 января 1825 года просился в отставку, на что последовала грозная отповедь Александра I: «Его Величество удивляется, что Креницын осмелился просить увольнения от службы, и потому высочайше повелеть соизволил объявить ему, что он должен, оставаясь на службе, усердным продолжением оной и хорошим поведением стараться загладить прежний свой проступок и заслужить лучшее о себе заключение. Сверх того, Государю Императору угодно знать, какой Креницын нравственности и как ведет себя по службе в настоящее время».
В отставку Креницын сумел выйти лишь в 1828 году, надзор же с него был снят еще через восемь лет. Насколько он угомонился, видно из одного чрезвычайно любопытного документа, опубликованного всего несколько лет назад. Речь идет о стихотворении только что освобожденного от надзора Креницына в память Пушкина. Помечено оно 10 февраля 1837 года (день похорон) и адресовано «сестре Н. Н. Креницыной». Между прочим, там имеются следующие строки:
Так, Пушкин, именем твоим
Гордиться русский вечно будет;
Кого ж теперь мы свято чтим,
Потомство скоро позабудет.
Рабы! Его святую тень
Не возмущайте укоризной.
Он вам готовил светлый день,
Он жил свободой и отчизной…
Строфы эти, конечно, несравнимые по художественным достоинствам со стихами «Смерть Поэта», могут быть вполне сопоставлены с ними по силе гнева и резкости чувств. Если бы это стихотворение пошло тогда же по рукам, оно могло бы сыграть заметную роль в общественной жизни. Однако Креницын, только что освобожденный от шестнадцатилетних преследований, был, конечно, весьма осторожен и поделился своим сочинением разве что с соседом Андреем Андреевичем Ивановским.
Сосед достойный, дорогой,
Моей солдатской балалайки
Склони ты слух на звук простой…
Дай мне насытиться душой
Певцом бессмертным Наливайки!
Порадуй голосом меня
Сего карателя злодеев…
Твоим сокровищем ценя,
Я жду его, как ждал Рылеев
Свободы радостного дня!
Это из письма Креницына Ивановскому: тот обещал показать соседу несколько рукописей автора стихов о Наливайке, то есть Рылеева (мы же понимаем, откуда подобные рукописи у Андрея Андреевича!).
Нужно ли много распространяться о том, сколь необычны, крамольны, опасны были такие строки о казненном Рылееве?
Как видно, существовал своеобразный центр горячего вольнодумства в глубокой провинции – недалеко от пушкинского Михайловского – в самое темное николаевское время.
Андрей Ивановский – странный, причудливый человек, очевидно так и не совместивший в своей душе верноподданность и сочувствие врагам престола.
После его кончины можно, кажется, без труда сообразить, как развернулись события: сундук с письмами и рисунками сохнет на чердаке, дочь делает долги, бумаги идут в руки какого-то любителя…
В дневнике смоленского прокурора Александра Шахматова действительно находим запись на французском языке (31 мая 1858 года, через десять лет после кончины Ивановского): «Наконец у меня в руках сокровище, столь давно вожделенное… Я провел много вечеров, перелистывая, классифицируя и разбирая эти манускрипты, восставшие из тридцатилетнего сна. Это были бумаги покойного А. А. Ивановского, служившего у Бенкендорфа».
Прокурор Шахматов вскоре умирает, оставив малолетних детей. Весной 1887 года в библиотеке его саратовской усадьбы обнаруживается пачка бумаг. Все ясно, просто. Только еще один вопрос: когда же стали известны ученым и любителям тексты тех одиннадцати писем Пушкина к Рылееву и Бестужеву, что забрал и хранил Ивановский и что перешли к Шахматовым?
Загадка заключалась как раз в том, что письма эти к восьмидесятым годам XIX века уже не одно десятилетие ходили по России; несколько искаженные, перепутанные, но именно эти тексты: Пушкин – Рылееву и Александру Бестужеву.
С какого же точно года они появились «из небытия», о том знало всего несколько человек.
Еще в 1853–1855 годах Виктор Павлович Гаевский, прогрессивный публицист, приятель Герцена, Тургенева, Некрасова, помещает в журнале «Современник» статьи о Дельвиге. Дельвиг – поэт, лицейский друг Пушкина – фигура безопасная, среди явных декабристов его не было, писать о нем можно. Однако между прочим в статье не раз цитируется письмо Пушкина к Б. (то есть Бестужеву) от 13 июля 1823 года, как раз одно из тех писем, что нашлись позже у Шахматовых. Всплывают и строки, обращенные к Рылееву.
Письма к государственным преступникам, попавшие в печать еще в царствование их погубителя Николая I, – это кажется невероятным, но это было!
Как же? Откуда?
Гаевский поясняет, что неизданные письма Пушкина сообщены ему Н. А. Н-вым.
Кто такой Н. А. Н-ов? Это, без сомнения, Николай Алексеевич Некрасов: если бы Гаевский хотел намекнуть на другое лицо, то, печатаясь в «Современнике», обязан был бы скрыть его инициалы, слишком напоминающие издателя журнала (Н. А. Некрасова).
Выходит, Гаевский получил копии писем Пушкина к декабристам от поэта Некрасова.
Как известно, Некрасов знал в Петербурге «всех» – и имел самые обширные связи в свете, полусвете и на дне столичного общества. То, что он раздобыл драгоценные тексты раньше других литераторов, не так уж удивительно. Произошло это событие, вероятно, незадолго до 1853 года. Некрасов не стал бы таиться от друзей: отрывки из писем Пушкина к Б. появляются, кроме статей Гаевского, и в работах другого известного литератора – Павла Анненкова, а еще через несколько лет письма Пушкина к Рылееву и Бестужеву были напечатаны Герценом и Огаревым в заграничном вольном издании «Полярная звезда».
Итак:
1826 год – письма попадают к Ивановскому;
1850-е годы – копии с этих писем начинают распространяться сначала в списках, а потом печатно;
1887 год – подлинники писем обнаруживаются в саратовской Губаревке.
Что же произошло перед 1850-ми годами, что «сняло запрет»?
В 1848 году скончался многознающий Андрей Андреевич Ивановский.
Может быть, оставил завещание – пустить секретные рукописи по рукам? Или распорядилась его осиротевшая родня и показала копии драгоценных писем какому-то знакомому, а тот – поэту Некрасову, а тот – Гаевскому, Анненкову?..
Казалось бы, все более или менее прояснилось… Но откройте напоследок Полное академическое собрание сочинений Пушкина и загляните в письма Пушкина к Рылееву и Бестужеву, а также в комментарий к ним.
Письмо от 12 января 1824 года, оказывается, печатается по копии 1850-х годов. Но где же подлинник? Нет его: был в руках Ивановского, но успел исчезнуть между 1826-м и 1887-м…
Черновик письма к Рылееву, написанного между июнем и августом 1825 года (начинался со слов: «мне досадно, что Рылеев меня не понимает»), случайно сохранился в бумагах самого Пушкина. Рылеев письма Пушкина берег. Поэтому полный беловой текст того же письма, очевидно, попал в руки Андрея Ивановского – и тоже когда-то отделился от главного собрания… Вполне вероятно, что были и другие послания Пушкина Рылееву и Бестужеву, другие декабристские документы, письма, портреты, «выпавшие», пока бумаги перемещались с петербургской квартиры Ивановского в саратовское имение Шахматовых.
Если бы узнать, восстановить всю «цепочку», возможно, она привела бы к ценным залежам. Может быть, потомки Ивановского? Но у чиновника была только дочь, а дочери имеют склонность менять фамилии – как найти потомков?
Говорят, в 1920-х годах какие-то правнуки предлагали какие-то рукописи, но все смутно…
Пока остановимся и запомним только, что и в самое молчаливое тридцатилетие, после 1825 года, сведения о главном объекте молчания, декабристах, сохранялись, пробивались: робкие попытки воспоминаний «на воле» (Боровков, Ивановский, Креницын и еще кое-кто) – только малая часть явных и потаенных битв за историческую правду о людях 14 декабря.
Куда более важными были, как увидим, попытки Лунина и других декабристов в сибирской каторге и ссылке.
Однако прежде, чем наши рассказы достигнут забайкальских рудников, они еще задержатся в столицах, близ Пушкина.
Рассказ четвертый
«О сколько нам открытий чудных…»
Вступление к рассказу
Так называемая «первая арзрумская» тетрадь Пушкина: бумажный переплет, сто десять синих листов, и на каждом – красный жандармский номер (по смерти поэта тетрадь просмотрена Третьим отделением).
Черновики «Путешествия в Арзрум». Рисунки: черкес, еще какая-то голова в папахе. Опять черновые строки: «Зима, что делать мне в деревне…», «Мороз и солнце; день чудесный…». Наброски последних глав «Онегина»:
В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал украдкой Апулея,
А над Вергилием зевал…
Ужель и впрям и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
1829 год. Молодость кончилась. Из-под пера выходят не слишком веселые строки:
…Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
На обороте 18-го и в начале 19-го листа этой же тетради – небольшой, трудно разбираемый черновик.
Только в 1884 году уже знакомый нам внук декабриста Вячеслав Евгеньевич Якушкин опубликовал из него две с половиной строки. А когда – уже в наше время – подготавливалось Полное академическое собрание Пушкина, пришел черед и всех остальных…
Сначала Пушкин написал:
О сколько ждут открытий чудных
Ум и труд…
Мысль сразу не дается. Поэт, видимо, находит, что Ум и Труд – слишком простые, маловыразительные образы. Постепенно они вытесняются другими: «смелый дух», «ошибки трудные».
И вдруг появляется «случай»:
И случай, вождь…
Позже – новый образ: «случай – слепец»:
И случай
отец
Изобретательный слепец…
Затем еще:
И ты слепой изобретатель…
Наконец:
И случай, Бог изобретатель…
Стихи не закончены. Пушкин перебелил только две с половиной строки и почему-то оставил работу.
Этот текст для Полного академического собрания сочинений Пушкина готовила Татьяна Григорьевна Цявловская. Она рассказывала, что ей жалко было отправлять чудесные строки в ту, финальную часть третьего тома, которая предназначалась для неосновных, черновых вариантов: ведь там стихи станут менее заметны и оттого – менее известны… В конце концов редакция решила поместить среди основных текстов Пушкина две с половиной беловые строки, опубликованные В. Е. Якушкиным, и еще две с половиной строки, которые Пушкин окончательными не считал, но которые все же сделались «последней его волей»:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель…
1829 год.
Уже открыты первые астероиды и Уран, на очереди Нептун. Но еще не измерено расстояние ни до одной звезды.
Уже из Петербурга в Кронштадт ходит пароход, именуемый чаще «пироскафом», но еще не слыхали в России гудка паровоза.
Уже расширяются научные отделы толстых журналов, и один из журналов даже берет ученое имя – «Телескоп». Но никто еще не знает, где находятся истоки Нила и что Сахалин – остров.
Некоторые поэты еще прежде (например, Шелли) принимались всерьез штудировать точные науки, но иные (Джон Китс) – осуждают Ньютона за то, что тот «уничтожил всю поэзию радуги, разложив ее на призматические цвета». Француз Дагер в ту пору уж близок к изобретению фотографии, но еще во всех сочинениях Пушкина только дважды употреблено слово «электричество» (он рассуждал, что фраза «Я не могу вам позволить начать писать стихов» нехороша – правильнее «писать стихи», и заметил далее: «Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном?»).
Наконец, в том мире уже живут такие немаловажные люди, как отец Менделеева, дедушка Эйнштейна и прапрадедушки и прапрабабушки почти всех сегодняшних нобелевских лауреатов…
Так что ж особенного в том, что Пушкин восхищается наукой и ждет «открытий чудных», – кто ж не восхищается? Онегин и Ленский обсуждали «плоды наук, добро и зло». Даже последний человек Фаддей Венедиктович Булгарин печатно восклицает: «Догадаетесь ли вы, о чем я думал, сидя на пароходе?.. Кто знает, как высоко поднимутся науки через сто лет, если они будут возвышаться в той же соразмерности, как доселе!.. Может быть, мои внуки будут на какой-нибудь машине скакать в галоп по волнам из Петербурга в Кронштадт и возвращаться по воздуху. Все это я вправе предполагать, сидя на машине, изобретенной в мое время, будучи отделен железною бляхою от огня, а доскою от воды; на машине, покорившей огнем две противоположные стихии, воду и воздух и ветер!» (журналистские восторги Фаддея Венедиктовича, кажется, не менее глубоки, чем восклицанья и «раздумья» многих газетчиков, публиковавшиеся на протяжении ста тридцати последующих лет по поводу паровозов, глиссеров, дирижаблей и реактивных пассажирских лайнеров…). В седьмой главе «Онегина» Пушкин будто издевается над утилитарным – на булгаринский манер – представлением о «научно-техническом прогрессе»:
Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.
Так дискутировали о науке в конце двадцатых годов XIX века.
Но притом в ту пору на науку смотрели еще романтически, немного подозревая ее в колдовстве. Мемуарист, чье имя почти никому теперь ничего не скажет, так вспоминал об известном ученом П. Л. Шиллинге:
«Это Калиостро или что-либо приближающееся. Он и чиновник нашего министерства иностранных дел, и говорит, что знает по-китайски, что весьма легко, ибо никто ему в этом противоречить не может… Он играет в шахматы две партии вдруг, не глядя на шахматную доску… Он сочинил для министерства такой тайный алфавит, то есть так называемый шифр, что даже австрийский так искусный тайный кабинет и через полвека не успеет прочесть! Кроме того, он выдумал способ в угодном расстоянии посредством электрицитета произвести искру для зажжения мин. В-шестых – что весьма мало известно, ибо никто не есть пророком своей земли, – барон Шиллинг изобрел новый образ телеграфа… Это кажется маловажным, но со временем и усовершенствованием оно заменит наши теперешние телеграфы, которые при туманной неясной погоде или когда сон нападает на телеграфщиков, что так же часто, как туманы, делаются немыми» (телеграфы тогдашние были оптическими).
Академик М. П. Алексеев пишет, что как раз в конце 1829 года Пушкин общался с Шиллингом, наблюдал его открытия, собирался даже вместе с ним в Китай и, возможно, под этими впечатлениями и набросал строки «О сколько нам открытий чудных…».
Но все-таки непривычно – Пушкин и науки… Правда, друзья и знакомые свидетельствовали, что поэт регулярно читал в журналах «полезные статьи о науках естественных» и что «ни одно из таинств науки им не было забыто».
Но в той тетради, где обнаружились «научные строки», все остальное – о поэзии, истории, душе, литературе, деревне, любви и прочих вполне гуманитарных предметах. Таким был век. Вслед за Шатобрианом принято было считать, что «природа, исключая некоторых математиков-изобретателей… осудила их <то есть всех остальных представителей точных наук> на мрачную неизвестность, и даже сии самые гении-изобретатели угрожаются забвением, если историк не оповестит о них миру. Архимед обязан своей славою Полибию, Ньютон – Вольтеру… Поэт с несколькими стихами уже не умирает для потомства… Ученый же, едва известный в продолжение жизни, уже совершенно забыт на другой день смерти своей…»
Как известно по воспоминаниям одноклассников Пушкина по Царскосельскому лицею, «математике… вообще сколько-нибудь учились только в первые три года; после, при переходе в высшие ее области, она смертельно всем надоела, и на лекциях Карцова каждый обыкновенно занимался чем-нибудь посторонним… Во всем математическом классе шел за лекциями и знал, что преподавалось, один только Вальховский».
Что же важного мог сказать Пушкин о науке? По-видимому, не более, но и не менее того, что смог сказать о Моцарте и Сальери, не умея музицировать, или о Скупом, никогда скупым не числясь…
Стихи «О сколько нам открытий чудных…» остались незаконченными. Быть может, наука, которая только еще «начиналась», не открылась поэту до конца. А может быть, Пушкина попросту что-то отвлекло, он отправил замысел «отлежаться», чтобы позднее вернуться к нему, – и не вернулся…
Меж тем уж начинались 1830-е годы, а вместе с ними в пушкинскую биографию вплетается одна история, странная, смешная и поучительная, которую именно сейчас настало время рассказать. С виду почти ничего в ней нет общего с теми рассуждениями о науке и искусстве, о которых только что велась речь. Но внутренне, глубоко эта связь имеется, а поскольку история, которую мы собираемся рассказать, не совсем «серьезная», это, вероятно, как раз поможет нам в делах самых серьезных.
Итак – история о «медной и негодной»…
Медная и негодная
Пушкин – Бенкендорфу 29 мая 1830 года из Москвы:
«Генерал.
Покорнейше прошу Ваше превосходительство еще раз простить мне мою докучливость.
Прадед моей невесты некогда получил разрешение поставить в своем имении Полотняный Завод памятник императрице Екатерине II. Колоссальная статуя, отлитая по его заказу из бронзы в Берлине, совершенно не удалась и так и не могла быть воздвигнута. Уже более 35 лет погребена она в подвалах усадьбы. Торговцы медью предлагали за нее 40 000 рублей, но нынешний ее владелец, г-н Гончаров, ни за что на это не соглашался. Несмотря на уродливость этой статуи, он ею дорожил как памятью о благодеяниях великой государыни. Он боялся, уничтожив ее, лишиться также и права на сооружение памятника. Неожиданно решенный брак его внучки застал его врасплох без всяких средств, и, кроме государя, разве только его покойная августейшая бабка могла бы вывести нас из затруднения. Г-н Гончаров, хоть и неохотно, соглашается на продажу статуи, но опасается потерять право, которым дорожит. Поэтому я покорнейше прошу Ваше превосходительство не отказать исходатайствовать для меня, во-первых, разрешение на переплавку названной статуи, во-вторых – милостивое согласие на сохранение за г-ном Гончаровым права воздвигнуть, когда он будет в состоянии это сделать, памятник благодетельнице его семейства.
Примите, генерал, уверение в моей совершенной преданности и высоком уважении. Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга
Александр Пушкин».
Несколько позже Пушкин признается: «Сношения мои с правительством подобны вешней погоде: поминутно то дождь, то солнце». И если уж держаться этого сравнения, так солнце сильнее всего пригревало весной 1830 года.
В самом деле, в 1828-м поэт всего четыре раза обращался ко второй персоне государства (и через ее посредство – к первой); в 1829-м – еще меньше: выговор от царя и шефа жандармов – и ответ виновного; с января же по май 1830-го сохранилось семь писем Пушкина к шефу и пять ответов Бенкендорфа.
Как раз за полтора месяца до письма насчет «колоссальной статуи» солнышко стояло чуть ли не в зените.
Пушкин: «Я женюсь на м-ль Гончаровой, которую вы, вероятно, видели в Москве. Я получил ее согласие и согласие ее матери; два возражения были мне высказаны при этом: мое имущественное состояние и мое положение относительно правительства. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно, благодаря Его Величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения, я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно…»
Бенкендорф: «Что же касается вашего личного положения, в которое Вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил Вам много раз: я нахожу, что оно всецело соответствует Вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только Вы сами не сделаете его таким. Его Императорское Величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, – не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, – наблюдать за вами и наставлять вас своими советами; никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор».
Поскольку генерал Бенкендорф позволяет считать его просто генералом Бенкендорфом, Пушкин, кажется, единственный раз пользуется этим правом и позволяет себе некоторую шутливость в письме, адресованном (по классификации Гоголя) лицу не просто значительному, но особе значительнейшей. И Бенкендорф небось улыбнулся, прочитав: «кроме Государя, разве только его покойная августейшая бабка могла бы вывести из затруднения…» И августейший внук, наверное, хохотнул. Снисходительная насмешливость троих просвещенных людей над суетливым старичком из прошлого столетия («старинные люди, батюшка!»), над его счетами с покойной императрицей и ее медно-уродливой копией: геройский отказ от сорока тысяч, что давали за статую, но притом августейшая неподкупная бабка давно заключена в подвале, – но притом ею жертвуют во благо внучки, но притом восьмидесятилетний «без всяких средств» владелец еще надеется воздвигнуть другой памятник, но притом, наверное, помнит, что лет за тридцать до его рождения не то что переплавка – нечаянное падение в грязь монеты с августейшим изображением награждалось кнутом и Сибирью.
Смеются просвещенные люди.
Александр Сергеевич играет щекотливыми сравнениями: дед Гончаров – внучка Гончарова; бабка (и статуя) Екатерина – внук бабки (Николай I). Поэт, наверное, вспоминает недавнюю свою поездку на Полотняный Завод близ Калуги, где состоялось примечательное знакомство с дедушкой и неповторимая беседа насчет царской бабушки.
Не услыхать нам, к сожалению, того разговора и пушкинских реплик при появлении медной императрицы. Позже напишет об одном приятеле, вздумавшем посетить дедушку: «Воображаю его в Заводах tête-à-tête[15]15
Наедине (фр.).
[Закрыть] с глухим стариком. Известие насмешило нас досыта».
Шеф, смеясь, продолжает за поэтом тот надзор, который «никогда никакой полиции…» (недавно открылось, что формально тайный надзор за Пушкиным был отменен… в 1875 году, через тридцать восемь лет после гибели. Просто забыли вовремя распорядиться!).
Государь, смеясь, не замечает просьбы, не очень уж прячущейся посреди пушкинской шутки: если деньги для свадьбы нужно добывать переплавкой бронзовой статуи, не проще ли велеть Бенкендорфу или еще кому-то – выдать нужную сумму, что часто делалось и по тогдашним моральным правилам было вполне благопристойным?
Царь не заметил, но вообще – благосклонен…
Сорок тысяч – эта сумма уладила бы дело на первое время. У Натальи Николаевны нету приданого, Пушкину на приданое наплевать, но Гончаровы ни за что не объявят одну из своих бесприданницей; и Пушкин рад бы одолжить им круглую сумму, тысяч десять «выкупа», чтобы эти деньги к нему вернулись (или не вернулись) в виде приданого; рад бы, да сам гол – и надо срочно достать тысяч сорок на обзаведение.
Бенкендорф – Пушкину 26 июня 1830 года:
бумага № 2056.
«Милостивый государь
Александр Сергеевич!
Государь Император, всемилостивейше снисходя на просьбу вашу, о которой я имел счастие докладывать Его Императорскому Величеству, высочайше изъявил соизволение свое на расплавление имеющейся у г-на Гончарова колоссальной неудачно изваянной в Берлине бронзовой статуи блаженныя памяти императрицы Екатерины II, с предоставлением ему, г. Гончарову, права воздвигнуть, когда обстоятельства дозволят ему исполнить сие, другой приличный памятник сей августейшей благотворительнице его фамилии.
Уведомляя о сем вас, милостивый государь, имею честь быть с совершенным почтением и искреннею преданностию,
милостивый государь,Ваш покорнейший слуга».
Пушкин – Бенкендорфу 4 июля 1830 года:
«Милостивый государь
Александр Христофорович,
имел я счастие получить письмо вашего высокопревосходительства от 26 прошедшего месяца. Вашему благосклонному ходатайству обязан я всемилостивейшим соизволением государя на просьбу мою; вам и приношу привычную, сердечную благодарность».
Так началась история, в наши дни приобретающая все большую популярность.
Драматург Леонид Зорин вынес «Медную бабушку» в заглавие своей интересной пьесы о Пушкине, поставленной во МХАТе.
Исследователь В. Рогов находит о «бабушке» интересные подробности в архиве…
Разбогатевшая династия недавних посадских, позже миллионеров-заводчиков и новых дворян Гончаровых. Престарелый основатель династии Афанасий Абрамович («прапрадедушка») падает ниц перед посетившей заводы Екатериной II. «Встань, старичок», – улыбаясь, сказала она. Хозяин: «Я перед Вашим Величеством не старичок, а семнадцати лет молодчик». Вскоре Гончаровы заказывают статую императрицы; в 1782 году – том самом, что выбит на другом медном памятнике, поставленном Петру Первому Екатериной Второй. Может быть, это совпадение и не случайно: матушка отдает почести Петру, но кто же ей отдаст?
Пока отливали, везли монумент – из Берлина в Калугу, – Екатерина II успела умереть, и новый владелец Афанасий Николаевич – в ту пору юный, горячий, но уже старший в роду и полный хозяин, – Афанасий Николаевич заставил статую скрываться в подвалах от гнева матерененавистника Павла I.
Еще через пять лет, когда на престоле появляется любимый бабушкин внук Александр, вокруг медной фигуры происходит третье «политическое движение»: Афанасий Гончаров просит разрешения воздвигнуть ее в своих пределах, получает высочайшее согласие, и… и затем лет тридцать – все правление Александра и первые годы Николая – было недосуг освободить из подземелья павловскую узницу: лояльность проявлена, в Петербурге знают про то, что в Калуге чтут августейшую бабку, – и довольно.
В четвертый раз статую пробуждает уже не высокая политика, а низкий быт: денег нет!
Сохранились колоритные отрывки «гончаровской хроники» – писем, дневников, воспоминаний за те годы, что бабушка ждет своего часа…
Триста человек дворни; оркестр из тридцати-сорока музыкантов; оранжерея с ананасами; один из лучших в России охотничьих выездов (огромные лесные походы по нескольку недель); третий этаж барского дома – для фавориток; народная память – «пышно жил и хороший господин был, милостивый».
Но вот – баланс удовольствий и потерь: «решенный брак его внучки застал его врасплох без всяких средств».
За Афанасием Николаевичем полтора миллиона долга. Сохранился черновик того пушкинского послания, с которого началось наше повествование.
Самое интересное отличие его от окончательного текста – цена: «торговцы медью предлагали за нее 50 000», – начал Пушкин, но потом поправил: «40 000», – очевидно проявив должный скептицизм к смелым воспоминаниям деда (дальше мы увидим, почем были статуи в 1830–1840 годах!).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































