Текст книги "Твой девятнадцатый век"
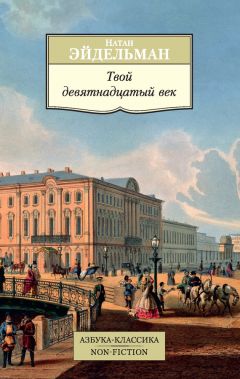
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сорок тысяч – «Подумайте, вы стары; жить вам уж недолго, – я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню.
Старуха не отвечала».
Трех карт не было. Денег не было. В сочинениях и письмах Пушкина – целая энциклопедия денежных забот: попытки свести концы с концами, жить своим трудом, построить свой маленький дом, «храм, крепость независимости».
Его дело – рифмы, строфы; однако среди них – презренной прозой, легким смехом, эпистолярным проклятием, нудным рефреном:
«Приданое, черт его подери!»
«Деньги, деньги: вот главное, пришли мне денег. И я скажу тебе спасибо».
Первое письмо о медной статуе – 29 мая 1830 года, а примерно неделей раньше – другу, историку Михаилу Погодину:
«Сделайте одолжение, скажите, могу ли надеяться к 30 мая иметь 5000 р. на год по 10 процентов или на 6 мес. по 5 процентов. – Что четвертое действие?»
Последняя фраза не о деньгах – о вдохновении, новой пьесе приятеля. Но разве потолкуешь о четвертом действии при таких обстоятельствах?
Через день-два:
«Сделайте божескую милость, помогите. К воскресенью мне деньги нужны непременно, а на вас вся моя надежда».
В тот же день, что и Бенкендорфу, 29 мая, – еще раз Погодину:
«Выручите, если возможно, – а я за вас буду Бога молить с женой и с малыми детушками. Завтра увижу ли Вас и нет ли чего готового? (в Трагедии, понимается)».
А уж в следующие недели-месяцы непрерывно.
Погодину:
«Две тысячи лучше одной, суббота лучше понедельника…»
Погодину:
«Слава в вышних Богу, и на земле Вам, любезный и почтенный! Ваши 1800 р. ассигнациями получил с благодарностью, а прочие чем Вы скорее достанете, тем меня более одолжите».
Погодину:
«Чувствую, что я Вам надоедаю, да делать нечего. Скажите, сделайте одолжение, когда именно могу надеяться получить остальную сумму».
Погодину:
«Сердечно благодарю Вас, любезный Михайло Петрович, заемное письмо получите на днях. Как Вам кажется Письмо Чаадаева? И когда увижу Вас?»
Последняя фраза – снова прорыв к возвышенному: обсуждается «Философическое письмо» Чаадаева.
Денежные призраки причудливо – иногда поэтически, порою зловеще – соединяются с другими.
Умирает дядя Василий Львович:
«Хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства. Не успел я выйти из долга, как опять принужден был задолжать».
В Москве холера, и любезнейшему другу Нащокину посылается пушкинский приказ, «чтоб непременно был жив»:
«Во-первых, потому что он мне должен; 2) потому что я надеюсь быть ему должен; 3) что если он умрет, не с кем мне будет в Москве молвить слова живого, т. е. умного и дружеского».
«Золотые ворота» будущего дома-крепости воздвигаются туго, меж тем издалека раздается дружеский, но притом ревнивый, предостерегающий женский голос:
«Я боюсь за Вас: меня страшит прозаическая сторона брака! Кроме того, я всегда считала, что гению придают силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий, – что полное счастие, прочное, продолжительное и, в конце концов, немного однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта! И может быть, именно это – после личной боли – поразило меня больше всего в первый момент…»
Влюбленная, оставленная Елизавета Хитрово бросает вызов: счастье убивает великого поэта. Пушкин отвечает так, как полагается отвечать даме на подобное послание:
«Что касается моей женитьбы, то Ваши соображения по этому поводу были бы совершенно справедливыми, если бы Вы менее поэтически судили обо мне самом. Дело в том, что я человек средней руки и ничего не имею против того, чтобы прибавлять жиру и быть счастливым – первое легче второго».
При всей светской полировке ответа собеседнице все же замечено, что «прибавление жира» и «прибавление счастия» – вещи различные. «Ах, что за проклятая штука счастье!..»
Другой даме, более искренней и бескорыстной, чуть позже напишет:
«Мы сочувствуем несчастным из своеобразного эгоизма: мы видим, что, в сущности, не мы одни несчастны.
Сочувствовать счастию может только весьма благородная и бескорыстная душа. Но счастье… это великое „быть может“, как говорил Рабле о рае или вечности. В вопросе счастья я атеист; я не верю в него, и лишь в обществе старых друзей становлюсь немного скептиком».
Старым друзьям, впрочем, в те дни написано:
Вяземскому:
«Сказывал ты Катерине Андреевне <Карамзиной> о моей помолвке? Я уверен в ее участии – но передай мне ее слова – они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому».
Плетневу:
«Баратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим».
Плетневу:
«Если я и не несчастлив, – по крайней мере не счастлив».
«Быть может… неправ был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня».
Старые друзья норовят обратить «атеиста счастья» – в верующего, и чего стоит хотя бы ободрение дядюшки Василия Львовича, посланное едва ли не за месяц до его кончины:
Но полно! Что тебе парнасские пигмеи,
Нелепая их брань, придирки и затеи?
Счастливцу некогда смеяться даже им!
Благодаря судьбу, ты любишь и любим!
Венчанный розами, ты грации рукою,
Вселенную забыл, к ней прилепясь душою!
Прелестный взор ее тебя животворит
И счастье прочное, и радости сулит.
Дельвиг:
«Милый Пушкин, поздравляю тебя, наконец ты образумился и вступаешь в порядочные люди. Желаю тебе быть столько же счастливым, сколько я теперь».
Дельвигу еще отпущено счастья и жизни ровно на восемь месяцев.
Пир и чума приближаются.
Два месяца спустя (30 июля 1830 года) невесте – из Петербурга:
«Вот письмо от Афанасия Николаевича… Вы не можете себе представить, в какое оно ставит меня затруднительное положение. Он получит разрешение, которого так добивается… Хуже всего то, что я предвижу новые отсрочки, это поистине может вывести из терпения. Я мало бываю в свете. Вас ждут там с нетерпением. Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что у меня его нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на Вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей. Афанасию Николаевичу следовало бы выменять на нее негодную Бабушку, раз до сих пор ему не удалось ее перелить. Серьезно, я опасаюсь, что это задержит нашу свадьбу, если только Наталья Ивановна[16]16
Наталья Ивановна – мать Натальи Николаевны Гончаровой.
[Закрыть] не согласится поручить мне заботы о Вашем приданом. Ангел мой, постарайтесь, пожалуйста».
Бронзовая царица, еще не выйдя из подвала, обрастает характером. От нее зависит счастье молодых, но она упорствует, не отдает сорока тысяч, негодная, – ревнует к белокурой Мадонне.
На расстоянии 800 верст друг от друга творение берлинского мастера Вильгельма Христиана Мейера («бабушка») и работа кисти итальянца Перуджино (Мадонна) соучаствуют в судьбе поэта Пушкина, который смеется, ворчит – но оживляет, оживляет холст и бронзу.
Кстати, о металлах… При всей разнице меди и бронзы (то есть сплава меди и олова), – разнице, влиявшей на целые тысячелетия древних цивилизаций (медный век – совсем не то, что бронзовый!), – для Пушкина и его читателей (из «века железного») тут нет особой разницы:
Кумир на бронзовом коне…
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой…
«Медь», «медный» – эти слова Пушкин любил. В сочинениях – тридцать четыре раза, чуть меньше, чем «железо» (сорок раз); медь – звонкая, громкая, сияющая («медными хвалами екатерининских орлов», «сиянье шапок этих медных», «и пушек медных светлый строй»); но есть и медный лоб Фиглярина, и «медная Венера» – Аграфена Закревская, то есть монументальная женщина-статуя[17]17
Уже закончив книгу и подготавливая ее к печати, я познакомился с интересным исследованием Л. Ереминой, где доказывалось, что, как ни разнообразно употребление Пушкиным слова «медный», все же по сравнению с бронзой это некоторое «уничижение», и поэт знал, что делал, когда заменял более благородную бронзу менее поэтической медью. Наблюдение очень интересное и требующее новых размышлений…
[Закрыть].
Меж тем, отбирая лучшие металлы и сплавы для эпитетов, поэт имеет перед собой уж по крайней мере трех бабушек.
Ненастоящую, «ту, что из бронзы»… Настоящую, царскую – Екатерину II, до которой скоро дойдет черед в «Истории Пугачева», «Капитанской дочке», статьях о Радищеве.
Настоящую, гончаровскую: не ту, разведенную жену деда Афанасия (удравшую с Заводов от мужнина разврата еще двадцать лет назад, сдвинувшуюся с ума, но все проклинающую «дурака Афоню»), – имеем в виду бабушку петербургскую по материнской линии, да какую!
Наталья Кирилловна Загряжская, восьмидесятитрехлетняя (впрочем, и Пушкина переживет), помнящая, и довольно хорошо, императрицу Елисавету Петровну, Петра III, Орловых. «Надо Вам рассказать о моем визите к Наталье Кирилловне: приезжаю, обо мне докладывают, она принимает меня за своим туалетом, как очень хорошенькая женщина прошлого столетия. – Это Вы женитесь на моей внучатой племяннице? – Да, сударыня. – Вот как. Меня это очень удивляет, меня не известили, Наташа ничего мне об этом не писала (она имела в виду не Вас, а маменьку). На это я сказал ей, что брак наш решен был совсем недавно, что расстроенные дела Афанасия Николаевича и Натальи Ивановны и т. д. и т. д. Она не приняла моих доводов; Наташа знает, как я ее люблю, Наташа всегда писала мне во всех обстоятельствах своей жизни, Наташа напишет мне, – а теперь, когда мы породнились, надеюсь, сударь, что вы часто будете навещать меня».
Через три года, в «Пиковой даме»: «Графиня… сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов[18]18
Пушкин подразумевает 70-е годы XVIII века.
[Закрыть] и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад».
Через пять лет будут записаны разговоры Загряжской о тех временах, когда «дамы играли в фараон», когда в Версале приглашали au jeu de la Reine[19]19
Игра королевы (фр.).
[Закрыть] и когда покойные дедушки доказывали бабушкам, что «в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской».
А. А. Ахматова запишет:
«…По указанию самого Пушкина, старая графиня в „Пиковой даме“ – кн. Голицына (а по нашему мнению, Загряжская)».
Много событий, надежд, бабушек…
Москва, Петербург, Полотняный Завод, вести из Парижа о революции, свержение Бурбонов, некое веселое безумство – особое предболдинское лето 1830 года. Вяземский докладывает жене из столицы:
«Здесь находят, что <Пушкин> очень весел и вообще натурален. Хорошо, если пришлось бы мне с ним возвратиться в Москву».
А Пушкину хочется как раз в Петербург, ибо в Москве тихо, нудно.
«И среди этих-то орангутанов я осужден жить в самое интересное время нашего века!.. Женитьба моя откладывается еще на полтора месяца, и бог знает, когда я смогу вернуться в Петербург».
Однако бронзовая дама и заводской дедушка все денег не дают, и путь к свадьбе лежит через Болдино, а меж тем подступает время, в которое будет «обделывать выгодные дела» другой герой, сосед Гончаровых по Никитской улице гробовщик Адриан…
Из Болдина – невесте:
«Сейчас же напишу Афанасию Николаевичу. Он, с Вашего позволения, может вывести из терпения».
«А Вы что сейчас поделываете? Как идут дела и что говорит дедушка? Знаете ли, что он мне написал? За Бабушку, по его словам, дают лишь 7000 рублей, и нечего из-за этого тревожить ее уединение. Стоило подымать столько шума! Не смейтесь надо мной: я в бешенстве. Наша свадьба точно бежит от меня».
Через месяц:
«Что дедушка с его медной бабушкой? Оба живы и здоровы, не правда ли?»
Плетневу:
«Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал».
Наконец, дедушке Гончарову:
«Милостивый государь дедушка
Афанасий Николаевич,
спешу известить Вас о счастии моем и препоручить себя вашему отеческому благорасположению, как мужа бесценной внуки Вашей, Натальи Николаевны. Долг наш и желание были бы ехать к Вам в деревню, но мы опасаемся Вас обеспокоить и не знаем, в пору ли будет наше посещение. Дмитрий Николаевич[20]20
Брат Натальи Николаевны Гончаровой.
[Закрыть] сказывал мне, что Вы все еще тревожитесь насчет приданого; моя усиленная просьба состоит в том, чтоб Вы не расстроивали для нас уже расстроенного имения; мы же в состоянии ждать. Что касается до памятника, то, будучи в Москве, я никак не могу взяться за продажу оного и предоставляю все это дело на Ваше благорасположение.
С глубочайшим почтением и искренно сыновней преданностию имею счастие быть, милостивый государь дедушка,
Вашим покорнейшим слугой и внуком
Александр Пушкин.
24 февр.
1831
Москва».
Среди холеры, бездорожья, паники, гениальных стихов и прозы, ожидания счастья или разрыва – Бабушка, признающаяся вдруг, что не стоит сорока тысяч: это ведь какой символ!
Да и с самого начала, кажется, – обман: В. Рогов нашел, что прадедушка Гончаров заплатил скульптору 4000; «порядок цен» отсюда уж виден – четыре, семь, от силы десять тысяч! а что касается дедушкиных сорока, пятидесяти, ста тысяч – так ведь не может бывший миллионер признаться в постыдной дешевизне: это как новые перчатки, которые порою покупают вместо обеда…
Вместо сорокатысячной Бабушки – тридцать восемь тысяч за Болдино: «горюхинские» земли и души бедны, малодоходны, и между последними главами Онегина, Маленькими трагедиями, Повестями Белкина за тем же болдинским столом, на той же бумаге доверяется крепостному писарю Кирееву сделать то и се, чтобы 200 душ заложить и получить:
«…заложил я моих 200 душ, взял 38 000 – и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб ее дочь была с приданым, – пиши пропало. 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17 000 на обзаведение и житие годичное».
Эти деньги – ненадолго, однако любезнейшее предложение дедушки, чтобы сам Александр Сергеевич сторговал Бабушку московским заводчикам, отклоняется.
Вместо выхода с заводской императрицей Екатериной Алексеевной Пушкин предпочитает показаться с горюхинским помещиком Иваном Петровичем Белкиным.
«Делать нечего; придется печатать мои повести. Перешлю на второй неделе, а к Святой и тиснем».
С Бабушкой – прощание, у дедушки – прощение.
«Не хвалюсь и не жалуюсь – ибо женка моя прелесть не по одной наружности, и не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать».
Пора, мой друг, пора…
«Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился».
«Дела мои лучше, чем я думал».
«Теперь кажется все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно без больших расходов и без сплетен».
Прочь от московских тетушек, бабушек, долгов, закладов, орангутанов – везде дурно, но…
Я предпочитаю скучать по-другому…
Вот уж и вещи погружены, а вослед несутся запоздалые посулы Афанасия Гончарова: «Аще обстоятельства мои поправятся и примут лучший оборот…»
Притом из Полотняного Завода старому греховоднику кажется, будто Александр Сергеевич, если хорошенько попросит министра финансов, Бенкендорфа, государя, то сразу пожалуют новые льготы, дадут денег, и, кажется, ни один подданный российского императора не представлял придворные связи Александра Пушкина столь сильными, как экс-миллионер из-под Калуги.
Но от столицы в холерное, военное, бунтовское лето 1831 года до заводских подвалов совсем далеко:
«Дедушка и теща отмалчиваются и рады, что Бог послал их Ташеньке муженька такого смирного».
«Дедушка ни гугу».
«Боюсь, чтоб дедушка его не надул» (об одном приятеле).
Меж тем времена все печальнее, обстоятельства все серьезнее. Пушкины ждут первого ребенка, и после недолгого перерыва в письмах поэта появляются старые мотивы – «денег нет, нам не до праздников» – и тысячи, десятки тысяч долга.
О старом приятеле Михаиле Судиенке сообщает жене: «У него 125 000 доходу, а у нас, мой ангел, это впереди».
«Дедушка свинья, он выдаст свою наложницу замуж с 10 000 приданого».
И тут-то, в начале пасмурных дней, нелюбезный призрак является опять.
Пушкин – Бенкендорфу:
«Генерал,
два или три года назад господин Гончаров, дед моей жены, сильно нуждаясь в деньгах, собирался расплавить колоссальную статую Екатерины II, и именно к Вашему превосходительству я обращался по этому поводу за разрешением. Предполагая, что речь идет просто об уродливой бронзовой глыбе, я ни о чем другом и не просил. Но статуя оказалась прекрасным произведением искусства, и я посовестился и пожалел уничтожить ее ради нескольких тысяч рублей. Ваше превосходительство с обычной своей добротой подали мне надежду, что ее могло бы купить у меня правительство; поэтому я велел привезти ее сюда. Средства частных лиц не позволяют ни купить, ни хранить ее у себя, однако эта прекрасная статуя могла бы занять подобающее ей место либо в одном из учреждений, основанных императрицей, либо в Царском Селе, где ее статуи недостает среди памятников, воздвигнутых ею в честь великих людей, которые ей служили. Я хотел бы получить за нее 25 000 р., что составляет четвертую часть того, что она стоила (этот памятник был отлит в Пруссии берлинским скульптором).
В настоящее время статуя находится у меня, Фурштатская улица, дом Алымова.
Остаюсь, генерал, Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга
Александр Пушкин».
Дело простое: дедушка собирается умирать (и через два месяца умрет). Долга полтора миллиона. А тут – светский разговор, очевидно недавно состоявшийся у Пушкина с шефом жандармов: продолжение тех старинных улыбок-шуток насчет разрешения на переплавку, «в чем разве что сама императрица могла бы помочь».
Так и угадываем вопрос шефа насчет статуи, может быть вызванный пушкинскими намеками на небольшое жалованье, просьбами об издании журнала.
«Ваше превосходительство… подали мне надежду, что ее могло бы купить у меня правительство».
И дедушка расстается с Бабушкой. На нескольких телегах – при соответствующем эскорте – монумент перемещается из-под Калуги во двор одного из петербургских домов.
«Императрица в римском военном панцире, с малой короной на голове, в длинном широком платье, с поясом для меча; в длинной тоге, падающей с левого плеча; с приподнятой левой рукой и правой, опирающейся на низкий, находящийся подле налой, на котором лежит развернутая книга законов, ею изданных, и на книге медали, знаменующие великие ее дела».
На этот раз письмо к Бенкендорфу совершенно деловое и дипломатическое.
Дипломатия первая – будто Пушкин прежде статуи не наблюдал и только теперь увидел ее. Может, и так, хотя при встрече два года назад в Заводах, – неужели дедушка не похвалялся перед женихом внучки своею бронзовой благодетельницей? И неужто жених отказался от столь причудливого зрелища, как Великая Бабушка в подвале?
Если Пушкин и впрямь не видел ее прежде – значит сказанные два года назад слова о колоссальной и уродливой статуе поэт заимствовал от самого дедушки, и это придает всей старой истории с доставкой монумента из Берлина в замок Гончаровых особенную веселость (заказывали, смотрели рисунки, платили – и приобрели, по их же мнению, «колоссальную уродину»!).
Дипломатия вторая – 100 тысяч, уплаченных некогда за Матушку-Бабушку: вероятно, легендарное число, легко сочиненное дедушкой, столь же легко превратившееся в 40 000 и затем упавшее еще в шесть раз… Пушкин, впрочем, вряд ли мог различить истину, и кто мог сказать, почем была статуя в 1782-м и насколько подешевела за полстолетия?
Дипломатия третья – образ Екатерины.
Памятника царице в Петербурге нет (тот, что теперь на Невском проспекте, поставят через полвека). Два памятника Петру спорят: «Петру Первому – Екатерина Вторая. 1782» и у Михайловского замка «Прадеду – правнук. 1800» (подчеркнутое Павлом прямое родство: что по сравнению с этим право Екатерины, кто она Петру?).
Но тут уж возникают деликатнейшие обстоятельства.
Разумеется, официально, внешне Николай I чтит августейшую бабушку, а верноподданный Александр Пушкин ласков к прежней царице; даже бросает в письме неявный, но хорошо заметный упрек: кругом в столице различные «учреждения, основанные императрицей»; в Царском Селе – с лицейских дней знакомые мраморные герои XVIII века, «екатерининские орлы» (и среди них двоюродный дед Иван Ганнибал), саму же царицу как-то обошли.
Однако формула придворного политеса – шелуха: каково зерно, что на самом деле?
И как ни утилитарна цель – получить деньги, поправить дела за счет статуи, – но ведь сама собою возникает тема памятника… Как раз в эти самые месяцы 1832 года екатерининское время все сильнее вторгается в бумаги, важные размышления Пушкина (история Суворова, плавно и замаскированно превращающаяся в историю Пугачева; радищевские мотивы). Статуя, медная бабушка, конечно, случайное совпадение, эпизод – но эпизод «к слову», «к делу». И если уж добираться до сути, то надо сказать вот что: Николай I бабушку (не медную, конечно, свою) недолюбливает; членам фамилии, даже наследнику, не разрешает читать ее скандальные воспоминания – «позорила род!»[21]21
У Пушкина, кстати, был список этого сверхзапретного, откровенно циничного документа, и поэт давал читать великой княгине Елене Павловне, жене царского брата, и она «сходит от них с ума», а когда Пушкин погибнет, в списке принадлежавших ему манускриптов царь увидит записки Екатерины II и напишет: «Ко мне», изымет, конфискует.
[Закрыть].
Прежний царь, Александр I, по официальной и даже принятой в царской семье терминологии, – «наш ангел»; но внутренне, про себя, Николай считает, что старший брат виновник, «распуститель», вызвавший и – не остановивший в зародыше мятеж 14 декабря…
Александр I в противовес отцу, Павлу, обычно и постоянно соединялся, сопрягался в словах-мыслях с бабушкой: Александр – Екатерина; либеральный внук – просвещенная бабка. Николай I бабки не знал (она его приняла при родах и через четыре месяца умерла). Он куда более интересуется отцом, Павлом (которого, впрочем, тоже не помнит), – ищет в нем романтические, рыцарственные корни…
Но что же Пушкин думает о старой царице?
Просто и быстро не сказать, но, если попробуем, заметим постоянную двойственность: Екатерина давала послабления (по сравнению с Бироном и другими зловещими персонами на престоле или у трона); она поощряла просвещение:
Скажи, читал ли ты Наказ Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной…
Это в вольном, бесцензурном «Послании цензору». И примерно тогда же (1822) – в другом вольном сочинении:
«Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России».
Чуть позже в незаконченных озорных стихах поэту «жаль великия жены», которая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно…
Тут взгляд насмешливый, который постоянно состязается с воззрением серьезным. Мало того, настоящая оценка, кажется, и невозможна без насмешливой приправы.
И медная бабушка из погреба – неплохой ведь повод; фигура эта так естественно укладывается в прежние шутки, дифирамбы и дерзости «великой жене», будто Пушкин знал о ней еще лет десять назад. И если даже с Бенкендорфом и царем на сей предмет можно слегка поерничать, то уж друзья и приятели, верно, не стеснялись:
«Поздравляю милую и прелестную жену твою с подарком, и тяжеловесным… Иметь наушницей Екатерину Великую – шутка ли? Мысль о покупке статуи еще не совершенно во мне созрела, и я думаю, и тебе не к спеху продавать ее, она корма не просит, а между тем мои дела поправятся, и я более буду в состоянии слушаться своих прихотей.
Как помнится мне, в разговоре со мною о сей покупке ты ни о какой сумме не говорил, ты мне сказал: „Я продам тебе по весу Екатерину“; а я сказал, и поделом ей, она и завела-то при дворе без мены (baise maine).
Переливать же ее в колокола я намерения не имею – у меня и колокольни нет – и в деревне моей, сзывая православных к обедне, употребляют кол-о-кол. И они тут же сходятся».
Знаменитый острослов Иван («Ишка») Мятлев, автор знаменитой в свое время пародийной поэмы «Мадам Курдюкова», так и сыплет каламбурами: baise maine целование руки, придворный этикет и безмен[22]22
Оба слова, русское и французское, произносятся почти одинаково.
[Закрыть] – весы, предмет торговый; между прочим, цитируется и пушкинская «речь», произнесенная, видно, при совместном осмотре статуи: «Я продам тебе по весу Екатерину» (и, кажется, добавлено, что из нее можно колокола лить).
Итак, Екатерину – по весу (опять каламбур: «по весу» и «повеса»), и в то же время это статуя, которой «недостает среди памятников» либо в столице, либо в Царском Селе.
Шутки-прибаутки, «раздвоение» истории на «важную» и смешную.
К тому же вопрос о памятнике – овеществленной памяти – Пушкину вообще с годами все интереснее. Кому памятник? Что помнить?
Больше всего размышлений, конечно, – о другом медном памятнике. Еще в «Полтаве», четырьмя годами раньше, было сказано:
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
Бешено скачущий Петр – боец, преследователь, заставляющий поэта остановиться, задуматься, обеспокоиться, испугаться:
И где опустишь ты копыта?
Но на пути из петровских времен в пушкинские – большой «век Екатерины», которого не миновать.
Именно в «год медной бабушки» началось пушкинское путешествие из Петербурга к Радищеву, Пугачеву, мятежам времен Екатерины, без которых ни бабушки, ни ее времени не понять.
К «двоящейся» бабушке поэт теперь, кажется, снисходительнее, чем лет десять назад; он внимательнее присматривается к некоторым серьезным чертам ее времени, отзывается несколько лучше; по-прежнему ее вполне можно «продать по весу», и в то же время «эта прекрасная статуя должна занять подобающее ей место».
«В полученной от г-на заслуженного ректора Мартоса, академиков Гальберга и Орловского Записке заключается следующее. Огромность сей статуи, отливка оной и тщательная обработка, или чеканка оной во всех частях, не говоря уже о важности лица изображаемого, и, следовательно, о достоинстве произведения как монументального, которое непростительно было бы употребить для другого какого-либо назначения, заслуживает внимания правительства; что же касается до цены статуи 25 тыс. рублей, то мы находим ее слишком умеренной, ибо одного металла, полагать можно, имеется в ней, по крайней мере, на двенадцать тысяч рублей, и если бы теперь заказать сделать таковую статую, то она конечно обошлась бы в три или четыре раза дороже цены, просимой г. Пушкиным. При сем мы должны по всей справедливости объявить, что произведение сие не чуждо некоторых видимых недостатков по отношению сочинителя рисунка и стиля; впрочем, если взять в соображение век, в который статуя сия сделана, то она вовсе не может почесться слабейшим из произведений в то время в Берлине».
Памятники имеют свою судьбу. Сам академик и заслуженный ректор Мартос, рассуждавший о бронзовой Екатерине, прежде поставил свой знаменитый памятник Минину и Пожарскому на Красной площади благодаря несколько странному обстоятельству. Послу Сардинского королевства графу Жозефу де Местру царь прислал разные проекты памятника двум историческим лицам, о которых иностранец, по его собственному признанию, не слыхал ничего. Граф де Местр, столь же блестящий стилист и острослов, как и реакционнейший католический мыслитель, знал толк в изящных искусствах и отдал свой голос лучшему… Ныне же, много лет спустя, сам Мартос вместе с двумя коллегами решает судьбу творения давно умерших немецких мастеров. Фраза из отзыва академиков – «если взять в соображение век, в который статуя сия сделана» – не оставит нас, обитателей XX века, равнодушными: вот как хорош и крепок был тот век, XIX, – устойчивость, добротность, незыблемость, разумная вера в прогресс! Мы-то сомневаемся, что при оценке произведения надо делать скидку на «век, в который оно сделано», спорим, идет ли искусство вперед или движется по каким-то хитрым спиралям. Где искусство совершеннее – в скульптурах Родена или в портрете Нефертити? В сверхсовременном городе Бразилиа или в Акрополе? Понятно, Мартос констатировал устарелость, немодность немецкой статуи – такое заключение делали и будут делать в любом веке; но вряд ли самый авторитетный мэтр, оценив сегодня недостатки представленного на отзыв творения, прибавил бы в своем заключении наивное, незыблемое, само собой разумеющееся – «если взять в соображение век».
Впрочем, не эта ли фраза остановила перо министра финансов, рачительного немца Егора Францевича Канкрина, которому удавалось сводить без дефицита даже крепостнический бюджет николаевской России; или – в скрытом виде проскользнуло неблаговоление августейшего внука к августейшей бабушке – и «подобающего места» для Екатерины II в этом царствовании не предвиделось?
«Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы…»
Пушкин – Нащокину 2 декабря 1832 года:
«…покаместь буду жаться понемногу. Мою статую еще я не продал, но продам во что бы то ни стало. К лету будут у меня хлопоты».
Наталья Николаевна Пушкина – министру двора: (Александру Сергеевичу неловко еще раз самому писать, но с деньгами так худо, что приходится использовать последний шанс; со времени появления медной Бабушки в Петербурге Пушкины, между прочим, уже успели сменить квартиру, потом переедут еще и еще, оставляя монумент украшением двора близ дома Алымовых на Фурштатской улице.)
«Князь,
я намеревалась продать императорскому двору бронзовую статую, которая, как мне говорили, обошлась моему деду в сто тысяч рублей и за которую я хотела получить 25 000. Академики, которые были посланы осмотреть ее, сказали, что она стоит этой суммы. Но, не получая более никаких об этом известий, я беру на себя смелость, князь, прибегнуть к Вашей снисходительности. Хотят ли еще приобрести эту статую или сумма, которую назначил за нее мой муж, кажется слишком большой? В этом последнем случае нельзя ли, по крайней мере, оплатить нам материальную стоимость статуи, т. е. стоимость бронзы, и заплатить остальное, когда и сколько Вам будет угодно. Благоволите принять, князь, уверение в лучших чувствах преданной Вам Натальи Пушкиной».
Министр – Наталье Николаевне:
«Петербург, 25 февраля 1833.
Милостивая государыня,
я получил письмо, которое Вы были так любезны мне послать… по поводу статуи Екатерины II, которую Вы предложили продать императорскому двору, и с величайшим сожалением я вынужден сообщить, что очень стесненное положение, в котором находится в настоящее время императорский двор, не позволяет ему затратить сумму столь значительную. Позвольте Вас уверить, милостивая государыня, в величайшей готовности, с которой без этого досадного обстоятельства я бы ходатайствовал перед Его Величеством о разрешении удовлетворить Вашу просьбу, и примите уверения в почтительнейших чувствах, с которыми я имею честь быть, милостивая государыня, Вашим почтительным и покорным слугой.
Князь Петр Волконский».
Мятлев: «Статуя… корма не просит».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































