Текст книги "Алая буква"
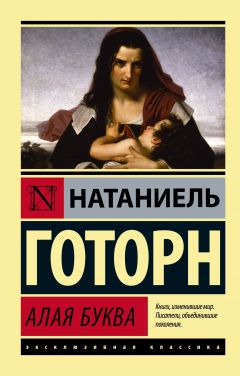
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И однако загадка эта странным образом заинтриговала меня. Алая тряпица в форме буквы «А» притягивала взгляд и не отпускала. Несомненно, в ней таился глубокий смысл, достойный понимания, смысл, с какой-то мистической силой и настойчивостью пытающийся стать внятным моим чувствам и донести до них нечто неуловимое, непостижимое умом.
Совершенно сбитый с толку, я хватался то за одну гипотезу, то за другую, и, заподозрив, в частности, что украшение это может принадлежать к числу тех хитрых приманок, которыми белые люди соблазняли индейцев, я как-то раз приложил эту букву к груди; читатель вправе тут усмехнуться, но прошу его поверить правдивости моих слов – я ощутил – не совсем физически, но совершенно отчетливо – сильное жжение, словно буква была не куском красной материи, а куском раскаленного железа. Я вздрогнул и невольно уронил тряпицу на пол.
Занятый созерцанием алой буквы, я не сразу обратил внимание на грязный бумажный сверточек, который обматывала материя. Развернув его, я, к большому моему удовольствию, обнаружил там написанную рукой старого инспектора и достаточно полную историю матерчатой буквы. На нескольких разрозненных листках излагались в подробностях жизнь и духовное прозрение некоей Эстер Принн, бывшей в глазах наших предков фигурой весьма примечательной. Зрелость ее пришлась на период между первыми годами колонии Массачусетс и концом семнадцатого века. Старики, дожившие до времени мистера таможенного инспектора Пью, на чьи устные свидетельства он опирался, помнили ее с молодых своих лет уже очень старой, но не дряхлой женщиной, осанистой и очень серьезной. Сколько они себя помнили, она вечно сновала по округе, предлагая свои услуги в качестве добровольной сиделки, творя добро всеми доступными ей способами и полностью отдавая этому силы, в том числе выступая и как советчица в разного рода делах, в особенности делах сердечных. Как и бывает всегда в отношении людей, имеющих подобные склонности, одни благоговели перед ней, считая чуть ли не ангелом, другие же, догадываюсь, ворчали, что она лезет, куда ее не просят, и навязывает себя людям. Углубившись в эти рукописные заметки, я обнаружил там дальнейшие факты и подробности полной страданий жизни этой необыкновенной женщины, узнать которые читатель сможет из повести «Алая буква», помня, что все, в ней изложенное, подкреплено подлинными документальными свидетельствами инспектора Пью. Листки его рукописи, как и сама алая буква, эта любопытнейшая реликвия, до сих пор хранятся у меня, и с ними может легко ознакомиться всякий, кого заинтересует эта история и кто пожелает своими глазами увидеть связанные с нею предметы. Это не значит, будто я утверждаю, что в моем повествовании, изображая страсти персонажей, живописуя мотивы и внутренние побуждения их поступков, я ограничивал свою фантазию, заставляя ее не вырываться за пределы, указанные бывшим инспектором и очертившие содержание его разрозненных заметок. Напротив, я позволил себе обращаться с фактами так, словно они целиком и полностью моя выдумка. Единственное, что я готов отстаивать, – это достоверность общих контуров этой истории.
Этот случай вернул меня в некотором смысле на круги своя. Передо мной были наметки повести. И мне казалось, что в заброшенном помещении таможни я вижу старого инспектора, что он не истлел в могиле, а, одетый по моде столетней давности и в вечном своем парике, пришел, чтобы встретиться со мной. Держится он с достоинством, вполне объяснимым и простительным для человека, получившего свою должность распоряжением самого короля и потому озаренного лучами, хранящими отблеск того ослепительного сияния, которое исходит от королевского трона. Увы, как это непохоже на повадку чиновника республики, который в качестве слуги народа чувствует себя самым малым из малых и самым ничтожным из ничтожных своих хозяев! Призрачной рукой своей эта величественная, хоть и несколько расплывчатая фигура вручила мне алую букву вместе с маленькой трубочкой пояснительных листков. Призрачным, загробным голосом он призвал меня к почтительному выполнению моего сыновнего долга по отношению к нему, человеку, по праву считающему себя моим таинственным праотцем, – донести его изъеденные молью и заплесневелые литературные наброски до читающей публики. «Сделай это! – говорит призрак мистера инспектора Пью и с чувством кивает мне столь величественной в нетленном своем парике головой: – Сделай это, и вся прибыль пойдет тебе! Тебе она вскоре понадобится, ибо в твое время в отличие от моего должности перестали быть пожизненными, а тем более наследственными. Но я жду от тебя, чтобы, рассказывая историю матушки Принн, ты отдал должное и своему предшественнику, вспомнив его добрым словом!» И я ответил призраку инспектора Пью согласием.
Итак, я много думал и размышлял об Эстер Принн. Я посвятил этому много часов, шагая взад-вперед по комнате, или сотни раз меряя расстояние от парадного входа в таможню до ее бокового входа, и шаги мои по длинному коридору гулко раздавались в его стенах. Велики, надо думать, были досада и раздражение старого инспектора и всех весовщиков и приемщиков, в чью дремоту так жестко и немилосердно врывался этот нескончаемый топот – мои шаги то туда, то обратно.
Улетая памятью к прежним своим обычаям, они говорили, что инспектор, видимо, обходит шканцы. Наверное, они воображали, что единственной целью таких моих прогулок – а и вправду, что еще может заставить человека в здравом уме вдруг по собственной воле нарушить неподвижность тела? – является предобеденный моцион. И надо признаться, что аппетит, к тому же еще и подстегиваемый восточным ветром, который обычно продувал коридор сквозняком, бывал единственным ощутимым результатом этой моей неуемной живости. Атмосфера таможни так мало приспособлена к тому, чтоб взращивать нежные ростки фантазии и чувствительности, что, оставайся я в моей должности на срок, равный еще десяти президентским срокам, и повести об алой букве читателю никогда бы не увидеть. Воображение мое уподобилось мутному зеркалу, не отражавшему или отражавшему весьма туманно фигуры, которые я старался в нем представить. В горниле моего разума не было того жара, который один способен согреть и придать пластичность создаваемым характерам. Я не умел вдохнуть в них ни огонь страсти, ни теплоту чувств. Окоченевшими трупами взирали они на меня с отвратительной, полной презрения и вызова ухмылкой. «Ну и что ты теперь будешь с нами делать? – как бы спрашивали они. – Та небольшая власть над племенем воображаемых сущностей, которой ты некогда обладал, тобой утрачена! Ты променял ее на жалкие крупицы золота, которыми наделяет тебя общество. Так иди, отрабатывай подачку!» Короче, эти вялые и безжизненные плоды собственной моей фантазии потешались надо мной, смеялись над моей глупостью, на что имели все основания.
В таком несчастном состоянии оцепенелости я пребывал не только в течение тех трех с половиной часов, которые каждодневно вырывал из моей жизни в качестве законной своей доли Дядя Сэм. Оцепенелость эта не оставляла меня и во время моих прогулок по побережью, вылазок на природу, которые я предпринимал редко и неохотно, но при моей вере в живительную силу природы ранее всегда стоило мне выйти за порог Старой Усадьбы, как природа обновляла меня и придавала свежесть моим мыслям. Все та же препятствующая всем моим интеллектуальным поползновениям оцепенелость сопровождала меня домой и наваливалась на меня всей своей тяжестью в комнате, которую я абсурдно продолжал называть кабинетом. Не расставалась она со мной и глубокой ночью, когда, сидя в пустой гостиной, освещенной лишь светом луны и мерцанием углей в камине, я пытался вообразить себе такие картины, чтобы завтра, свободно лиясь с моего пера, они расцветили бумагу живописным богатством оттенков.
Если сила воображения отказывает и в этот час, значит, дело совсем уж плохо и случай следует признать безнадежным. Ведь лунный свет в знакомой комнате, когда белые отблески падают на ковер, так ясно очерчивая все детали узора, когда каждый предмет в комнате виден отчетливо, но все же по-другому, не как при утреннем или дневном свете, – это лучший помощник сочинителю в знакомстве с призрачными его гостями. Вся привычная обстановка квартиры – стулья, каждый из которых обладает собственным норовом, стол в центре комнаты с рабочей корзинкой, одна-две книги, потушенная лампа, диван, книжный шкаф, картина на стене – все это, видимое так ясно и в то же время одухотворенное необычным освещением, словно теряет свою материальность и становится иллюзорным, созданным воображением.
Каждая мелочь подвергается изменению, преображается и тем самым обретает новое достоинство. Детский башмачок, кукла в плетеной колясочке, деревянная лошадка – все, чем пользовались и с чем играли днем, теперь кажется странным, увиденным словно издалека, хотя столь же несомненным, как и при дневном свете. Таким образом, пол в хорошо знакомой нам комнате превращается как бы в нейтральную полосу, территорию, где мир реальный граничит со сказкой, где Действительность и Воображение могут, встретившись и обменявшись дарами, проникнуться друг другом. Сюда могут являться призраки, и пугаться их мы не будем. Обстановка так подходит видениям, что если, оглядевшись, мы вдруг заметим сидящий в кресле и освещенный луной любимый образ человека, давно исчезнувшего, мы не удивимся, а только задумаемся над тем, действительно ли он вернулся издалека или так и сидел здесь всегда у камина.
Тусклое мерцание углей в камине тоже производит воздействие, которое я постараюсь описать. Оно придает воздуху в комнате легкий тепловатый оттенок, окрашивая розовым стены и потолок, поблескивая искрами на поверхности мебели. Теплый свет мешается с холодной одухотворенностью лунных лучей и придает человеческую сердечность и нежную чувствительность созданиям фантазии. Из снежно-холодных чучел они превращаются в живых мужчин и женщин. Глядя в зеркало, мы замечаем в зачарованной его глубине отблеск догорающих углей, отражения лунных лучей на полу, и повторенная зеркалом со всем ее сиянием и мраком картина кажется еще менее реальной и более иллюзорной. И если сидящий в этот час в одиночестве человек, которому предстает эта картина, не в силах предаться самым необузданным и странным мечтам и сделать их подобием правды, значит, браться за перо ему нечего даже и пытаться.
Что же до меня, то на протяжении всей моей таможенной жизни лунный свет и жаркое пламя в камине одинаково мало действовали на меня и вдохновляли не более чем слабое мерцание сальной свечки. Все мои способности восприятия и связанный с ними дар, пусть не такой богатый или же ценный, но все же присутствовавший во мне, – ныне улетучились.
Однако я верю, что выбери я иной замысел, и мои способности оказались бы не столь ничтожными и неглубокими. Я мог бы, например, обратиться к рассказам одного старого шкипера, к которому я выказал бы непростительную неблагодарность, не упомянув о нем, в то время как не проходило и дня, чтобы он не заставлял меня хохотать и восторгаться своим мастерством рассказчика. Передай я живописность его стиля, юмор, которым природа научила его окрашивать описания, и результат, в чем я искренне уверен, обогатил бы современную литературу. Или же я мог бы поставить перед собой и более серьезную задачу. Разве не было с моей стороны чистым сумасбродством пытаться уйти с головой в иную эпоху, упрямо надеясь придать жизнеподобие воздушному миру фантазии, когда со всех сторон вокруг меня теснилась грубая реальность? Не разумнее было бы сосредоточить усилия на том, чтоб, проникнув мыслью и воображением в вязкую и темную повседневность, придать ей яркости и прозрачности, одухотворить тот груз, что начал так тяготить, решиться на поиски того истинного, полного непреходящей ценности, что спрятано в докучливых мелочах повседневной жизни, в обыденности характеров, с которыми я тогда общался? Каюсь! Простиравшаяся передо мной странная жизнь казалась мне унылой и неинтересной лишь потому, что я не проник в глубины ее смысла! Мне представлялась возможность создать книгу, прекраснее которой мне не написать, лист за листом являлись, написанные реальностью летучих мгновений, являлись, и тут же исчезали, потому что мозгу моему не хватило проницательности, а руке – мастерства их запечатлеть. Но возможно, когда-нибудь в будущем в памяти моей всплывут разрозненные обрывки, отдельные мысли, и я запишу их и увижу, как буквы на странице превращаются в золото.
Такого рода прозрения явились мне поздно. А пока я понимал лишь, что былое удовольствие превратилось для меня в безнадежный каторжный труд. И сколько ни стенай – делу не поможешь. Былой сочинитель весьма жалких рассказов и очерков превратился во вполне сносного главного инспектора таможни. На этом можно поставить точку. Однако чувствовать, как слабеют умственные силы, и подозревать, что интеллект твой незаметно улетучивается, подобно эфиру из сосуда, когда каждый раз, взглянув, убеждаешься, что количество вещества уменьшилось, а остаток его стал плотнее, – не слишком приятно.
Опираясь на сей несомненный факт и наблюдая за собой и окружающими, я заключил, что государственная служба не слишком благоприятна для развития личности. Когда-нибудь я, возможно, порассуждаю на этот счет подробнее. Пока же достаточно будет сказать, что ветеран таможенной службы вряд ли может считаться лицом, вполне достойным похвалы или же уважаемым в силу ряда причин. Одна из них – устойчивость положения, которое ему обеспечивает его место, другая же – это сам характер того дела, которому он посвятил себя и которое, при всей почтенности своей, в кою я верю, все же не вносит достаточный вклад в поступательное движение человечества. Результат, мне кажется, более или менее зрим в каждом чиновнике таможни, и заключается он в том, что, опираясь на мощное плечо республики, такой чиновник теряет способность опираться на собственные силы. И скорость, с какой это происходит, пропорциональна количеству отпущенной ему природой силы или слабости характера. Если он обладает необычайным запасом природной энергии или же расслабляющее влияние службы действует на него не так долго, утраченная способность может восстановиться.
Отринутый службой чиновник, которому посчастливилось безжалостным пинком быть ввергнутым вновь в мир борьбы, чтобы бороться там наравне с другими, может вновь стать самим собой, вернувшись к тому, чем был исконно. Но подобное происходит редко. Обычно чиновник долго сохраняет свое место и успевает превратиться в руину, когда его вышвыривают, уже никуда не годного, слабого, с трудом ковыляющего по каменистой тропе жизни. Горестно ощущая свою немощь, чувствуя, что утратил полностью и закалку, и гибкость членов, он грустно озирается в поисках какой-либо внешней поддержки. Его не оставляет надежда – призрачная и вопреки разочарованиям не желающая признавать свою иллюзорность, надежду эту сохраняет он до самого конца и, подобно холерной судороге, мучает она его даже какое-то время после смерти, – что благодаря некоему счастливому стечению обстоятельств он будет восстановлен на службе. Эта несбыточная вера не дает ему даже помыслить о том, чтобы заняться чем-нибудь другим. Зачем утруждать себя, стараться встряхнуться, собраться с силами и выбраться наконец из мягкой тины, когда совсем скоро ему протянет сильную руку его Дядюшка и поможет подняться? Зачем работать здесь или отправляться копать золото в Калифорнии, когда он вот-вот будет осчастливлен опять регулярными, раз в месяц, подачками блестящих монеток из Дядюшкиного кармана? С печальным любопытством наблюдаем мы, как вредоносна оказывается сама атмосфера службы, как глубоко поражает она организм бедняги страшной болезнью. Золото Дяди Сэма – при всем моем уважении к достопочтенному старому джентльмену – обретает в этом случае сходство с заклятием, наложенным на сокровище дьявола. Тот, кто прикасается к этим монетам, должен вперед хорошенько подумать, чтоб не случилось с ним ничего, чтоб не потерял он либо душу, либо лучшие из ее качеств – упорство, храбрость, верность, умение полагаться на себя – все то, что составляет суть истинно мужского характера.
Нечего сказать, приятная перспектива! Не то чтобы главный инспектор применял к себе все вышесказанное или считал, что может быть полностью разрушен как личность, продолжай он работу на таможне или будучи уволен, но настроение мое было не из лучших. Все чаще меня стали одолевать меланхолия и беспокойство; я постоянно копался в себе, пытаясь понять, какие из скромных моих способностей я утратил полностью и насколько ухудшилось состояние остальных. Я все время прикидывал, как долго еще смогу оставаться на службе, не рискуя потерять себя как личность. По правде говоря, больше всего опасался я одного: так как увольнять смирного и безобидного человека было бы нерационально, а оставлять службу по собственной воле противно самой природе чиновника, то я боялся состариться на службе, одряхлеть и превратиться во второго старого инспектора. Неужели и мне предстоит по прошествии некоторого томительного периода службы, как это делает мой почтенный друг, считать обеденный перерыв главным событием рабочего дня, а все остальные часы дремать, как старый пес на припеке или в тени? Какая скучная перспектива для человека, почитающего за счастье в полной мере давать волю всем своим чувствам и способностям! Но вышло так, что волновался я напрасно. Провидение оказало мне помощь таким образом, который я даже не мог себе представить.
Важным событием, ознаменовавшим третий год моего таможенного служения – говоря языком П.П., – было избрание президентом генерала Тейлора[12]12
Тейлор, Закари (1784–1850) – президент США с 1849 по 1850 г.
[Закрыть].
Для того чтобы правильно и всесторонне оценить преимущества государственной службы, следует знать и о том, каким неприятным осложнением оборачивается для чиновника приход к власти противоборствующей партии. Положение его тогда становится в высшей степени двусмысленным и, во всяком случае, неприятным настолько, насколько может быть неприятным положение смертного: лучшее ему не светит, а то, что он считает худшим, может на поверку оказаться самым лучшим, на что он еще может надеяться. Для человека, не лишенного гордости, является также испытанием знать, что его благополучие зависит теперь от людей, ему чуждых, его не любящих и не понимающих, людей, которые при случае готовы скорее навредить ему, чем помочь. Странно к тому же человеку, сохранявшему полное спокойствие во время предвыборной гонки, наблюдать, как кровожадно ведут себя победители, и чувствовать себя среди объектов кровожадной ненависти. Трудно представить себе что-либо безобразнее этой присущей людям склонности, а именно ее я наблюдаю ныне у моих ближних – звереть от одного сознания, что теперь в их власти творить зло. Если бы гильотина в применении к чиновничьей жизни была реальностью, а не просто удачной метафорой, то я уверен, что активисты-победители с большим одобрением отнеслись бы к идее отрубить нам всем головы и возблагодарили бы Небо за представившуюся возможность!
Мне, всегда дорожившему моей позицией – быть спокойным и заинтересованным наблюдателем как побед, так и поражений, все же кажется, что многочисленные победы моей партии не вызывали в моих товарищах такого яростного и злого духа мщения, какой продемонстрировали по отношению к нам виги. Демократы, как правило, занимают руководящие посты, так как нуждаются в них и так как многолетняя практика политической борьбы дает им такую законную возможность. Не признавать такого права без изменения всей системы было бы проявлением слабости и трусости. Но долгие годы побед научили демократов великодушию. Они умеют пощадить, когда для этого есть возможность, и если и наносят удар, то лезвие их топора редко бывает острым, сбрызнутым ядом злорадства. Не в обычае у них и презрительно пинать отрубленную голову.
Короче говоря, при всей неприятной затруднительности моего положения я усматривал множество резонов поздравить себя с тем, что нахожусь не среди победителей, а среди побежденных. Если прежде я не принадлежал к числу самых горячих сторонников демократической партии, то теперь, в период опасностей и яростной борьбы, я с особой ясностью ощутил, к какой партии принадлежат мои симпатии и предпочтения. Не без стыда и сожалений вспоминал я, как, подсчитывая и сравнивая шансы, полагал, что возможностей сохранить за собой место у меня больше, чем у кого бы то ни было из моих собратьев-демократов. Но, прозревая будущее, кто видит дальше своего носа? Моя голова слетела первой!
Минута, когда человеку отрубают голову, редко, как склонен я думать, бывает счастливейшей минутой его жизни. И тем не менее даже для такой крупной неудачи, как и для большинства наших неприятностей, имеется утешительное лекарство – если пострадавший будет пытаться увидеть в случившемся не худшую, а лучшую его сторону. В моем случае средства находились под рукой и обдумал я их гораздо раньше, чем пришла в них нужда. Моя давняя усталость от службы вкупе с вялыми планами добровольной отставки придавали мне некоторое сходство с человеком, замышлявшим самоубийство, который вдруг и против всех его ожиданий оказывается убитым. На таможне, как и ранее в Старой Усадьбе, я провел три года – срок достаточный, чтобы утомленный мозг отдохнул, достаточный, чтоб покончить со старыми интеллектуальными привычками и заменить их новыми, и предостаточный для того, чтобы продолжать противоестественное существование, от которого никому не было ни пользы, ни удовольствия, и заняться, наконец, тем, что хотя бы утихомирит снедавшее меня внутреннее беспокойство. Что же касается бесцеремонного моего увольнения, то бывшему главному инспектору было даже приятно, что виги увидели в нем врага, ибо его слабая политическая активность, его склонность бродить куда вздумается по обширным спокойным, открытым всему человечеству просторам, вместо того чтоб пробираться узкими тропами, где даже братья, встретившись, должны посторониться, чтоб не столкнуться лоб в лоб, – заставляла демократов иной раз задаваться вопросом, можно ли считать его истинным другом. Теперь же, когда он был увенчан мученическим венцом (потеряв предварительно голову, на которую венец этот можно было бы нахлобучить), все сомнения улетучились и вопрос, считай, решился. И потом, хоть подлинного героизма в этом и было мало, но все же приличнее быть низвергнутым вместе с падением партии, к которой себя приобщал, чем оставаться пережившим ее одиночкой в то время, как пали более достойные ее члены, а затем, кое-как протянув четыре года по милости враждебных тебе властей, все-таки заново просить власть прояснить твое положение и еще более униженно искать милости у соратников.
Между тем дело мое подхватила пресса; неделю-другую она всячески склоняла мое имя, и я странствовал по страницам газет в обезглавленном виде, подобный ирвинговскому безголовому всаднику[13]13
Всадник без головы – персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда Сонной Лощины».
[Закрыть], – чудовищное видение, только и мечтающее быть похороненным, как и положено политическому трупу. Все это, конечно, только в фигуральном смысле, потому что физически я, не теряя головы на плечах, пришел к утешительному выводу, что все случившееся к лучшему. И, закупив чернил, бумаги и стальных перьев, откинул крышку своего давно заброшенного бюро и вновь превратился в литератора.
Вот тут-то и пригодились мне записки моего предшественника, главного инспектора Пью. Порядком заржавевшим от бездействия моим мозгам требовался некоторый разгон, чтобы умственный механизм пришел в движение и работа над повестью пошла сколько-нибудь удовлетворительно. Но даже и работая в полную силу, я видел, что из-под моего пера выходит картина слишком мрачная и безотрадная, не согретая живым и ласковым солнечным теплом, нежными оттенками, которые, на мой взгляд, должны смягчать краски любых изображений, будь то природа или человеческая жизнь. Возможно, неприглядность эта есть следствие воспроизводимого исторического периода, когда Революция едва окончилась, а жизнь все еще кипела страстями. Во всяком случае, это не должно указывать на отсутствие у автора веселости, потому что, покинув Старую Усадьбу, никогда я не был так счастлив, как пробираясь сквозь мрак этих бессолнечных фантазий. Некоторые из коротких очерков, вошедших в состав этого тома, были написаны после моего вынужденного ухода с трудоемкого и почетного места служения общественному благу, другие же были извлечены мною из ежегодных альманахов и журналов столь давних, что о них успели забыть и теперь эти произведения читаются как свежие[14]14
Работая над этим очерком, автор намеревался вместе с «Алой буквой» напечатать и несколько рассказов и набросков, но позднее счел разумным отложить такое намерение. – Примеч. автора.
[Закрыть]. Вновь используя метафору политической гильотины, материалы эти можно назвать «Посмертными записками обезглавленного главного инспектора», при этом очерк, который я сейчас подвожу к финалу, если и является чересчур автобиографичным для того, чтобы скромность позволяла печатать его при жизни, извинителен для человека, взывающего из могилы: «Мир вам, живущие! Благословляю друзей моих! Прощаю врагам моим! Ибо пребываю я в Царстве покоя!»
Таможня и жизнь в ней теперь остались для меня позади, превратились лишь в сон. Старый инспектор, который, между прочим, как ни грустно сообщать вам это, некоторое время назад погиб под копытами лошади, а не случись этого, жил бы вечно, вместе с другими достойными персонажами, как и он, занимавшимися взиманием пошлин, видятся мне сейчас призраками – эдакие седовласые морщинистые измышления моей фантазии, игрушки ее, брошенные и забытые навсегда. Торговцы – Пингри, Филипс, Шепард, Эптон, Кимбел, Бертрам, Хант – все эти и многие другие, чьи фамилии были так привычны моему уху всего полгода назад, все эти коммерсанты, казавшиеся такими важными персонами в этом мире, – как мало времени потребовалось, чтобы все они исчезли не только из моей жизни, но даже и из воспоминаний!
Я с трудом могу представить себе только некоторых из них. Вот так же вскоре и мой родной город будет видеться мне только в дымке воспоминаний; туман поглотит его и станет он не реальным куском земли, а странных очертаний облаком, облачным градом, населенным воображаемыми людьми. Они выходят из деревянных домов, проходят по уродливым улочкам, чтобы выйти на длинную и унылую Главную улицу. Все это перестало быть для меня реальностью, я теперь принадлежу к другому месту. Мои добрые земляки не будут сожалеть о моем отъезде, ибо хотя я и пытался литературными трудами своими, помимо прочих моих целей, снискать уважение и у них и оставить по себе добрую память в этом месте, где жили, а ныне покоятся многие и многие мои предки, я не считал, что воздух этого города благоприятствует созреванию плодов умственной деятельности, с тем чтобы писатель мог надеяться на отменный их урожай. Мне будет лучше среди других лиц, а эти, столь хорошо мне знакомые, надо думать, отлично обойдутся без меня.
И однако – о вдохновляющая и радостная мысль! – может быть, праправнуки моих современников с теплым чувством вспомнят старого сочинителя историй из давно минувшей жизни. Тогда будущий любитель древностей среди памятных мест города отыщет и то, где находилась некогда городская водокачка[15]15
Про городскую водокачку Готорн писал в одном из очерков сборника «Дважды рассказанные истории».
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































