Текст книги "Алая буква"
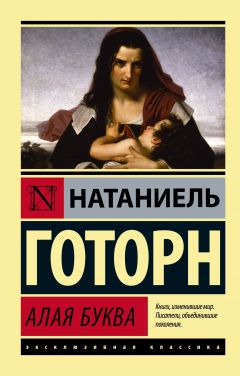
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 3
Встреча
От ясного и мучительного осознания того, что именно она стала объектом всеобщего пристального внимания, женщину с алой буквой на груди отвлекла фигура из толпы, стоявшая в самых задних ее рядах, моментально и всецело захватившая все ее помыслы. Там находился и индеец в туземном своем наряде, но краснокожие столь часто забредали в английские поселения, что появление, да еще в такой момент, одного из них, вряд ли заставило бы Эстер Принн забыть обо всем вокруг. Но рядом с этим индейцем, по-видимому, пришедший вместе с ним, стоял белый человек, одетый в странную смесь платья цивилизованного, европейского, с местным дикарским.
Он был невелик ростом, с лицом, изборожденным морщинами, которые пока что не могли с определенностью свидетельствовать о возрасте. Черты его изобличали ум, отточенный учеными занятиями, чрезмерностью и продолжительностью своей повредившими его физической форме, что сказалось со всей очевидностью на его облике. При всей небрежности наряда он все же постарался скрыть либо приуменьшить видимую особенность своей фигуры, мгновенно замеченную и Эстер, – неровность плеч, одно из которых было выше другого. И при первом же взгляде на тонкие его черты и легкую неправильность фигуры Эстер вновь судорожно прижала к груди ребенка с силой, исторгшей у несчастного младенца новый крик боли. Однако мать словно не слышала этого крика.
С самого прибытия на рыночную площадь и какое-то время, пока Эстер его не заметила, взгляд мужчины постоянно обращался к ней, поначалу словно в рассеянности, как смотрят люди, привыкшие глядеть главным образом внутрь себя, те, кому нет никакого дела до событий внешнего мира, не имеющих отношения к собственным их душевным движениям. Вскоре, однако, взгляд его стал пристальным и пронизывающим. Ужас, исказивший его черты, скользнув по лицу, подобно змее, на секунду мелькнул в его взгляде. Лицо его потемнело от волнения, которое он мгновенным усилием воли сумел в себе подавить, и теперь выражение лица его могло показаться исполненным спокойствия. Одно мгновение – и конвульсия боли, исказившая черты, их покинула, нырнув в глубь естества его и там себя исчерпав. Когда мужчина встретил устремленный на него взгляд Эстер Принн и понял, что она его узнала, он, медленно и спокойно подняв палец, покачал им в воздухе, после чего приложил к губам.
Затем, тронув за плечо стоявшего рядом горожанина, он со всею вежливостью и предупредительностью осведомился:
– Не будете ли любезны просветить меня, сэр, кто эта женщина и за что подвергают ее подобному позору?
– Вы, видимо, человек пришлый, дружище, – ответствовал горожанин, с любопытством оглядывая вопрошавшего в его дикарском наряде, а также первобытного его спутника, – иначе вы, несомненно, слыхали бы о миссис Эстер Принн и греховных ее деяниях. Они вызвали большой скандал в приходе преподобного Димсдейла, среди его паствы, уверяю вас.
– Вы были совершенно правы, – согласился его собеседник, – когда заключили, что я человек пришлый. Не по своей воле став скитальцем и испытав череду печальных злоключений на море и на суше, я долго томился в плену у племени язычников, обретающихся к югу отсюда, а ныне доставлен этим вот индейцем сюда с целью избавить меня от плена за определенную мзду. Так расскажите же мне, умоляю, об этой Эстер Принн, если я не перепутал имя; чем оскорбила она всех и что привело ее на этот эшафот?
– Думаю, сердце ваше возликует, дружище, – изрек горожанин, – от отрадного сознания, что после долгих мытарств и пребывания в диких дебрях вы наконец оказались в краю, где беззаконие бывает выявлено и наказано, как это происходит сейчас на глазах у всего народа и правителей его у нас в хранимой Господом Новой Англии! Да будет вам известно, сэр, что женщина сия являлась супругой некоего высокоученого человека, англичанина по рождению, но долгое время проживавшего в Амстердаме, откуда уже довольно давно он замыслил перебраться, связав свою судьбу с нами, жителями Массачусетса. С этим намерением он отправил сюда жену, вперед себя, так как самого его задержали в Амстердаме дела. Прожив здесь в Бостоне года два или несколько меньше и не имея известий о высокоученом своем супруге мистере Принне, молодая его жена, оставшаяся без должного попечения и руководства и предоставленная лишь собственным дурным помыслам и заблуждениям…
– Ага! Понял вас, – с горькой усмешкой прервал его новоприбывший. – Правда, столь высокоученый, как вы его охарактеризовали, джентльмен, несомненно, должен был бы почерпнуть из книг и знание подобных закономерностей и прискорбные примеры их проявлений. Так кто же, коли будете вы любезны открыть мне на это глаза, сэр, является отцом младенца, которого сейчас женщина эта держит на руках и которому, судя по его виду, никак не больше трех-четырех месяцев от роду?
– Сказать по правде, дружище, это остается загадкой, а прорицателя, способного ее разгадать, пока не нашлось, – отвечал горожанин. – Мадам Эстер наотрез отказывается сообщить его имя, и судьи наши тщетно ломают головы, пытаясь найти ответ. Может так случиться, что виновник сейчас присутствует здесь и наблюдает это печальное зрелище, не узнанный никем, кроме Господа, о коем он, по-видимому, напрочь забыл.
– Высокоученому мужу, – вновь улыбнулся собеседник, – надлежало бы самому прибыть сюда и постараться проникнуть в эту тайну.
– Такое вполне приличествовало бы ему, будь он жив, – отвечал горожанин. – Однако сейчас, уважаемый, судейское сообщество Массачусетса, заключив, что молодую и красивую эту женщину, несомненно, сильно искушали, коварно подталкивая к падению, а супруг ее, весьма вероятно, покоится в морской пучине, не решилось применить к ней самую суровую меру, предусмотренную нашим законодательством, и подвергнуть смертной казни. По великой милости своей и храня добросердечие, судьи приговорили миссис Принн всего лишь к трехчасовому стоянию на позорном помосте и ношению впоследствии до самого окончания земного ее поприща позорного знака на груди.
– Мудрый приговор! – заметил новоприбывший. – Он делает знак позора на ее груди живым примером и предостережением от соблазна греха. В этом качестве он может служить и после ее кончины, будучи вырезанным на надгробии ее. И все же как горько сознавать, что сообщник этой женщины в греховном деянии не стоит сейчас бок о бок с ней на эшафоте! Но он будет найден! Будет, будет!
Мужчина любезно поклонился словоохотливому своему собеседнику и шепнул что-то индейцу, после чего оба стали пробираться через толпу.
Все это время Эстер Принн, стоя на своем возвышении, не сводила глаз с незнакомца, и взгляд ее был столь пристален, что, казалось, полностью исключал для нее все прочее в этом мире, кроме них двоих – ее и его. Но встреча с ним наедине, наверное, была для нее страшнее этой их встречи под лучами полуденного солнца, жегшего ее и без того горящее от стыда лицо, когда она, стоя с зачатым во грехе ребенком на руках и позорным знаком на груди, встречала взгляды толпы, собравшейся, как на праздник, дабы лицезреть черты, которым более пристало отражать мирное пламя домашнего очага либо угадываться под покровом, прикрывающим голову благочестивой жены во время молитвы в храме.
При всем ужасе ее позора присутствие на нем тысяч свидетелей виделось ей неким укрытием. Уж лучше стоять здесь, когда их разделяет множество людей, чем встретиться с ним лицом к лицу, когда никого нет рядом. Многолюдье вокруг было для нее едва ли не спасением, и она страшилась минуты, когда окажется лишенной этого спасительного средства.
Погруженная в эти мысли, она не услышала голоса, раздавшегося у нее за спиной, пока голос этот несколько раз не повторил ее имени, громко и раскатисто пронесшегося над площадью.
– Обрати свой слух ко мне, Эстер Принн!
Уже было упомянуто, что помост, на котором стояла Эстер Принн, располагался под балконом, а вернее сказать, открытой галереей молитвенного дома, и балкон этот сейчас нависал над ней. С этого балкона провозглашались обычно выпущенные властями указы и судебные предписания, что делалось торжественно, с соблюдением всех церемоний, положенных тогда подобным общественным событиям.
Сюда, дабы наблюдать описываемую нами церемонию, прибыл и сам губернатор Беллингем с почетным эскортом из четырех стражников, стоящих теперь с алебардами в руках по бокам от его кресла. Шляпу губернатора украшало темное перо, плащ, отороченный узорчатой каймой, прикрывал камзол из черного бархата. Опыт прожитых лет и нелегких испытаний оставил отпечаток на морщинистом лице его. Для роли главы и представителя всего сообщества колонии он подходил как нельзя лучше, ибо рождением своим и теперешним состоянием колония обязана была не энергии порывистых юнцов, а строгой, хорошо продуманной и выверенной умеренности действий и угрюмой мудрости, которую приносит возраст, достигающий столь многого именно потому, что не имеет склонности давать воли воображению и чрезмерным надеждам. Прочие видные особы, окружавшие ныне кресло главного правителя, отличались тем выражением достоинства, которое хранили лица, причастные к власти, в эпоху, когда все ее институты почитались священными и учрежденными чуть ли не самим Создателем. Являлись они, безусловно, людьми добропорядочными, мудрыми и справедливыми. Однако трудно было бы из всего рода человеческого выбрать особ менее способных судить оступившуюся женщину, разобраться в мешанине добра и зла в ее сердце, чем эти суровые мудрецы, к которым обратила сейчас лицо свое Эстер Принн. Казалось, она в полной мере ощущала, что какое бы то ни было сочувствие она может снискать лишь в более простых и милосердных душах людей из толпы, ибо, подняв взгляд к балкону, несчастная побледнела и задрожала.
Голос, воззвавший к ней, принадлежал преподобному и достославному Джону Уилсону, старейшему священнослужителю Бостона, человеку высокообразованному, какими было большинство тогдашних его собратьев по призванию, и при этом доброму и снисходительному. Последние качества, впрочем, были в нем не столь явны, как его мыслительные способности, ибо являлись для него не предметом гордости, а постыдной чертой, которую следовало скрывать, пряча поглубже. Стоя сейчас в маленькой шапочке, из-под которой венчиком выбивались седенькие завитки волос, и мигая серыми своими глазами, более привычными к сумраку кабинета, чем к слепящим и безжалостным солнечным лучам, он казался ожившей гравюрой, из тех, что предваряют текст в старинных фолиантах богословских трудов и молитвословах, и в силу этого сходства вряд ли мог он сейчас претендовать на право разбираться в вопросах вины, страстей и душевных мук человеческих.
– Эстер Принн, – произнес священник, – я спорил с молодым моим собратом, под чьим духовным попечением тебе посчастливилось пребывать, – тут мистер Уилсон опустил руку на плечо бледного молодого человека рядом, – пытаясь убедить этого благословленного Господом юношу в том, что именно ему следует говорить сейчас с тобой перед ликом Господним, мудрыми и справедливыми властями нашими и перед всем честным народом касательно мерзости и скверны твоего греха. Зная лучше, чем знаю его я, твой нрав, он способен вернее рассудить, какими доводами и какими словами – мягкими или же, напротив, грозными и жесткими – можно было бы пересилить твою неуступчивость и твое упрямство, с тем чтобы ты прекратила утаивать имя соблазнителя, приведшего тебя к прискорбному твоему падению. Но он возражал мне (со свойственным молодости мягкосердечием, хотя в других отношениях юноша сей мудр не по летам), доказывая, что было бы насилием над самой природой женщины заставить ее выносить на яркий солнечный свет, да еще перед таким внушительным скоплением народа, сокровеннейшие сердечные тайны, хотя на самом-то деле, в чем я и старался всеми силами его убедить, позор греха заключен в его совершении, а вовсе не в признании в нем перед людьми. Что скажешь ты на это теперь, брат Димсдейл? Кому – тебе или мне надлежит позаботиться о душе несчастной грешницы?
Тут собравшиеся на балконе достойные и облеченные властью особы шепотом принялись обмениваться репликами, и общее мнение их выразил губернатор Беллингем, обратившийся к молодому священнику авторитетным тоном, властность которого умерялась лишь уважением к сану:
– Достопочтенный мистер Димсдейл, ответственность за душу этой женщины возложена на вас. Стало быть, именно вам и надлежит принудить ее к раскаянию и, как следствие и доказательство последнего, к столь необходимому признанию.
Прямота и недвусмысленность такого обращения заставили взгляды всех присутствующих устремиться к преподобному мистеру Димсдейлу, питомцу одного из знаменитейших английских университетов, прибывшему в наши дикие лесные края во всеоружии современных знаний с намерением щедро поделиться ими с местным населением. Его красноречие и пылкость веры уже выдвинули его в первые ряды служителей церкви. Внешность его была в высшей степени примечательна: благородный высокий лоб, большие карие глаза, глядевшие с меланхолическим выражением, и губы, в минуты, когда он не сжимал их намеренно, трепетно чуткие и подвижные, что свидетельствовало как о его чувствительности, так и большом запасе самообладания и умения обуздывать свои порывы. Никак не сочетаясь с природными его дарованиями и достижениями в науках, весь вид его в эту минуту говорил о настороженности, растерянности и даже некотором испуге, какой испытывает человек, который сбился с пути и способен обрести легкость и спокойствие, лишь полностью погрузившись в глубь души своей, почему мистер Димсдейл, когда то дозволяло ему его служение, спешил уединиться в кабинете, где и исследовал туманные закоулки своей души и потайные ее движения, чтобы потом явиться обновленным и свежим, благоухая росной ясностью мысли в своих проповедях, действовавших, как уверяли многие, подобно речи самого ангела небесного.
Таков был молодой человек, коего преподобный мистер Уилсон и губернатор представили на всеобщее обозрение, настоятельно попросив попытаться раскрыть тайну женской души, священной даже в мерзостном осквернении, которому ее подвергли. Двусмысленность и сложность его задачи заставили щеки молодого человека побледнеть, а губы – слегка подрагивать.
– Обратись к этой женщине, брат мой, – сказал мистер Уилсон, – это важно, как сказал высокочтимый губернатор наш, для ее души и тем самым для твоей собственной!
Преподобный мистер Димсдейл склонил голову, как казалось, в безмолвной молитве, после чего выступил вперед.
– Эстер Принн, – сказал он, перегнувшись через балконные перила и направив взгляд в самую глубину ее глаз, – ты слышишь, что говорит сей благочестивый человек, и знаешь условие, по которому я выполняю долг свой. Если сознаёшь ты, насколько успокоительна и целительна для земного искупления твоего греха, а значит, и для спасения души твоей может быть сия правда, я заклинаю тебя высказать ее, открыв имя согрешившего вместе с тобой и вместе с тобой мучимого сейчас раскаянием. Да не обманут тебя ложно понятая жалость и чувство к нему, ибо, поверь мне, Эстер, с какого бы высокого места он ни сверзился сейчас, встав рядом с тобою на этом позорном помосте, это будет легче для него, чем до скончания дней таить в сердце свою вину! Что может сделать для него твое молчание, кроме как соблазнить, а вернее, заставить усугубить грех еще и лицемерием? Небо даровало тебе откровенный позор, чтобы ты могла тем самым торжествовать победу над злом внутри тебя и скорбью снаружи. Страшись отвести от уст того, кто, возможно, не имеет в себе мужества принять ее, горькую, но целительную чашу, которую сейчас принимаешь ты!
Благозвучный низкий голос юного пастора звенел и прерывался. Не столько смысл его слов, сколько глубокое чувство и искренность, с какою он их произносил, отозвались в сердцах всех слышавших эту речь, вызвав в них единодушное сочувствие. Даже и несчастный младенец, прижатый к груди Эстер, испытал на себе действие этого голоса, потому что взгляд его, дотоле пустой и рассеянный, теперь обратился к мистеру Димсдейлу, а ручками своими ребенок с невнятным, но, видимо, выражавшим удовлетворение курлыканьем потянулся к нему. Такой победительной проникновенностью обладала эта речь священнослужителя, что собравшиеся не могли не поверить в то, что Эстер Принн не замедлит произнести сей же час грешное имя виновника своего позора или же он сам, какое бы положение, низкое или высокое, он ни занимал, сию же минуту ощутит властную и неодолимую потребность подняться на эшафот.
Но Эстер лишь помотала головой.
– Не испытывай границы милосердия Господнего, женщина! – вскричал тоном более резким, нежели ранее, преподобный Уилсон. – Даже дитя твое обрело голос, чтобы подкрепить данный тебе сейчас совет. Выговори это имя, и раскаяние твое может оказаться достаточным, чтобы снято было с твоей груди алое клеймо!
– Никогда! – отвечала Эстер Принн, глядя не на мистера Уилсона, а в самую глубь смущенных глаз молодого его собрата. – Клеймо это слишком глубоко выжгло мне кожу и въелось в сердце! Вам не снять с меня клейма. И я готова терпеть эту муку за нас двоих!
– Скажи это имя, женщина! – раздался холодный и суровый голос из толпы. – Скажи и подари отца своему ребенку!
– Нет, не скажу! – произнесла Эстер.
Побледнев как смерть, она все же сумела ответить так хорошо знакомому ей голосу:
– А девочка моя пусть уповает на Небесного Отца своего, раз имени отца земного ей не дано узнать!
– Не желает говорить… – пробормотал мистер Димсдейл. Перегнувшись через перила и прижав руку к сердцу, он с волнением ждал ответа женщины, и теперь сделал шаг назад, испустив тяжелый вздох. – Поистине поразительно, сколько сил и великодушия может заключать в себе женская натура! Не желает говорить.
Почуяв безвыходность положения при таком состоянии ума несчастной преступницы, старший из священников, готовый к подобному развитию событий, обратился к толпе с пространной речью о грехе в разных его обличьях и ипостасях, то и дело возвращаясь к позорному буквенному клейму, его смыслу и цели. Он так ярко живописал его, так долго, с час или более, округлые и громогласные периоды его речи, проносясь над головами, проникали в самую душу каждому и охватывали воображение многих с такой силой, что возникали уже видения самого ужасного свойства, а алый цвет позорного клейма начинал казаться едва ли не порождением адского пламени.
Между тем Эстер Принн оставалась на своем пьедестале позора, сверкая глазами, но всем видом своим выказывая безразличие. В это утро она вынесла все, что только способна вынести природа человеческая; поскольку не в ее характере была привычка избегать страданий, падая в обморок, душа ее могла укрыться, лишь спрятавшись под тяжким и грубым панцирем безразличия, в то время как все физические функции ее организма, оставаясь незатронутыми, действовали в полную силу. В этом состоянии неумолимо грохочущий голос священника не достигал ее ушей. Она пыталась успокоить ребенка, под конец ее мучительного испытания оглашавшего все вокруг жалобным плачем; делала она это механически, по-видимому, нисколько не сочувствуя ребенку. Все с той же неумолимой суровостью ее препроводили в узилище, и она скрылась из глаз за окованной железом дверью под перешептыванья тех, кто углядел яркий отсвет, которым на секунду озарила темный тюремный коридор сиявшая на ее груди алая буква.
Глава 4
Разговор
По возвращении Эстер Принн в тюрьму, она, как это было замечено, впала в состояние необычного беспокойства и возбуждения, чем заставила тюремщиков следить за ней с особой бдительностью, на случай, если ей вздумается лишить себя жизни или она сгоряча, в припадке безумия, так или иначе повредит ребенку. Поскольку с приближением ночи стало окончательно ясно, что все попытки утихомирить ее уговорами и угрозами тщетны, тюремщик мистер Бракет решил пригласить к ней доктора.
Последнего молва считала весьма искусным во всех видах врачевания, принятых христианским миром, а сверх того, перенявшим у дикарей их науку лечить с помощью целебных лесных трав и кореньев. Надо признать, что совет опытного лекаря в данном случае был и вправду нужен – и не только в отношении Эстер, но и ее младенца, который вместе с материнским молоком, казалось, напитался и ее тревогой, тоской и отчаянием. Ребенок корчился от боли, словно маленькое его тельце являлось воплощением того страдания, которое в этот день пришлось на долю его матери.
Вслед за тюремщиком в мрачный застенок вошел тот приметной наружности человек, чье появление в толпе так приковало к себе внимание носительницы алой буквы. Он был помещен в тюрьму не как подозреваемый в каком-либо преступлении, но потому что в ней властям было всего сподручнее его держать, пока шли переговоры с индейскими старейшинами о выкупе за него. Звался этот человек Роджером Чиллингвортом. Впустив его в камеру, тюремщик на мгновение задержался в ней, приятно удивленный вдруг наступившей тишиной, потому что, едва увидев этого человека, Эстер Принн совершенно замерла, притом что младенец все еще продолжал плакать.
– Окажи милость, дружище, оставь меня наедине с пациентом, – сказал доктор. – Уверяю тебя, почтеннейший, что сумею внести покой в сей дом и сделать так, чтоб Эстер Принн отныне стала более послушной и покладистой.
– Ну, – отвечал мистер Бракет, – если вы, ваша милость, сумеете этого добиться, я признаю в вас великого и искусного лекаря. По правде сказать, женщина эта мечется как одержимая, и я уже был готов взяться за плеть, чтобы изгнать из нее дьявола!
Незнакомец вошел в камеру с невозмутимым видом, свойственным людям той профессии, к которой, отрекомендовавшись, себя причислил. Вид этот он сохранил и когда тюремщик ушел, оставив его с глазу на глаз с той, чей взгляд, прикованный к нему в толпе, свидетельствовал о близком их знакомстве. Первой заботой его стала лежавшая на тюремной койке малышка, чьи громкие крики заставляли врача отложить все другое и незамедлительно заняться ею. Он внимательнейшим образом осмотрел ее и затем извлек из-под плаща и раскрыл кожаный саквояж. Внутри оказались какие-то снадобья, одно из которых он размешал в чашке воды.
– Мое изучение алхимии, – заметил он, – и жизнь, которую я более года вел среди людей, искушенных в благотворных свойствах самых обычных растений, превратили меня в лекаря более искусного, чем многие дипломированные врачи. Возьми это, женщина! Пусть ребенок – твой, а не мой – ни по голосу, ни по виду моему не сможет он принять меня за отца, из твоих рук получит это питье!
Эстер отпрянула от чашки с напитком. Лицо ее выразило негодование и тревогу.
– Неужто замыслил ты мстить невинному младенцу? – прошептала она.
– Глупая женщина! – отвечал незнакомец. Голос его звучал холодно, но ровно. – Зачем мне мстить несчастному незаконнорожденному! Это очень хорошее лекарство, и будь это мой ребенок, да, будь он не только твоим, но и моим, я не нашел бы сейчас для него средства лучше.
И так как Эстер все еще не могла взять себя в руки, он сам дал ребенку выпить лекарство. Оно подействовало очень быстро, принеся облегчение. Всхлипы маленькой пациентки стали тише, судороги и метания постепенно прекратились, и через несколько минут, как это бывает у маленьких детей, когда их отпускает страдание, малышка погрузилась в безмятежный сон. Доктор же, вполне доказавший теперь свое право так именоваться, переключил свое внимание на мать. Спокойно и тщательно он посчитал ее пульс, посмотрел в глаза, заставив сердце ее сжаться, таким холодным и чужим показался ей теперь этот некогда столь знакомый взгляд, а проделав все это и, видимо, удовлетворенный осмотром, он принялся готовить другое питье.
– Хоть чудодейственные снадобья, годные на все случаи жизни, мне и неведомы, – сказал он, – но, живя в глуши среди дикарей, я узнал многие их секреты, и вот один из них. Состав этого лекарственного средства раскрыл мне один индеец в награду за те уроки, что я преподал ему, почерпнув их в учении Парацельса. Выпей это! Возможно, снадобье принесет успокоение меньшее, чем принесла бы чистая совесть. Но ею поделиться с тобой я не могу. Однако бурю страстей в тебе лекарство это усмирит, действуя подобно маслу, пролитому на бушующие волны.
Он передал чашку Эстер, принявшей ее из его рук со взглядом строгим и не то чтобы боязливым, но вопросительным. Она покосилась на спящую девочку.
– Я думала о смерти, – сказала Эстер, – и желала бы умереть. Я и молилась бы об этом, если б подобало таким, как я, обращаться к Господу с молитвой. И все же, если чашка эта несет смерть, прошу, прежде чем я отпила из нее, подумай хорошенько. Гляди, вот она уже возле самых губ моих!
– Выпей же, – с прежним хладнокровием отвечал мужчина. – Неужели ты так плохо знаешь меня, Эстер Принн, что считаешь способным на поступки столь жалкие? Если б даже и таил я в себе мысль о мести, то не лучше ли было бы оставить тебя в живых, нежели давать тебе, с клеймом позора на груди, средство от всех невзгод и страданий?
С этими словами он направил свой длинный указующий перст на грудь Эстер, и от этого жеста алая буква, казалось, разгорелась ярче и жгла с новой силой. Заметив, как содрогнулась Эстер, он улыбнулся:
– А раз так, живи с этой ношей, которая отныне предназначена тебе, и пусть видят твой позор все мужчины и тот, которого звала ты некогда своим мужем, и собственный твой ребенок. В помощь такой жизни прими сейчас этот напиток!
Эстер Принн послушно осушила чашку и по знаку умелого лекаря опустилась на кровать, где спало ее дитя, в то время как мужчина, пододвинув к себе единственный в камере стул, сел возле нее. Не без трепета следила она за всеми этими приготовлениями, чувствуя, что вот сейчас, когда он выполнил все то, что заставили его выполнить либо человеческий долг, либо особая утонченная жестокость, он скажет ей слова, которые только и может сказать глубоко оскорбленный человек.
– Эстер, – сказал он, – я не спрашиваю тебя, как могло случиться, что ты сорвалась в эту бездну, а вернее будет сказать, поднялась на эшафот позора, на котором я тебя увидел. Причина проста. Она в моей безумной прихоти и в твоей слабости. Что я, старый книжный червь, потративший лучшие годы в попытках насытить свою неустанную жажду знаний, мог иметь общего с юностью и красотой, подобной твоей красоте! С рождения отмеченный уродством, как мог я заблуждаться напрасно, теша себя мыслью, будто дары ума способны заслонить физическое несовершенство и увлечь собой фантазию юной девушки! Меня считают мудрым, но, будь мудрецы мудрыми и в собственных поступках, я должен был предвидеть все это с самого начала. Я должен был знать заранее, что, выйдя из мрачных и угрюмых лесных дебрей и оказавшись в этом поселении христиан и едва оглядевшись вокруг, я увижу тебя, Эстер Принн, стоящей перед всем честным народом как воплощение позора. Нет, с первого же момента, когда мы, новобрачные, рука об руку спускались по ступеням старой церкви, должен я был заметить зловещий свет, маячивший в конце пути, свет, отбрасываемый огненным знаком на твоей груди!
– Тебе известно, – возразила Эстер, которая при всей подавленности своей не смогла вытерпеть последнего жалящего укола, – что я всегда была откровенна с тобой, что не скрывала отсутствия в моем сердце любви к тебе и никогда не притворялась.
– Верно. В этом и состояло мое безумие, как я уже признал. Но до той поры жизнь моя была пустой, а мир вокруг казался таким безрадостным. Сердце мое, готовое вместить столь много, стыло в одиночестве, не согретое теплом домашнего очага. Я так мечтал разжечь в нем огонь! Разве такой уж нелепой была надежда, что простое счастье, доступное всем людям, возможно и для меня, пожилого, угрюмого уродца. Вот почему, Эстер, я впустил тебя в свое сердце, в самую потаенную глубь его, мечтая согреть тебя ответным теплом.
– Я поступила с тобой очень дурно, – пробормотала Эстер.
– Мы оба поступили очень дурно в отношении друг друга, – отозвался он. – И первым это сделал я, когда осквернил твою расцветшую юность, втянув ее в странный, противоестественный союз с моим увяданием. И потому я, как человек, недаром много лет посвятивший размышлениям и философии, не строю никаких планов мести. Мы с тобой квиты, и обиды наши на чашах весов уравновешены. Однако, Эстер, на свете живет человек, дурно поступивший с нами обоими! Кто он?
– Не спрашивай меня! – отвечала Эстер Принн, гордо и прямо глядя ему в глаза. – Этого ты не узнаешь никогда!
– Не узнаю, говоришь? – подхватил он с угрюмой улыбкой. – Никогда не узнаю? Поверь, Эстер, не много есть предметов в мире видимом, а также в невидимом глазу мире мысли, которые не открылись бы человеку, до конца и без остатка посвятившему себя разгадке тайны! Ты можешь прятать свой секрет от назойливого любопытства толпы. Можешь утаивать его от служителей церкви, от судей, даже если бы они захотели вырвать у тебя признание силой и поставить сообщника рядом с тобой на эшафоте. Но я начну дознание иначе и с чувствами, им неведомыми. Я стану искать этого человека, как искал истину в книгах, и почувствую его приближение, ибо между нами есть сродство и внутренняя связь. Мне передастся его дрожь, и я содрогнусь сам, внезапно и нежданно. Рано или поздно он окажется у меня в руках!
Глаза на морщинистом лице ученого мужа так сверкнули, что Эстер Принн прижала руки к сердцу из страха, что он сможет прочесть таящееся там имя.
– Так не откроешь мне его имя? Это его не спасет! – заключил он так уверенно, будто не сомневался в том, что сама судьба толкнет злодея в его руки. – Пусть и не носит он в отличие от тебя позорного знака на своей одежде, знак этот запечатлен у него в сердце, и, будь уверена, я сумею его прочесть. Но не бойся за него. Не думай, что я вознамерился вмешиваться в правосудие Божье и забирать себе золото – в алхимии. У Неба есть право на наказание, которому, несомненно, он подвергнется. Равно не собираюсь я брать на душу грех, передавая его власть предержащим и вершителям суда человеческого. Не воображай, что я замыслил лишить его жизни или репутации человека достойного, которой он, как я понимаю, обладает. Пусть себе живет и благоденствует! Пусть наслаждается, если ему это удастся, пустыми почестями. Все равно он попадет ко мне в руки!
– Ты поступаешь, по видимости, милосердно, – сказала испуганная Эстер. – Но такое милосердие наполняет мое сердце ужасом!
– Об одном только я попрошу тебя, бывшую мою жену. Ты, хранящая в секрете имя своего любовника, сохрани также и мое! В этом краю ни одна душа его не знает. Так пусть же ни одна душа не узнает и от тебя, что было время, когда ты называла меня мужем. Здесь на этой дикой окраине мира я разобью свой шатер и обрету пристанище, ибо в других местах я всего лишь странник, чуждый всему, что занимает людей на земле, в то время как здесь обитают женщина, мужчина и ребенок, связанные со мной тесными узами, не важно, любви или ненависти, добра или зла! Ты сама и все, что связано с тобой, принадлежите мне, Эстер Принн. Мой дом там, где живешь ты и где живет он. Но не выдай меня!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































