Текст книги "Алая буква"
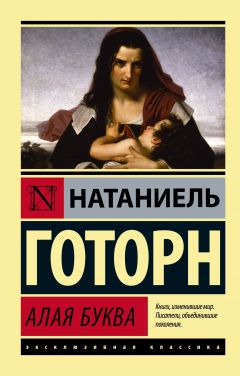
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Зачем это тебе? – спросила Эстер. Неизвестно почему тайный этот договор пугал ее, заставляя сжиматься сердце.
– Возможно, затем, – отвечал он, – что не желаю я запятнать себя бесчестьем именоваться мужем неверной жены. А возможно, причина и не в этом. Тебе довольно будет знать, что цель моя – жить и умереть в безвестности. И потому пусть все вокруг считают, что муж твой умер, так и не подав о себе вестей. И не выдай меня отныне ни словом, ни жестом, ни даже взглядом. А особенно страшись выдать эту тайну человеку, с которым была в связи. Если же ты нарушишь это условие, берегись! Его репутация, положение, сама жизнь его будут в моих руках! Берегись!
– Я сохраню твою тайну, так же как сохраняю его, – сказала Эстер.
– Поклянись! – потребовал он.
И она произнесла клятву.
– Ну а теперь, миссис Принн, – произнес престарелый Роджер Чиллингворт, как он отныне будет именоваться, – я оставлю тебя наедине с твоим ребенком и алой буквой. Как велено тебе, Эстер? Обязал ли тебя приговор не снимать знака этого и во время сна? Не одолевают ли тебя тогда ужасные видения и кошмары?
– Зачем ты так изводишь меня насмешками? – в отчаянии воскликнула Эстер. – Может, ты как тот Черный Человек, что бродит по окрестным лесам? Может, ты выманил у меня это обещание, чтобы уж наверняка погубить мою душу?
– Не твою душу! – отвечал он, вновь улыбнувшись. – Нет, не твою!
Глава 5
Эстер за рукоделием
Окончился срок тюремного заключения Эстер Принн, и двери тюрьмы распахнулись, выпустив ее на солнечный свет, равно светящий всем и каждому в этом мире, но, как показалось больному измученному ее воображению, имеющий лишь одну цель – поярче осветить алую букву на ее груди. Быть может, первые ее шаги, когда, всеми покинутая и одинокая, ступила она за порог тюрьмы, дались ей тяжелее и показались мучительнее пути на эшафот и уже описанного нами ее пребывания там, когда выставлена она была на позор, чтоб каждый мог показывать на нее пальцем. Тогда помощью ей явились необыкновенная жизнестойкость и неукротимая сила духа, позволившие превратить это постыдное событие в своеобразное мрачное торжество. К тому же стояние на эшафоте было случаем совершенно особым, из тех, какие встречаются в жизни только раз, а потому, чтобы пережить их, можно и нужно призвать на помощь все свои силы, предназначенные служить человеку до конца его дней.
Самый закон, осудивший ее, этот безжалостный гигант, при всей строгости и суровости своей умеющий не только карать железной рукой, но и поддержать в нужную минуту, помог ей тогда вынести муку позора. Теперь же одинокий выход ее из тюремных врат знаменовал собой начало обычной жизни, вести которую можно было лишь опираясь на обычные свои каждодневные возможности, и ей предстояло либо терпеливо сносить эту жизнь, либо пасть под ее тяжким бременем. Заимствовать у будущего, чтобы как-то продержаться сейчас, в настоящем, она не могла. Завтрашний день сулил лишь новые испытания, как и послезавтрашний, и следующий за ним, – все они не меньше нынешнего будут безмерно печальны, заставляя скорбеть, что родилась на свет; и придется ей нести тяжкую ношу без всякой надежды когда-либо сбросить ее, и скорбь, помноженная на стыд, будет все тяжелее. На все уготованные дни ей суждено превратиться лишь в безликий символ, на который будут указывать пальцем священники и моралисты, видя в ней живой пример и яркое воплощение женской слабости и грехопадения. Юных и чистых научат видеть в ней, женщине с алым знаком позора на груди, в ней, дочери почтенных родителей, в ней, матери младенца, которому тоже предстоит стать женщиной, в ней, тоже некогда бывшей чистой и невинной, всего лишь порождение, орудие и образ греха. И надгробным памятником ей станет один позор, который будет неотступно преследовать ее, сопроводив и в могилу.
Может показаться удивительным, что в то время как перед ней был открыт весь мир, поскольку условия приговора не запрещали ей покидать пределы далекого, затерянного в глуши пуританского поселения, – она была вольна вернуться в родные края или же предпочесть им любую другую страну, где, приняв новое имя и новый облик скрыть свою личность и начать жизнь поистине новую, притом что убежищем ей могли стать и дикие лесные дебри вокруг, где легко было бы ей затеряться среди тамошних жителей, чьим обычаям чужды были осудившие ее законы, – удивительным могло показаться то, что женщина эта предпочла считать своим домом место, где ее подвергли позору. Но существует некая неизбежность, чувство столь властное, что сопротивляться ему бессмысленно. Чувство это, заставляющее нас подозревать в нем нечто роковое, влечет человека туда, где произошло знаменательное, перевернувшее всю жизнь его событие, оно и понуждает бродить как тень там, где это случилось, и оставаться там либо возвращаться туда вновь и вновь. И чувство это тем сильнее и неодолимее, чем мрачнее было событие, его породившее. Грех Эстер и ее позор вросли корнями в эту землю, связав ее с этой землей воедино. Это стало как бы вторым рождением, более прочно, нежели первое, связавшим ее с землей, где это рождение произошло, превратившим для Эстер Принн лесной край, казавшийся таким неприветливым первым его поселенцам – пилигримам, в родной и единственный для нее дом. Все другие земные пейзажи, даже картины сельской Англии, места, где проходило ее детство и непорочное девичество, она словно передала на хранение матери, в сундук памяти – так убирают подальше старые, уже ненужные платья; пейзажи эти были ей теперь чужды в сравнении с картинами новыми. Звенья привязавшей ее к этому месту железной цепи жгли и жалили в самое сердце, но разорвать эту цепь было невозможно.
К тому же, а несомненно, так оно и было, хоть и скрытым оставалось от нее самой, а выползая подобно змее из гнезда, из самой глубины ее сердца, неизменно заставляло Эстер бледнеть, жило в ней и другое чувство, делавшее ее пленницей этих мест. Здесь жил, ступая по этой земле, тот, которого она полагала связанным с ней союзом, непризнанным на земле, но предназначенным в день Страшного суда привести их рука об руку к алтарю небесному, чтобы связать их на веки вечные для совместного искупления. Вновь и вновь искуситель душ человеческих соблазнял ее этой идеей, потешаясь той отчаянной радостью, с какой она хваталась за нее, чтоб потом тут же пытаться ее отринуть. Она тщетно пыталась избавиться от нее, заталкивая поглубже, в тайники души. То, в чем она заставляла себя видеть причину своего продолжающегося пребывания в Новой Англии, было наполовину правдой и наполовину самообманом. Здесь совершила она грех и здесь же должна понести земное свое наказание стыдом, ежедневная мука которого постепенно очистит ее душу, возвратит утерянную чистоту, освященную страданиями, которая станет еще чище, чем прежде.
Вот потому Эстер Принн и не покидала этих мест. На окраине поселения, на полуострове, отделенный от всех других жилищ находился крытый соломой домишко. Прежний его обитатель, выстроив дом, вскоре его оставил, удрученный как бесплодием окружающей не поддающейся обработке земли, так и невозможностью общения с людьми, уже вошедшего в привычку у первых поселенцев. Дом стоял на берегу, открывая вид на море и на лесистые склоны гор к западу. Рощица кургузых низкорослых деревьев, какие только и могли выжить на том полуострове, не столько скрывала этот домик от посторонних, сколько намекала на то, что есть в нем что-то, что видеть нежелательно, а может, даже предосудительно. В этом тесном и одиноком домишке на скромные свои сбережения и с разрешения властей, не спускавших с нее глаз, и поселилась Эстер Принн с ребенком, моментально придав этому месту оттенок печальной сомнительности. Дети, слишком маленькие, чтобы понять причину неблагосклонного отношения местных жителей к этой женщине, подкрадывались к дому и видели ее фигуру у окна, склоненную над шитьем, или же стоящую в дверях, или занятую работами в маленьком садике, или же бредущую по тропе к поселку; различив алую букву на ее груди, они тут же разбегались, охваченные непонятным страхом.
Та, у которой не было никого, кто осмелился бы появиться с ней рядом, тем не менее не бедствовала, ибо владела искусством, которое даже в этом суровом краю всегда могло прокормить ее саму и не знавшего горя ее ребенка. Это было тогда, как и теперь, единственное доступное женщине искусство рукоделия. Буква на ее груди, так мастерски и с такой выдумкой украшенная причудливым орнаментом, служила отличным и наглядным образчиком умения, которым с удовольствием воспользовались бы и придворные дамы, не побрезговавшие бы добавить к своим богатым расшитым золотом нарядам то или иное полное изящества украшение, вышедшее из-под ее рук. Конечно, угрюмая простота, столь характерная для пуританской моды, заставляла колонисток редко прибегать к услугам Эстер. Но вкусы эпохи, тяготевшие к самым искусным произведениям такого рода, не могли не повлиять на наших суровых предков, о чем свидетельствуют и многие из сохранившихся с того времени нарядов – видимо, трудно оказалось совсем уж не поддаться искушению. Публичные церемонии, сопровождавшие, например, посвящение в духовный сан или приведение к присяге новоиспеченных судей – словом, все, что могло подчеркнуть торжественность момента, когда важное лицо является перед народом, из соображений политических выполнялось в формах хорошо продуманных и исполненных мрачноватой роскоши. Пенистые сборки брыжей, узорчатые ленты перевязей, украшенные богатой вышивкой перчатки считались необходимейшей принадлежностью облеченных властью государственных мужей; ношение их людьми, отмеченными богатством или высоким статусом, поощрялось, в то время как людям простым подобные излишества закон запрещал. На церемониях похорон – как для убранства покойника, так и для нарядов скорбящих, создания многообразных ухищрений, подчеркивающих мрачность траурной одежды или белоснежную чистоту ее, – для всего требовалось искусство Эстер Принн. Детская одежда, которой в те времена придавали большое значение, также давала ей возможность заработать на жизнь своим трудом.
Постепенно, но довольно скоро работы Эстер Принн вошли в моду. Из сочувствия ли к женщине, чья судьба сложилась так несчастливо, или из извращенного любопытства, наделяющего подчас ложным значением вещи самые простые и незначительные, а может, и по какой-то другой неуловимой причине, которой раньше, как и теперь, иногда оказывается достаточно, чтобы кто-то вдруг получил то, чего другой добивается долго, но тщетно, или же просто потому, что Эстер действительно по праву заняла место, на которое ни у кого не было права, но Эстер вскоре стала получать столько заказов, сколько могла и хотела выполнить. Возможно, чье-то тщеславие находило особое удовольствие наряжаться для торжественных случаев в пышные наряды, выполненные руками грешницы, видя в этом как бы знак смирения, но работы Эстер украшали и брыжи губернатора, и перевязи людей военных, и облачения священников, и чепчики младенцев; они истлевали на телах покойников в гробах. Но никогда ее вышивка не украшала белоснежную фату невесты. Исключение это служит доказательством беспощадной суровости, с какой общество продолжало осуждать ее грех.
Эстер не стремилась к большому заработку. Собственная ее одежда всегда была из самой грубой и простой темной ткани, украшенной одной лишь алой буквой, носить которую ей повелел рок. Зато одежда, которую она шила ребенку, отличалась несомненной и причудливой изысканностью, подчеркивающей то впечатление неуловимой воздушной прелести, которое так рано стала производить внешность подрастающей девочки. Одевая так ребенка, Эстер могла преследовать и иную цель. Но об этом позже. Кроме этого маленького излишества, которое она тратила на наряды ребенка, все, что не требовалось для пропитания, Эстер отдавала на нужды благотворительности, одаривая тех, кто был, возможно, менее несчастен, чем она, и кто подчас оскорблял протянутую ему руку помощи. Много часов, которые она охотнее бы посвятила упражнениям в своем искусстве, она отдавала изготовлению простой и грубой одежды для бедняков. Вероятно, она видела своеобразное искупление в том, что занимается столь грубой работой, вместо того чтобы с тихой радостью предаваться любимому делу. Питая страстную, по-восточному безудержную любовь ко всему прекрасному, она была лишена возможности удовлетворить ее чем-нибудь иным в жизни, кроме занятия тонким рукоделием. В этом занятии выражалась и исчерпывала себя страстность ее натуры. И Эстер подавляла в себе эту страсть, считая удовлетворение ее, как и прочие радости, чем-то греховным. Эта борьба с самой собой, с неуловимыми движениями души своей, нам, как это ни прискорбно, видится чем-то противоестественным, чрезмерным и отнюдь не покаянным.
Итак, Эстер Принн получила возможность быть причастной жизни вокруг. Обладая природной энергией и столь редким талантом, она не могла быть полностью отвергнута обществом, пометившим ее, однако, зна́ком, сильнее чем каинова печать. Всякое ее соприкосновение с жизнью вокруг заставляло ее вновь и вновь ощущать свою чужеродность. Каждый жест, каждое слово или даже молчание тех, с кем она вступала в общение, намекало или даже впрямую показывало ей, что она изгой и отделена от всех прочих, словно прибыла из иных сфер или обладает телом и органами чувств иными, чем у остальных. Оставаясь чуждой им, их законам и правилам, она находилась рядом с ними, как бесплотный дух, прилетевший к родимому очагу, но невидимый и неслышимый, не способный более ни разделить с домашними их радости и улыбнуться вместе с ними, ни скорбеть с той же печалью, что и они. А если б и удалось этому невидимке как-то проявить к ним сочувствие, это вызвало бы в людях лишь ужас и отвращение. Вот и ее уделом, кажется, стало теперь вызывать у окружающих лишь эти чувства вкупе с толикой горького презрения. Тогдашний век не отличался особой деликатностью, и положение ее, о котором она никогда не забывала, всякий раз старались ей еще и напомнить, сделать наглядным, чем вызывали острый приступ боли, бередя незажившую рану. Облагодетельствованные ею бедняки, как мы уже упоминали, оскорбительно отталкивали ее руку, когда она пыталась им помочь. Высокородные дамы, в чьи дома приводило Эстер ее занятие, имели привычку то и дело огорчать ее язвительными, полными тайной злобы уколами, этой алхимией ядовитых брошенных как бы вскользь намеков или даже открытых выпадов, в которой так искушены женщины и которая действует на измученное страданием сердце подобно горстке соли, брошенной на открытую рану. Эстер научилась держать себя в руках и отвечала на эти проявления злобы лишь краской, вдруг неудержимо заливавшей ее обычно бледные щеки, после чего еще глубже замыкалась в себе.
Жестокий неумолимый приговор, вынесенный ей пуританским судом, мучил Эстер Принн тысячью разнообразных способов. Священники останавливались на улице, чтобы обратиться к ней со словами увещевания, что неизменно собирало вокруг толпу – хмурую, но тут же принимавшуюся осыпать насмешками несчастную грешницу. Когда она входила в церковь с надеждой увидеть обращенную и к ней субботнюю улыбку Творца, о ней и о ее грехе нередко начинали говорить с амвона. Она стала бояться детей, потому что те, не зная, в чем она провинилась, заразились от родителей подозрительным к ней отношением и смутно чувствовали, что с этой женщиной, молча, скорбно и всегда одиноко, если не считать ребенка, проходящей по улице, связано что-то страшное. Дав ей сперва пройти и удалиться на достаточное расстояние, они начинали преследовать ее, громко выкрикивая слово, ничуть не терявшее для нее своего оскорбительного смысла оттого, что произносили его невинные, не ведающие этого смысла детские уста. Казалось, позором ее полнится воздух и сама природа вопиет о нем – о грехе ее шелестит листва, шепчет летний ветерок, ревет зимняя буря. Еще одной, особой мукой становились для нее взгляды людей несведущих, незнакомых с ее историей. Когда при встрече те с любопытством бросали взгляд – а они непременно это делали – на алую букву на ее груди, страдание охватывало ее с такой силой, что ей стоило большого труда не прикрыть букву рукой. Но и привычные взгляды, брошенные на этот знак людьми местными, были для Эстер по-своему мучительны. Холодная обыденность этих взглядов невыносимо терзала ей сердце. Короче говоря, му́ка от постоянно обращенных на нее взоров не оставляла Эстер никогда; она не притуплялась, а наоборот, с каждым днем становилась все острее. Но иногда, хоть и очень редко, может быть, раз в несколько месяцев, Эстер ловила взгляд, брошенный на позорную ее отметину, который, как ей вдруг начинало казаться, приносил облегчение – словно человек этот брал на себя часть ее ноши. Но тут же боль возвращалась и даже усиливалась, словно мстила за грех минутной паузы. Но одна ли Эстер согрешила?
Необычные и мучительные переживания, которые уготовила ей судьба, не могли не повлиять на ее воображение, и, будь Эстер не столь крепкой духом или же не обладай она столь развитым умом, влияние это было бы еще больше. Но, меряя шагами свое одинокое жилище, свой маленький мирок, в который была заключена, Эстер не могла отрешиться от странного ощущения, будто алая буква на ее груди одарила ее особой проницательностью, став как бы новым органом чувств, умеющим распознавать грех в душах других людей. Верить в это ей было страшно, однако не верить она не могла, и открытия, ею таким образом совершаемые, наполняли сердца ужасом. Что это? Уж не злой ли дух, жертвой которого она наполовину стала, нашептывает ей помимо ее воли, что чистота – это всего лишь внешний покров, ложь, отбросив которую увидишь пылающую алую букву не только на ее, Эстер Принн, груди, но и на груди многих и многих? Неужели должна она поверить этим смутным, но таким настойчивым откровениям и признать их правдой? Из всех ее ужасных переживаний это было самым страшным.
Оно озадачивало и пугало, являясь вдруг в обстоятельствах самых неожиданных, но являясь ясно и отчетливо. Бывало, алый позор на ее груди вдруг начинал подрагивать и трепетать, когда она встречала достойного деятеля церкви или судью, известного своим благочестием и справедливостью, человека, которого окружающие почитали чуть ли не ангелом. «С каким злом столкнула меня судьба?» – мысленно вопрошала Эстер. И, нехотя подняв глаза, не видела никого доступного зрению, кроме этого ангела во плоти. Или же ей чудилась странная общность между нею и какой-нибудь почтенной матроной, женщиной, как считалось, самых строгих правил, на протяжении всей своей жизни хранившей снежный холод в сердце. Что между ними может быть общего? А иногда электрическим ударом проносилось в мозгу: «Смотри, Эстер! Вот твоя подруга». Подняв взгляд, она встречалась глазами с юной девушкой, робко поглядывающей на алую букву и, тут же заливаясь краской, отворачивающейся от нее, будто чистоту ее мог осквернить этот мимолетный взгляд. О враг рода человеческого, чьим талисманом стал этот роковой знак, неужто не оставишь ты несчастному грешнику, юному или в зрелых летах, ничего, что мог бы он счесть достойным почитания? Такая утрата веры была бы самым печальным из всех последствий греха. Так пусть же доказательством того, что жертва собственной слабости и жестокого закона Эстер Принн не окончательно испорчена, станет настойчивость, с какой она пыталась продолжать верить, что нет более великой грешницы на этой земле.
Простые люди, склонные в те мрачные времена к ужасным историям, рассказывали историю Эстер Принн так, что нам она теперь видится страшной легендой. Они не желали признавать в алой букве всего лишь выкрашенную в обыкновенной посудине тряпку, а считали ее порождением адского пламени и утверждали, будто ночью, когда Эстер проходит мимо, буква на ее груди вспыхивает и светится красным светом. Надо сказать, что знак этот опалял грудь Эстер такой болью, что, может быть, стоит и признать некоторую правоту подобного рода толков.
Глава 6
Перл
До этой поры мы мало говорили о ребенке, невинном создании, плоде неукротимой греховной страсти, явившемся на свет по непостижимой воле Провидения чудесным неувядаемым цветком. Убитая горем женщина с изумлением замечала, что с каждым днем красота этого цветка становится все ослепительнее, а ум освещает тонкие черты ребенка все ярче и явственнее. Ее Перл! Так назвала она девочку, и не потому, что видом своим та напоминала жемчужину и имела сходство с бесстрастной сияющей безупречной прелестью красотой. Нет, имя девочки говорило лишь о том, какую непомерную цену заплатила мать за нее, отдав все, что у нее было, за это единственное сокровище.
Поистине странно! В то время как люди пометили ее грех алой буквой, так страшно и трагически перевернувшей всю ее жизнь, буквой, обладающей силой запретить всем людям, кроме таких же грешников, как Эстер, выражать ей сочувствие, Господь даровал ей за постыдный грех прелестное дитя, поместив его на опозоренную грудь и показав тем самым, что всякому, связанному с родом человеческим, может быть обещано райское блаженство. Однако такие мысли внушали Эстер не столько надежду, сколько опасения. Зная, что поступила дурно, она не могла верить в то, что плод ее греха может оказаться добрым плодом. День за днем она со страхом вглядывалась в ребенка, следила за его ростом, за тем, как развивается его натура, боясь обнаружить в ней какой-нибудь темный порок – следствие того греха, которому девочка была обязана своим рождением.
Но было ясно, что никаких физических недостатков ребенок не имел. Безупречно стройная фигурка, сила и ловкость, с какими она управлялась со своими еще не развитыми руками и ногами, делали девочку существом поистине небесным; она могла бы резвиться среди ангелов, оставаясь в саду Эдема и после того, как оттуда были изгнаны наши прародители. Ребенок обладал природной грацией, не всегда сопутствующей даже безупречной красоте, а одежда девочки удивительно шла ей и неизменно была ей к лицу. Простых деревенских платьев маленькая Перл не носила. Мать с непонятным упорством шила ей одежду из самых богатых тканей, какие только можно было достать, и вкладывала всю свою душу, украшая и отделывая наряды девочки. Так блистательна была эта роскошно одетая фигурка, так замечательно оттеняли наряды собственную красоту девочки, что свет этой красоты, окружавший Перл словно ореолом, казалось, отбрасывал отблеск и на темный пол их жилища. Но и в коричневом платьице, порванном и испачканном в буйных детских забавах, Перл была не менее прелестна. Внешность ее обладала удивительной изменчивостью, словно в одном ребенке заключалось сразу несколько детей, от хорошенькой крестьянской простушки до изысканной, полной достоинства наследной принцессы. Но в каждом из этих обликов проглядывала страсть, и все они ослепляли удивительной яркостью, а без этой яркости, бледная и блеклая – это была бы уже не Перл.
Внешняя изменчивость соответствовала богатству ее натуры, как нельзя лучше ее выражая. Характер девочки наряду с разносторонностью обладал и глубиной, но в нем отсутствовало, если только Эстер не напрасно тревожилась, умение приспосабливаться к внешнему миру. Дитя не хотело признавать его правил и установлений. Рожденный в нарушение великого закона ребенок представлял собой существо с характером, черты которого, может быть, прекрасные или даже блистательные, находились в сумбурном состоянии, общий же узор, который они составляли, обнаружить было бы крайне затруднительно или же попросту невозможно. Эстер объясняла характер дочери тем состоянием, в котором пребывала сама в то время, когда из материи духовной еще только создавалась душа Перл, а из материи физической формировалось ее тело. Нарождавшейся душе ребенка, при всей первоначальной белоснежной чистоте ее элементов, суждено было пройти через горнило страсти, оставившей на ней свой отпечаток – отсюда и яркие всполохи ее натуры, золотые блестки вперемежку с черными тенями, вся эта сумятица красок, которой была отмечена Перл. А более всего сказалась в ней душевная буря, которую тогда пришлось испытать ее матери. Как в зеркале, Эстер теперь видела в ее характере отражение своего неукротимого нрава, отчаянного вызова, который она бросала миру, переменчивости настроения и даже облаков уныния и подавленности, омрачавших тогда ее душу. Сейчас все это освещалось утренним светом юной безмятежности, но потом, с приближением полуденной зрелости, могло грозить штормами и вихрями.
В те дни в семьях придерживались дисциплины более строгой, нежели теперь. Насупленные брови, резкий окрик, частое применение розги, подкрепленные еще и авторитетом Священного Писания, использовались не просто в качестве наказания за проступки, но и как полезное средство воспитания в ребенке необходимых добродетелей. Однако Эстер Принн, в одиночку воспитывавшая своего единственного ребенка, не могла погрешить излишней строгостью в отношении дочери. Памятуя при этом о собственных ошибках и несчастных заблуждениях, она поначалу старалась нежно, но твердо контролировать поведение ребенка, надзирая за бессмертной душой, вверенной ее попечению. Но задача эта оказалась ей не под силу. Ни добрые улыбки, ни нахмуренные брови не производили на ребенка должного действия, и Эстер вынуждена была самоустраниться, дав возможность ребенку стать игралищем собственных страстей и инстинктов. Прямое принуждение или же запреты, конечно, сдерживали девочку, но ненадолго. Другие же меры, обращенные скорее к уму или сердцу, могли достигать или не достигать цели в зависимости от настроения Перл в данный момент. Матери Перл, когда девочка была еще совсем маленькой, был уже хорошо знаком тот особый взгляд, который бросала на нее дочь и перехватив который мать понимала, что настаивать, убеждать и даже молить в данном случае дело пустое. Этот строптивый взгляд, умный, но в то же время необъяснимо странный, а иногда и с недобрыми огоньками, вызывал в душе Эстер даже некоторые сомнения – уж подлинно ли человеческое это дитя. Может, это призрак, неуловимое видение – вот сейчас начудит, поиграет в странные свои игры, а потом насмешливо улыбнется и исчезнет. Всякий раз, как в черных блестящих глазах девочки появлялось это выражение, она становилась странно чужой, далекой, неуловимой. Она словно реяла в воздухе, вот-вот улетит, растворится искоркой, неизвестно почему возникшей и куда исчезнувшей. И какая-то неодолимая сила бросала тогда Эстер к ребенку, ей хотелось поймать и удержать этого эльфа, уже изготовившегося к полету, схватить его и крепко прижать к груди, осыпать поцелуями – не столько из любви, сколько из желания убедиться в том, что Перл настоящая, из плоти и крови, ребенок, а не иллюзия, не обманчивое видение. Но смех Перл, когда мать, поймав, заключала ее в объятия, такой веселый, мелодичный, лишь увеличивал сомнения.
Озадаченная, удрученная этим странным непониманием, непреодолимой преградой, все чаще возникавшей между нею и ее единственным, так дорого доставшимся ей сокровищем, Эстер, бывало, разражалась рыданиями. То, как часто это случалось, сказать невозможно, ибо поведение Перл было непредсказуемым, девочка хмурилась и, сжимая кулачки, глядела на мать – пристально, строго и недовольно. Она могла вдруг вновь рассмеяться, громче прежнего, словно доказывая свою бесчувственность и полную неспособность к жалости. А нередко ее тело вдруг начинали сотрясать горькие рыдания, в которых она изливала свою дочернюю любовь. Этими рыданиями и невнятными уверениями она словно хотела доказать, что у нее есть сердце, готовое сейчас разорваться. Однако поверить в прочность нежных чувств, питаемых к ней дочерью, Эстер было бы затруднительно, ибо порывы их были мимолетны и проходили так же внезапно, как возникали. Размышляя обо всем этом, Эстер чувствовала нечто подобное чувствам человека, сумевшего по какой-то случайности вызвать призрак, но так и не узнавшего ключевого слова, дающего ему власть над этим новым, так и оставшимся непостижимым существом. Единственно отрадными для нее были часы, когда ребенок мирно и спокойно спал. Тогда мать, обретая некую уверенность, приободрялась и могла наслаждаться безмятежным счастьем, пока ребенок не открывал глазки и в них не зажигался вдруг строптивый огонек – все, малютка Перл проснулась!
Вскоре – и с какой же поразительной скоростью! – Перл достигла возраста, когда дети готовы вступать в общение иное, чем только с матерью, и требуется им больше, чем всегда готовая для них материнская улыбка и милые бессмысленные ласковые слова. Каким же счастьем было бы для Эстер, если б в птичьем гомоне звонких голосов играющих детей могла бы она различить голос любимой своей дочурки! Но и в мире детей Перл была изгоем. Дьявольское отродье, символ и порождение греха, она не имела права находиться среди детей благочестивых христиан. И поистине удивительным было, как нам это представляется, внутренним чутьем она понимала, что сама судьба начертала вокруг нее непреодолимый круг и обрекла ее на одиночество; словом, Перл отлично осознавала особенность своего положения и отличие свое от всех других детей. С самого освобождения Эстер из тюрьмы любой взгляд, направленный на нее и ее букву, неизбежно задевал и Перл, ибо, когда Эстер выходила в город, девочка непременно была с ней – вначале на ручках, а после, крепко ухватившись за ее палец, семенящая рядом – четыре шажка против материнского одного. Перл видела местных детей на травянистых лужайках возле дороги или у порога их жилищ, видела, как те играли в свои негромкие, как то предписывал им суровый пуританский обычай, игры – разыгрывая сцены то богослужения, то расправы с квакерами или стычки с индейцами и снятия с них скальпов, то каких-то неведомых, но страшных колдовских обрядов. Внимательно глядя на все это, Перл не делала попыток познакомиться. Если с ней заговаривали, она молчала. Ну а если, как бывало иногда, дети окружали ее, Перл охватывала настоящая ярость, и она швыряла в них камни, испуская дикие пронзительные крики, от которых мать бросало в дрожь, так похожи они были на заклятия ведьмы, произнесенные на каком-то никому не известном языке.
Правда и то, что маленькие пуритане, принадлежавшие к племени, превосходящему все другие своей нетерпимостью, смутно чувствовали в матери и ребенке что-то неведомое, иноземное, чуждое привычным нравам и отличное от них и потому считали их достойными презрения и даже брани, подчас срывавшейся с их уст. Перл отвечала им яростной злобой, кипевшей в детской ее груди. Проявления этой злобы, вспышки ярости приносили матери Перл даже своеобразное успокоение как более понятные, чем приступы своеволия и капризов, так часто ставившие ее в тупик. Но все же ее охватывал ужас, когда в них она различала туманную тень зла, некогда гнездившегося в ней самой. Перл унаследовала страсть противостоять всему и вся, которой в свое время переполнялось сердце Эстер. И мать, и дочь одинаково были отделены от всех и заключены в круг одиночества. В характере Перл наблюдалась та же нестройность, та же сумятица чувств, которая некогда, до рождения дочери, совлекла с пути истинного и Эстер, но потом под благотворным влиянием материнства как-то упорядочилась и утихомирилась.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































