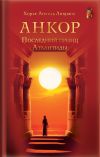Читать книгу "Смерть Вронского"
2
Там, за гранью, дальше далекого, где начинается (и никогда и нигде не кончается) мир иной, не тот, по которому мы блуждаем, опираясь на обманчивые чувства и небогатый опыт, а мир неведомый, куда мы смогли бы попасть, если бы посмели отправиться туда, за грань, в не здесь,
где пчелы давно уже покинули луга, где над стеклянными ледяными водами необозримых болот, над зарослями камыша и тростника, над чащей, над лесом, над лилиями водяными, над сказками, под низкими медленными облаками,
стелятся туманы, промозглые, северные, славянские, тяжелые.
Там живет Световид, самый сильный, а с ним вместе Триглав с тремя головами, он правит тремя королевствами: небом, землей и адом, и Черноголов тоже тут, бог победы с серебряными усами, и Царь ветров с белой бородою до пояса, который старше шума времени, и мать его Мория, беззубая богиня смерти.
Мир и покой царили бы здесь, не шуми испокон веков время, неминуемо несущее тревогу.
Только Триглав спокоен, тот, лица которого еще никто не видал, никто – даже Симаргл и Хорс, потому что все три свои лица он закрыл повязками и стал слепым для людских грехов.
Только он.
С какой же легкостью, с какой безумной дерзостью, Николаевич ты мой Лев, входят они в наш рассказ, эти древние властители и нашей смерти, и нашей жизни, куда менее ценной, чем смерть.
Вторая глава
1
– Enfin! [2]2
Наконец! (фр.)
[Закрыть] – воскликнул граф Алексей Кириллович Вронский, когда увидел вдали, высоко, над разлегшимся на холмах Белградом, в бодрой свежести утреннего солнца сияние позолоченных куполов огромного собора Святого Саввы.
Петрицкий, стоявший рядом с ним и в этот момент размышлявший о том, что ждет его в незнакомой, но такой близкой сердцу Сербии, поддержал его столь громко, что это услышали все находившиеся в коридоре вагона и, продолжая тесниться возле открытых окон, принялись выкрикивать еще более громкие возгласы одобрения:
– Ce sera admirable! [3]3
Это будет восхитительно! (фр.)
[Закрыть]
…………………………………………
Поезд, мокрый от ночной росы, подползал к перрону белградского вокзала, который одновременно бурлил и скулил, и показался графу, стоявшему облокотясь на раму окна, «каким-то грязным».
– Entre nous, – обратился он тихо к Петрицкому, – entre nous, mon cher [4]4
Между нами, мой дорогой (фр.).
[Закрыть], вокзал довольно провинциальный.
– C'est égal [5]5
Все равно (фр.).
[Закрыть], Ваше благородие. Мы его выбрали, и лучшего, чем он, теперь для нас нет, – сухо ответил Петрицкий и сам несколько разочарованный тем, что представилось его взгляду. Но ввиду того, что граф, как ему показалось, заметно сник и отступил от окна в глубину купе, ощутил потребность поддержать его и шепнул ему на ухо: – Впрочем, nous verrons.
…………………………………………
Читатель, никто из нас, пусть даже переживший сотни и сотни зим, не сможет поручиться, что ему хоть раз удалось увидеть тот самый первый лист, который еще в разгар лета отрывается от ветки. Не сможет никто, ни ты, ни я, ни дерево, которое его породило, никто! Он отделяется от ветки тихо, незаметно, как будто он, этот лист, первым опадающий с покрытого листвой дерева, вовсе не являет собой знак, предвещающий неумолимость грядущей пустоты и белизны. Точно так же, читатель, и это, на первый взгляд совершенно несущественное, разочарование тем, как выглядел столичный вокзал, стало в душе графа, объятой жарким восторгом по отношению к сербскому делу, чем-то похожим на такой лист, первым отделяющийся от вырастившего его ствола, явилось предзнаменованием всех тех грядущих событий, которые принесут пустоту и белизну.
2
– Вся Сербия поднялась! – восхищенно обратился Петрицкий к Вронскому.
С тех пор как они прибыли, вокруг постоянно кружат все новые и новые вести: на севере Хорватии, на востоке, на юге и в самой ее глубине, на западе, сербы возводят баррикады. «Они защищаются от фашистов», – объясняют им. Рассказывают, что «бронетранспортеры Югославской народной армии охраняют находящихся в опасности сербов», которые, «обороняясь, убили и ранили тридцать хорватских полицейских», совсем неподалеку отсюда, «в Славонии, в селе Борово Село», запомнилось Вронскому, и «уже целый месяц осаждают Киево, рядом с Книном, это на юге», добавил Петрицкий. Страна осталась без президента, потому что ни сербы, ни черногорцы не хотят видеть на этом месте хорвата, из-за этого и армия не имеет верховного главнокомандующего, а две республики на северо-западе Югославии проголосовали на референдумах за государственную независимость. Слышны требования: «Необходимо взять под контроль государственную границу Словении».
– Наше не отдадим! Долой новое НДХ [6]6
Независимое Хорватское государство существовало во время Второй мировой войны под протекторатом гитлеровских войск.
[Закрыть]! – выкрикнула какая-то женщина.
– Хорваты, убирайтесь вон! Мы не уступим вам ни пяди сербской земли!
– Да здравствует федерация! Да здравствует Союз коммунистов – Движение за Югославию!
Народ все прибывает и прибывает, возбуждение нарастает, в руках у многих цветы, кажется, весь город выплеснулся на улицы, сегодня утром нужен простор, размах, широкие горизонты: с летней террасы ресторана на периферии Белграда грубо сброшены плетеные белые кресла и столы, напоминающие мебель из пьес Чехова, кто-то свалил в угол пестрые зонтики для защиты от солнца, на которых написаны названия напитков и сигарет, они были поставлены ввиду начинающегося лета, но теперь толпа лезет прямо по ним, топчет их ногами, каждый хочет пробиться как можно ближе к ограде террасы. Сегодня утром запах цветущих лип заглушают выхлопные газы, а крики толпы перекрываются воинственным ревом моторов огромных тяжелых машин на гусеничном ходу.
Стоят возле ограды нынешним утром и Вронский вместе с Петрицким, им приходится сопротивляться напору толпы, жарко дышащей, горластой, наваливающейся на их спины, доброжелательно хлопающей их по плечам, по царским эполетам, украшенным золотой и алой бахромой, круглые железные прутья ограды, к которой прижат Вронский, все сильнее врезаются ему в тело, он напрягает мускулы рук, чтобы ослабить давление, а голос справа от него, снова женский, захлебывается от радости:
– Хватит! Долой восемь компартий и восемь национальных интересов! Теперь Белград и Сербия все решают!
Вронский смотрит с террасы вниз: под ними, в голубоватом дыму, который с ревом изрыгают украшенные цветами машины, вьется колонна, среди приветствий и поцелуев слышны выкрики:
– Туджман фашист!
грохочут нынешним утром танки, бронетранспортеры, самоходные орудия…
идут в направлении Шида,
а потом дальше,
в Хорватию,
на Хорватию,
на запад.
– Весь Белград вышел провожать! – бросает снова Петрицкий, и снова восхищенно.
Стоит рядом с ним нынешним утром Вронский. Смотрит.
Будь Анна жива, то сейчас всем своим влюбленным существом она наслаждалась бы и его видом, и его значением. Так же, как это было утром того дня, когда он участвовал в красносельских скачках, где с ним впервые в жизни произошло настоящее несчастье, «непоправимое несчастье», как он сам назвал его в мыслях, и виной которому был он сам: кобыла под ним сломала хребет, а он свалился в грязь, на неподвижную землю, под прицелом бинокля, направленного на него дрожащей рукой Анны, стоявшей в содрогнувшейся от ужаса толпе на трибуне. Он был тогда, так же как и нынешним утром, в белом офицерском мундире, с золотыми нашивками на рукавах, с золотыми эполетами и аксельбантами, похожий на молодого бога, закованного в доспехи, излучавший энергию и силу, уверенно шагавший в своих высоких сапогах из мягкой кожи, которые, так же как и нынешним утром, блестели от бликов раннего солнца. В тот день, уезжая со скачек, смертельно испуганная Анна, как она позже призналась ему, терзала себя вопросом: сможет ли она, замужняя женщина, вообще в тот день увидеть его, и как, и где, а в это время Вронский, все еще сидя в грязи, закрывал ладонями уши, чтобы не слышать выстрела в голову своей любимой и всегда такой послушной под седлом кобылы. Он вспоминал нынешним утром, как Анна рассказывала ему о том, что говорила мужу, сидя с ним в карете, дрожа от собственной смелости и от страха после всего, что произошло, как она, бледнея и закрывая лицо веером, говорила Алексею Каренину о своем отчаянии: «И я не могу не быть в отчаянии… я слушаю вас, а думаю о нем. Потому что я его люблю, я его любовница, я не переношу вас, я боюсь вас, я ненавижу вас… Делайте со мной все, что вам угодно…» Вронский же, встав наконец из грязи, первым делом, это он ясно помнит и сейчас, привел себя в порядок, пригладил волосы, счистил с мундира грязь и траву, искоса поглядывая на главную трибуну, где находился император.
Стоит нынешним утром Вронский, смотрит. Поднимает вверх руку, только что сжимавшую круглый поручень железной ограды, возле которой они остановились, и тоже машет колонне, текущей внизу, под ним и под Петрицким, а внутренний голос повторяет в его душе: «Это и твоя армия!»
И кто бы среди этого ликования, среди этих сотен танков, облепленных солдатами и детворой, заметил еще и ее, Морию.
3
Шагая через огромную площадку, которую следовало пересечь, чтобы от места, где их высадил военный автомобиль, добраться до Палаты Федерации, Вронский воспользовался возможностью наедине перекинуться с Петрицким парой слов – в отличие от мирных времен, в переломные моменты эпохи друзья чаще всего превращаются в единомышленников или же расходятся в разные стороны. Под лавиной настораживающих новостей и действий, разобраться в которых было непросто, тем более что оба они еще не вполне овладели языком страны, в которой теперь находились, уверенность и спокойствие Петрицкого стали для Вронского единственной и очень важной опорой, хотя он крайне редко обременял друга своим горем и уж тем более не хотел навязывать ему те первые сомнения, которые начали его одолевать. Они шагали, не обращая внимания ни на других приглашенных, которые тоже направлялись в сторону еще далекого от них входа в здание, ни на десятки и десятки маленьких нахальных птичек, которые в этот теплый летний белградский вечер копошились буквально у них под ногами, выклевывая какой-то корм в полосках травы между прямоугольными бетонными плитами, которыми были выложены сотни метров площади перед Палатой Федерации.
Дело в том, что уже несколько дней они находились под сильным впечатлением от бомбардировки аэродрома в Словении, которую осуществила югославская армия, и сейчас Петрицкий, приостановившись на минуту, пересказывал то, что ему удалось увидеть по телевизору в холле одного белградского отеля: камера следила за полетом военного самолета над Любляной, «он будто висел в воздухе, ни на метр не сдвигаясь с места в пустом небе», говорил Петрицкий. Вронский на это ничего не ответил, но, помолчав, сказал, что слышал в штабе о попытке жителей хорватской столицы помешать движению танковой колонны из расположенного в Загребе военного городка в сторону Словении, а также о том, что Хорватия отказалась посылать призывников во «все еще общую югославскую армию».
Тут оба они вспомнили одно и то же – четников, в адрес которых до сих пор раздавались одни лишь слова благодарности за их патриотические действия, обвиняли в настоящем военном преступлении, совершенном в одном хорватском селе в Восточной Славонии. События эти тщательно скрывались, однако удавалось это лишь до тех пор, пока любительские кадры изувеченных трупов жителей села и подожженных домов не проникли, то ли по неосторожности, то ли из желания покрасоваться перед другими, на телевизионные экраны всего мира.
– Челие! – вспомнил Петрицкий название села.
– Не верю я, что это сделали четники, – сказал Вронский.
– Наши говорят, что это просто провокация против них, – согласился с ним Петрицкий.
– Дай-то бог, – тихо проговорил граф.
Они все еще стояли на месте.
– И все-таки во всем этом есть что-то странное, – сказал тоже тихо Петрицкий.
– Что?
– Даль обстреливали из миномета с левого берега Дуная, самолеты бомбили пригороды Вуковара! – с недоумением проговорил Петрицкий.
– Знаю, знаю… то есть именно что не знаю, не понимаю, – сказал Вронский и, зашагав в сторону входа в Палату Федерации, тихо пробормотал: – Nous verrons.
…снуют официанты во фраках, а густая толпа гостей, приглашенных по случаю праздника, вынуждает их нести подносы с бокалами и рюмками высоко над головами, в волосах женщин мелькают то перо, то цветок, а то и крошечный букетик в стиле «бидермайер», у многих мужчин на лацканах герб Королевства Югославии или круглый металлический значок с цветным изображением подстриженного ежиком Слободана Милошевича…
…неожиданные встречи в толчее, сердечнейшие, бурные приветствия, принятые в таких случаях обмены комплиментами…
«Боже мой, ведь после смерти Анны меня больше не волнует ни одна женщина», – рассеянно думал граф, и взгляд его тихо скользил по толпе, подобно тому как легкие волны, рождаемые не сильным движением глубинных вод и не порывами ветра, а обычным течением реки, спокойно следуя друг за другом, вздымают поверхность воды и так же спокойно омывают берег. «Мне осталось только страдать из-за Анны. Искупать грех», – эта мысль продолжала преследовать его и здесь. И он, одинокий внешне, почувствовал глубочайшее внутреннее одиночество: «Как она сказала мне в тот вечер, после скандала в опере, в ложе Картасовых, когда из-за меня она оказалась у позорного столба… как? Да, да, она сказала: «Если бы ты любил меня так, как я тебя»… и еще: «Если бы ты страдал, как я»… Вот, Анна, видишь, я страдаю. Страдаю оттого, что сам этого хочу», – продолжал думать он, не видя ничего из того, на что был устремлен его неподвижный взгляд.
Недалеко от него, возле окна кто-то разбил хрустальный бокал, оттуда послышались громкие возгласы, кто-то резко отшатнулся в сторону, чтобы вино не пролилось на него, в этой группке людей он заметил Петрицкого, а рядом с ним какого-то молодого человека с русыми волосами и серьгой в ухе, который двумя пальцами держал за подбородок свою девушку. На улице, несмотря на спускавшиеся сумерки, все еще было светло, но в зале уже зажгли люстры и настенные светильники.
Граф Алексей Кириллович Вронский движением руки подозвал к себе Петрицкого и только хотел ему что-то сказать, как они уже оказались не одни.
Трое солидного вида крупных мужчин своим появлением заслонили ближайший источник электрического освещения, и все, что окружало Петрицкого и Вронского, оказалось в розоватой мгле накуренного зала, освещенного последними лучами заходящего солнца и рассеянным светом находящихся высоко под потолком люстр. Подошедшие представились, и оказалось, что русские гости находятся в обществе академика, поэта и университетского профессора, однако половину имен и фамилий проглотила невнятная дикция, а вторая половина осталась нерасслышанной из-за глубоких поклонов. «Какой смысл представляться, если они свои имена бормочут сквозь зубы?» – подумал Вронский. И сказал, обращаясь ко все троим: «Очень рад». По выражениям их лиц, когда они поняли, что перед ними русские, а особенно по сердечности почти что ритуальных троекратных объятий, которым все пятеро предались после первых, поверхностных, фраз знакомства, Вронский понял, что сейчас он окажется в центре внимания. «Совсем не похожи на петербуржцев, – подумал он. – Напротив, очень непосредственные и с первого же момента близкие и сердечные, как москвичи». Тут он снова вспомнил встречу с литераторами давним зимним вечером. Правда, сейчас звучали хвалебные речи в адрес далекой родины гостей, и сердца их наполнились теплом.
– Чтобы Россия снова спасла весь мир, ей не нужно жертвовать миллионами человеческих жизней, как это было раньше. Помните, как патетично ответил император офицеру, посланному к нему Кутузовым после пожара Москвы? – обратился поэт к четверым остальным, стоявшим с рюмками сливовицы в руках, и на душе у них всех при этих словах потеплело. – Он сказал так: «Передайте нашим молодцам, скажите это всем моим любимым подданным, повсюду, где вы будете проезжать, что я сам, когда у меня уже не останется ни одного солдата, встану во главе моих славных дворян, своих добрых крестьян и воспользуюсь последним средством, которое есть у моей империи». В общем, что-то в этом роде. Но это было в романе, это было в прошлом! Сегодня достаточно, чтобы Россия просто заставила самое себя услышать свой собственный голос, который говорит ей: не забывай своего авторитета и силы! Россия, восстань! Пробудись!
Приободрившийся граф перевел разговор на впечатления, пережитые им нынешним сентябрьским утром во время проводов танковой колонны «из Белграда в Баранию», вспомнив при этом стоявшую рядом с ним на террасе даму, которая ликовала по поводу того, что больше не будет восьми национальных коммунистических партий.
– Я все правильно понял? И почему мадам так радовалась этому? – спросил граф.
– Для нас большая честь ответить на этот вопрос, господин граф, – подал голос тот, кто, представляясь, назвал себя университетским профессором. – Речь идет о спасении нашей Югославии, о вере в то, что ее все еще можно спасти и должно спасать, ради чего, собственно, как я понимаю, вы и оказались здесь, с нами.
– Да, разумеется, – подтвердил Петрицкий.
– И за что мы вам благодарны испокон веков, – вставил поэт.
– Для сербского крестьянина, а мы крестьянская нация, слово «сербство» всегда было синонимом слова «югославянство». В частности, мы, в благородном единении Короны и народа, на всем пространстве от Альп до Балкан всегда осознавали, что за нами стоит история государства Неманичей, революции Карагеоргия и Милоша и их государство, а также вся Эпопея периода короля Петра. Во всем этом нам помогала наша Церковь, но помогало нам еще и то, что все те, кто по рождению являлся хорватами или словенцами, думали по-сербски, то есть по-югославски, – говорил университетский профессор. – История югославского национализма представляет собой историю антисербского национализма. Природа же сербского национализма состоит в том, что это национализм оскорбленного достоинства.
– Позвольте пояснить, – учтиво вмешался академик. – В течение последних сорока лет у сербского народа пытались отнять его историю, духовную самобытность, экономическую и политическую самостоятельность и даже неприкосновенность. Идеология уничтожала и фальсифицировала как мотивы, так и результаты тех освободительных войн, которые вел сербский народ…
Пока поэт, переводивший их слова на русский, сделал паузу для передышки, граф снова вспомнил и литературный вечер в Москве, и звучавшие там такие же суждения.
– …у сербского народа пытались отнять и его великое средневековье, замалчивали многие факты современной истории, так что в конце концов все свелось к одной лишь истории периода Иосипа Броза, – продолжал академик.
– А все, что осталось в памяти обычных людей от титоизма, – это бесконечная, поистине эпическая история коррупции и насилия, – снова вмешался поэт.
– Народ, который за создание как первой, так и второй Югославии отдал больше жизней, чем любой другой, сейчас обвиняют в угнетении этих других народов! – снова заговорил академик. – Среди всего зла, совершенного и отдельными людьми, и некоторыми национальностями в целом – начиная с балканских войн и вплоть до бунта албанцев в Косово и Метохии два года назад, – именно сербам приписывают самые страшные преступления, их вина якобы самая большая, она гораздо больше, чем вина всех остальных, и так называемое сербское варварство сплошь и рядом отождествляют и с усташским геноцидом, и с великоалбанским террором!
– А все мы прекрасно знаем, что хорваты проявляли склонность к геноциду уже с седьмого века, потому что они вовсе не чистые славяне, они еще тогда смешались с одним азиатским народом, а в период существования фашистского хорватского независимого государства, во время Второй мировой войны, эта азиатская кровь, зовущая к преступлениям, проявила себя в полной мере, – горячо вступил в разговор университетский профессор.
– Сербы как народ, как нация, Сербия как государство не нуждаются ни в чьем, я хотел бы подчеркнуть, ни в чьем прощении и оправдании ни за захваты чужих территорий, ни за погромы над представителями других народов, ни за современные претензии на политическую доминацию, однако, как показал это господин академик, нам ничего не прощают. Не прощают даже того, что мы, несмотря на постоянный геноцид по отношению к нам, все-таки выжили! – продолжал поэт.
– Никогда за последние семь веков ненависть к сербам не была ответной реакцией на угрозу с их стороны. Если я не ошибаюсь, последний раз сербы захватили чужую территорию во времена царя Душана, причем даже тогда – без огня и меча! – объяснял университетский профессор. – Во всем виновата религиозная нетерпимость по отношению к нам. Ватикан!
– Давайте вернемся к вашему вопросу, господин граф, – спокойно предложил академик. – В титовской Югославии сербский народ не был равноправен с другими народами, составлявшими федерацию, напротив, он был бесправен, подвергался эксплуатации. И существуют большие опасения, что братское сообщество распадется, если Сербия превратится в его равноправного члена. Именно сейчас сербам ясно дали понять, что, если взаимная вражда прекратится, их никто не станет любить!
– Но разве ваше государство еще не распалось? – удивленно спросил Вронский.
– Европа, господин граф, а именно на Европу больше всего любят ссылаться наши северо-западные политики и вдохновители альтернативных идей, не знает рецептов быстрого приготовления государственных образований. И Европа никогда без крайней нужды не допускала стремительного распада какой-либо страны. Только политически наивный человек может поверить в то, что стабильная Европа, охваченная интеграционными процессами, может заинтересоваться какими-то сомнительными политическими отбросами, которые хотят отколоться от Югославии, в тот момент, когда в ней временно проявились дезинтеграционные настроения. Не говорите глупостей! – ответил русским гостям университетский профессор.
– Мы переживаем великий исторический момент, – академик поднял вверх указательный палец правой руки, желая привлечь к себе внимание. – Политические события в Сербии проходят под знаком массовых выступлений в поддержку требования сформировать сербскую государственность, и этот процесс уже нельзя повернуть вспять. Мы стоим на пороге отмены конституции 1974 года, которая была написана под диктовку брионской камарильи и антисербской коалиции, под диктовку нашего северо-запада. Согласно этой конституции, хочу, чтобы вы знали это, дорогие друзья и союзники, вся Сербская республика была втиснута в границы некогдашнего белградского пашалыка и поставлена в зависимость от приштинского беговата и новосадского воеводства. То обстоятельство, что наш народ вышел на улицы и сверг власть бюрократии, с новой силой поставило на повестку дня сербский вопрос, сконцентрировало нашу национальную энергию и обновило и активизировало демократическую сущность и традиции сербского народа. Сербия вместе с Воеводиной и Косово уже стала единой республикой, и теперь она ведет борьбу за сербское понимание федерации. Не может быть восьми совладельцев у одной системы!
– Да и вообще, как спросил один наш юморист, «зачем было основывать Югославию, если теперь запрещают быть югославом?» – пошутил поэт и сразу продолжил переводить, потому что гости внимательно ловили каждое слово своих собеседников.
– Позвольте мне, – обратился академик к поэту, – закончить свою мысль. Видите ли, мы убеждены, что Югославию нужно спасать, спасать от агонии, из-за которой она не только не может нормально развиваться, но буквально погибает, и первое политическое условие спасения Югославии, я повторяю: такой Югославии, какой себе ее представляет и любит тот самый сербский крестьянин, о котором мы с вами здесь говорили, – это отмена навязанной стране конституции 1974 года. Поэтому войну нужно воспринимать как хирургическую операцию, болезненную, но совершенно неизбежную для спасения жизни больного.
– А что происходит с сербами в Хорватии? – осторожно спросил граф.
На миг воцарилась полная тишина, потом заговорил университетский профессор:
– Сербов в Хорватии около шестисот тысяч, но это их земля. Прошу вас это запомнить! Они полностью оторваны от своих соотечественников в Сербии, унижены, лишены возможности развивать собственную культуру, им угрожает ассимиляция. Они наиболее болезненно воплощают в себе тот образ сербского народа, который однажды нарисовал господин академик: сербский народ осужден нести историческую вину, быть постоянным заложником, жить с налепленным на него ярлыком гегемониста и унитариста, если он не соглашается отказаться от своей самостоятельности и самобытности. Еще вчера хорватские власти преследовали и арестовывали в Хорватии сербских писателей, являвшихся рупором совести своего народа, а сегодня они вышвырнули весь сербский народ за рамки программы политического развития, как будто в Хорватии живут одни только хорваты! Без нас у них ничего не выйдет, они просто не имеют на это права, и это им придется наконец-то усвоить! Весь мир это понимает. Весь мир на нашей стороне, потому что всем известно: сербы – это нация, которая больше всех дорожит Югославией. Никто на Западе не откажется признать традиционную либеральность Белграда.
Я снова процитирую одного моего коллегу, правда, на этот раз поэта. Он сказал, что нынешние сербы в Хорватии – это то, что осталось от истребленного народа. Сказано блестяще! – Поэт тут же перевел сказанное, и профессор продолжал:
– Именно этим объясняется наша историческая память и тревога за свою судьбу в будущем. И пока на северо-западе Югославии задаются вопросом, что же такое сербы – цыгане или фашисты, судетские немцы или сталинисты, тем, кто никак не может с этим разобраться, следует помнить – всякий, кто посягал на Сербию, кончал позором! И не важно, кто это сказал, я или мой коллега, поэт, потому что так и только так думает весь сербский народ. И даже если потребуется ввергнуть в третью мировую войну весь мир, мы к этому готовы!
«Мы можем со спокойной совестью утверждать, что современная сербская литература, искусство, общественные науки и историография проникнуты духом гуманизма, критического осознания, самосознания и универсализма; мы уверены, что наше творчество устоит перед все более агрессивно звучащими на нашей общей югославской земле призывами к регрессу, к отходу от норм цивилизации».
Из Резолюции Чрезвычайной скупщины Объединения писателей Сербии, состоявшейся в Белграде 4 марта 1989 года
Поэт, утомленный переводом, с пересохшим горлом, приподнявшись на цыпочки, взглядом искал официанта.
Последние слова не оставили графа равнодушным, и он решил высказаться, сначала тихо, но, по мере того как более сильными становились его аргументы, голос его звучал все решительнее.
– Сербия на Балканах – это примерно то же, что и Швеция на Скандинавском полуострове во времена Оскара Второго, – начал он. – Богом избранная страна…
– Да, сербы народ, избранный небом! – не удержался поэт, который при этом переводил слова Вронского на сербский.
– Простите? – с улыбкой посмотрел на него Вронский. – У Швеции за пазухой лежала гадюка по имени Норвегия.
– Норвежский национализм у них, хорватский у нас! – снова вставил поэт при переводе.
– Оскар Второй в собственном королевстве воевал против норвежцев…
– Так же как и мы сейчас воюем против словенцев и хорватов! – продолжил профессор, исходя из логики предыдущего разговора.
– Однако Его Величество, король Швеции, проявил уступчивость, и в 1905 году Швеция согласилась на отделение Норвегии, признав ее независимость.
– Зачем вы нам об этом говорите? – изумился академик.
– Затем, что, с тех пор как Швеция и Норвегия разъединились, они живут мирно и счастливо! – простодушно воскликнул Вронский.
– Нас не интересует счастье Хорватии, ваша светлость, – решительно заявил академик.
– На Сербию самим Богом возложена особая миссия на Балканах, и она не может отказаться от своих представлений об этой части мира, – сказал университетский профессор.
– Сербы – это Божий народ, древнейший на свете! – поэт угрожающе поднял решительно стиснутый кулак. – Между Альпами, Дунаем и Эгейским морем живет один народ, потому что земля сербская повсюду, где есть могилы сербов. А там, где наша сербская земля, там и все другое наше: героический народный эпос, святое православие, пастуший нож, ятаган и ружье, свободолюбивые герои с Черных гор, булава королевича Марко, кинжал Милоша Обреновича, знамя Бошко Юговича…
– За мучеников наших, тогдашних и нынешних… таких, как господин академик, – смиренно проговорил университетский профессор и чокнулся с академиком.
– Профессор, господь с вами! – бодро возразил академик. – Не подумайте, что я страдал из-за длительной изоляции от общества, из-за ограничения моей гражданской свободы и прав! Напротив! Мне хочется высказать искреннюю благодарность Иосипу Броз Тито и его клевретам за то, что они лишили меня возможности публиковаться в газетах, выступать на съездах, участвовать в общественных дискуссиях, появляться на радио и телевидении. Спасибо им за то, что они спасли меня от политических комплиментов, государственных наград, торжественных юбилеев и почестей, от сидения в первых и вторых рядах на партийных, боевых и национальных юбилеях. Спасибо всем, кто громогласно называл меня сербским националистом, врагом Союза коммунистов и «самоуправленческого социализма», и пусть Господь вознаградит их райским блаженством.
Все чокнулись.
После этого университетский профессор вплотную приблизился к Вронскому и тихо произнес:
– Я счастлив, что с нами вместе единоверцы из нашей великой матушки-России. Ваша светлость, знаете, dorn ja sebe otgrohal – bud zdorov!
Между тем все это время, с того момента, как Вронский, получив ответ на искренне заданный вопрос, снова замолчал, погруженный в себя он, сквозь мельтешение толпы и гул голосов, наблюдал за женщиной, которая, пройдя рядом и оставив за собой приятный влажный запах желтого цвета (который сначала своим нежным ароматом напомнил ему примулу и чайные розы, а когда этот аромат немного выцвел, уже засохшая желтизна вызвала в памяти лишь нарцисс, да, именно нарцисс), скользнула, и это он все же заметил, по его лицу взглядом своих по-восточному черных прекрасных, похожих на маслины глаз и на ходу, уже отойдя на несколько шагов, обернулась (и этот ее заинтересованный взгляд он тоже перехватил), развернувшись в его сторону («Вот, снова», – подумал он) почти всей своей изящно и волнующе сложенной фигурой, затянутой в кармин. Длилось все это не более нескольких секунд, но и их оказалось достаточно для того, чтобы Вронский почувствовал, как по всему его телу побежали приятные мурашки, однако это ощущение тут же сменилось жестоким и горьким воспоминанием об Анне. «Почему я тогда не остался в деревне, как она этого хотела, зачем я давал повод ее ревности, отчего моя любовь к ней таяла? – спрашивал он самого себя и запутывался в сетях собственной лжи и мерзости. – Действительно ли ее любовь начала ослабевать? Или я сам старался себя в этом убедить, для того чтобы освободиться от пут связанных с ней обязанностей, которые стали для меня слишком тяжелы? Освободиться – для чего? Хорошо, я освободился, но как, какой ценой? Неужели это и было целью моего освобождения? Это?… Как она тогда сказала, когда я грубо высмеял ее… Ох, боже, что с моей головой… над чем же я тогда насмехался?… Ах да, я издевался над тем, как горячо она защищала необходимость открытия женских гимназий! Кому-то все это может показаться глупым, весь тот разговор о гимназиях, да к тому же еще и женских, но, господи боже мой, трагедии, как правило, всегда вырастают из ерунды! Да, кажется, я вспомнил, что именно она сказала в тот вечер, когда мы разговаривали об этих проклятых гимназиях, она сказала: «Я вовсе не жду, что вы поймете меня и мои чувства, как мог бы их понять тот, кто меня любит…» Вот это сомнение во мне и привело ее к смерти. «Как… тот, кто меня любит», потому что я-то таким не был, думала она. А она ради меня была готова пойти на все. И пошла. От гимназий до того поезда, стремясь убежать от двух Алексеев, в смерть. Это так. И теперь то же самое – смерть – смоет и мой позор».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!