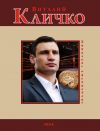Текст книги "Ники Лауда. В ад и обратно. Автобиография"

Автор книги: Ники Лауда
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Мне потребовалось добрых полчаса, чтобы заставить его понять: через три месяца, когда начнется новый сезон, я снова собираюсь гоняться, и единственное, что меня интересует, это выправление ситуации с правым глазом. Одно это отнимет у меня предостаточно времени, и никакое новое ухо из реберного хряща мне не нужно.
Питангуй был явно удручен тем, что не смог уговорить меня на капитальный ремонт, но мне все равно пришлось согласиться преодолеть ради него 500 миль. Наконец мы утвердили дату, и я вылетел в Рио вместе с Марлен и Лукасом. Это был первый перелет в жизни Лукаса, что сделало поездку более приятной.
В клинике меня ввели в наркоз. Я проснулся спустя четыре или пять часов с перевязанными глазами и ощущением тошноты. Три дня спустя мне разрешили вернуться в отель, но теперь у меня был перевязан только оперированный глаз. Кусочек кожи менее дюйма в длину и ¼ дюйма в ширину был пересажен с моего затылка на область нижнего века. Чтобы иммобилизовать его, верхнее и нижнее веко сшили вместе.
Я быстро шел на поправку. Организм не отторг пересаженную кожу, и спустя неделю мне сняли швы. Я ни черта не видел. Проблема была в том, что зрачок впервые за много лет вступил в контакт с веком, из-за чего началось серьезное воспаление. Однако спустя несколько дней все заработало нормально, и мои проблемы с глазами ушли.
Что же до остального ущерба – ухо, лоб, голова, – он может оставаться. Я не собираюсь делать себе пластику; пока не страдает функциональность, я не чувствую никакой необходимости в ней.
Глава пятая. Жизнь продолжается
Многие люди сочли бы, что после Нюрбургринга-1976 мне следовало провести первые несколько месяцев в затемненной комнате, в обстановке тишины и спокойствия. Моя прагматичность, проявившаяся в решении возобновить карьеру, как только все системы вновь заработали, вызвала замешательство: некоторые полагали, что это свидетельство нехватки у меня чувства самоуважения, другие считали мой поступок откровенно некрасивым.
В Ferrari мое возвращение тоже, разумеется, вызвало некоторое смятение. Мне казалось, что во всей организации Ferrari не было ни единого человека, который выбрал бы прагматичную линию поведения и держался бы ее. Даниэле Аудетто думал, что «действует в моих интересах», начиная тайные переговоры об отмене предстоявшего австрийского Гран-при. На самом же деле я нуждался в другом: чтобы команда продемонстрировала мне свое самообладание, постоянство, доверие. Как бы не так. В глазах внешнего мира Энцо Феррари и его компания поддерживали своего слегка подпаленного чемпиона мира, но изнутри все ощущалось иначе: все и каждый из них выказывали презренную неуверенность, которая явственно ощущалась мной. Тактика была приоритетнее доверия.
По части доверия мне пришлось самому наспех восстанавливать его с помощью и содействием Марлен, которая отнеслась ко мне просто замечательно, и Вилли Дунгля, который вернул мое тело в форму, заново научив его ходить, бегать и, наконец, гоняться.
Единственным следующим логическим шагом в этой цепочке мне виделось возвращение на арену чемпионата мира – как только мое состояние позволит мне нормально держать в руках руль.
Некоторые газеты в то время писали, что в аварии мне, должно быть, выжгло и некоторые участки мозга, но выбранная мной последовательность действий была лучшей из всех, которые я мог избрать для улучшения своего физического и ментального здоровья.
Лежание в кровати и бесконечные размышления о произошедшем на Ринге прикончили бы меня. Соответственно я постарался вернуться к работе как можно раньше – в Монце, спустя тридцать три дня после аварии. Я пропустил две гонки и отдал 12 очков своего гандикапа в зачете чемпионата мира Джеймсу Ханту. Впоследствии окажется, что эти очки дорого мне обошлись.
Я говорил тогда и позднее, что я быстро и начисто поборол свой страх. Это было ложью, но с моей стороны было бы глупо говорить правду и тем самым играть на руку своим соперникам, подтверждая собственную слабость. В Монце я цепенел от страха. Тренировка в дождь в пятницу в преддверии гонки вселила в меня такой ужас, что я вылез из машины при первой же возможности. Естественно, мне приходилось строить из себя героя, чтобы выиграть себе достаточно времени и разобраться в происходящем со мной. Правда в том, что временами приходится отыгрывать жесткого типа, независимо от того, ощущаешь ли ты себя таким внутри или нет. На самом деле это все игра в ментальные прятки: тебя никогда не простили бы, если бы ты случайно брякнул правду в неподходящий для того момент. Тебе бы пришла крышка.
Ситуация в Монце стала новым опытом для меня. Я применил свою стандартную тактику – объективная оценка эмоций, установление причин, отказ от любых нелогичных и нерелевантных мыслей – и ментально был очень заряжен. Я также смог сбросить с себя груз аварии на Нюрбургринге, по крайней мере, я думал, что смог.
Я сказал себе: ты мог пилотировать раньше, значит, сможешь делать это точно так же и теперь. А поскольку ничего не изменилось, тебе и не следует ни о чем беспокоиться.
Здорово, но на деле все получилось совсем не так. Когда я залез в кокпит болида в Монце, страх обрушился на меня с такой силой, что все мои теории о самомотивации тут же вылетели в трубу. Диарея. Тахикардия. Тошнота до рвоты. Я вернулся в тишину и спокойствие своего отеля и заново проиграл ситуацию в голове, пытаясь выявить то, что делал неправильно.
На самом деле неправильным с моей стороны было то, что я пытался гнать машину так же быстро, как делал это до аварии, в общем-то, безотносительно своего ослабленного состояния, с одной стороны, и разразившегося дождя – с другой. Я чувствовал себя неуверенно и чересчур остро на все реагировал. Я не держал машину под контролем, как делал это обычно; я попросту не применил свои навыки и опыт, чтобы взять ее под контроль. Я прибегал к чрезмерной коррекции, слишком рано бил по тормозам и довел себя до глупой сумятицы.
Этот анализ помог мне перепрограммировать мозг на следующий день, субботу. Не надо подвергать себя такому громадному давлению, расслабься, води медленнее. Именно так я и поступил. Я начал медленно, потом постепенно наращивал скорость, пока вдруг не оказался быстрейшим из Ferrari – быстрее Регаццони и новичка Ройтеманна. Я сумел доказать на практике то, что знал в теории: я и сейчас могу пилотировать так же качественно, как и до аварии.
Таким образом я сумел подавить тревожность, которую ощущал, по крайней мере настолько, чтобы занять четвертую строчку. Что было совсем неплохо, учитывая все факторы.
Ferrari продолжали твердить миру, как единодушно вся команда поддерживает меня, но за кулисами в конюшне царила растерянность. Они не знали, как им расценивать действующего чемпиона с обезображенным лицом (оно и правда выглядело очень плохо в первые недели), который продолжал выступать, словно все было в полном порядке. Вместо того чтобы снять с меня груз давления, они лишь усилили его, пригласив в команду Карлоса Ройтеманна. Мы друг друга на дух не выносили.
Чтобы не утонуть в этом ни физически, ни ментально, мне пришлось приложить колоссальные усилия.
Феррари отправил Ройтеманна на Поль Рикар провести важное тестовое испытание, а меня решил оставить во Фьорано проверять тормозные колодки или какую-то другую подобную ерунду. Мне пришлось закатить скандал и устроить всевозможные выходки, чтобы заставить его правильно расставить приоритеты. Большим подарком судьбы для меня стало, разумеется, то, что Феррари так страстно хотел продлить меня на предстоящий сезон. Если бы у меня не было того контракта, они бы наверняка закопали меня ментально и списали бы в утиль.
Технические неполадки стали причиной моего схода на канадском Гран-при, а в Уоткинс-Глен я занял третье место. Хант выиграл обе гонки. К последнему этапу сезона – на Фудзи, неподалеку от Токио – я подошел с трехочковым отрывом.
Оглядываясь в прошлое, я по-другому смотрю на проигрыш чемпионского титула 1976 года по сравнению с тем, каким видел его тогда, хотя и не корю себя за него.
Если бы я был чуть менее напряжен в решающий момент, если бы я чуточку расслабился и по инерции докатил бы до пары очков, которые были мне нужны, чтобы стать чемпионом, тогда сегодня на моем счету было бы четыре титула, а не три. Но, говоря откровенно, мне было глубоко наплевать.
У меня нет никаких сожалений по поводу того сезона. А Ferrari не нужно было мнить себя облапошенной в связи с проигрышем чемпионского титула. Ведь это была их вина, что его судьба решалась в заключительной гонке сезона на Фудзи: на Поле Рикаре, где я лидировал с большим отрывом, у нас случилась неполадка с коленвалом, а в Канаде сломалась задняя подвеска. В Монце им нужно было лишь сказать два слова моему партнеру Клею Регаццони, напомнив ему о том, кто пилот Номер Один. Но единственное, на что сподобился Феррари, это слова о том, что Лауда капитулировал на Фудзи и проиграл чемпионат мира.
Фудзи, 24 октября 1976 года. В обычных обстоятельствах последние две-три гонки сезона – чистое безумие, даже для физически крепкого и здорового пилота. В моем случае дополнительным грузом была физическая и психологическая травма, понесенная мной на Нюрбургринге, не говоря уже о давлении, которое наращивал Джеймс Хант, сметавший все и вся на своем пути в погоне за титулом. К моменту приезда в Токио я уже явно демонстрирую признаки сильного напряжения. Мне нужно подзарядить батареи, мне нужна тишина и покой, нужно время. Но что я получаю вместо этого? Дождь. А в мокрую погоду нужно обращаться к дополнительным резервам мотивации и выносливости. У меня таких резервов не осталось. Я был в полном упадке. Дождь полностью меня уничтожил.
Он все шел, и шел, и шел. Целый день дождь. По треку текли речные потоки. Разгоняясь выше 20 миль в час на прогревочном круге, ты рисковал улететь в повороте: тебя попросту смыло бы, потому что шины не способны справиться с таким количеством воды. Все пилоты за исключением Брамбиллы и Регаццони отказываются выходить на трассу в таких погодных условиях. Мы сидим у трейлера официального представителя организаторов и говорим ему, что не сдвинемся с места.
Время приближается к четырем часам пополудни. Тут объявляется какой-то клоун с новостями о том, что на улице начинает темнеть. Если скоро не стартуем, последние круги придется сократить, а это повлияет на телевизионный эфир и так далее и тому подобное. Гонка должна начаться.
Брамбилла шагает во главе, все остальные следуют за ним. Фиттипальди, Пасе и я понимаем, что никакого желания гоняться у нас нет. Мы выйдем на старт, чтобы наши команды могли получить свои стартовые деньги, но потом мы сворачиваемся. Ведь ничего не изменилось: обстановка все такая же опасная, а тот факт, что начинает темнеть, едва ли способен как-то помочь делу.
Как выясняется, ощущения от езды в таких условиях совершенно невыносимые: ты сидишь за рулем в панике, вовсю хлещет дождь, ты ничего не видишь, просто сутулишься в своем кокпите, напрягая плечи, и ждешь, когда кто-нибудь в тебя врежется. Все скользят, всех заносит; полное безумие. Глядишь на все это, и тебе кажется вполне благоразумным уехать в боксы и сдаться.
Но вдруг случается чудо: после двенадцати часов непрекращающегося потопа дождь заканчивается – примерно на четверти дистанции гонки. Если бы я продержался в гонке так долго, двигаясь медленно и избегая столкновений, я бы без проблем смог дать газу и обогнать всех, кого было нужно, чтобы гарантировать себе титул. Как выяснилось, для чемпионства хватило бы даже пятого места.
К сожалению, терпеливое ожидание было выше моих сил в тот день, последний день сезона 1976 года.
Поведение Энцо Феррари в данном конкретном случае было менее чем достойным. Он отреагировал как любой другой босс команды, увидевший, что у него из рук уплывает вернейший шанс. Никакой легендарной величественности в Феррари тогда не было. Официально он меня поддержал и принял мое решение.
Но даже телефонный разговор, который состоялся у меня с ним в зале ожидания аэропорта Токио, был сухим и бессердечным. Казалось, его нисколько не интересует, как у меня дела, он ни разу не спросил: «А ты-то сам как?»
Он, казалось, не захотел понять нервозность, которую ощущал пилот, прошедший через серьезную аварию, ни разу не намекнул на желание продолжать вместе и двигаться к новому, более удачному сезону. Ничего.
«Ты хочешь продолжать пилотировать? Что не так? Что будет дальше? Что я могу сделать? Каков наш следующий шаг?» Все это вопросы, который Энцо Феррари ни разу не задал. В свои семьдесят восемь лет он, проживший всю жизнь в постоянных интригах, в море искаженной информации, оказался слишком далек от вопроса, имевшего принципиальное значение. Он мог только сидеть и читать свои газеты. А они докладывали, что Лауда сдрейфил, что Лауда испугался, что Лауда конченый, что дни Лауды сочтены.
Как только я вернулся в Европу, Энцо Феррари вызвал меня к себе и предложил мне должность менеджера команды. В голове у меня что-то щелкнуло. Что стоит за этим? Чего он надеется добиться? Я собирался потянуть время, но неожиданно меня осенило: он нашел верный способ разрешить эту жалкую дилемму (Так кончился ли Лауда или нет?). Он собирался поставить мою карьеру гонщика на паузу, гарантировав себе, что я не подпишу контракт ни с какой другой командой. Для него стало бы большим позором, если бы я выиграл титул, пилотируя чью-то другую машину. Предложение мне должности менеджера команды наверняка виделось ему ловким тактическим ходом.
Как только до меня дошло, я метнулся к своей машине и вытащил из нее контракт, который мы с ним подписывали в преддверии Нюрбургринга – тот самый контракт еврейчика на 1977-й. Я швырнул его ему на стол.
«А с этим что будем делать? Забудем? Мне что, разорвать его?»
«Почему же?» – спросил Феррари.
«Потому что тогда я смогу выступать за McLaren».
Он был застигнут врасплох. Что мне ловить в этом McLaren? Они сделали мне предложение, заявил я, не хватает только моего согласия. В этих словах не было ни грамма правды, разумеется. Я просто решил экспромтом разыграть эту карту. Я вбросил McLaren, потому что в те времена они были лучшей командой, помимо Ferrari.
Меня выпроводили из комнаты. Быстро вызвали нескольких приспешников, и у них тут же началась оживленная дискуссия. Потом меня пригласили обратно. Я могу остаться пилотом, но Номером Один в команде будет Ройтеманн. Это был дешевый ход, ведь мы оба должны были пилотировать одну и ту же машину. Кто застолбит себе место Номера Один, а кто Номера Два, скоро станет ясно – это автоматически зависело от наших выступлений, и по этому поводу я нисколько не беспокоился.
Однако к тому времени я уже был по горло сыт Ferrari – самим Il Commendatore и всем его окружением.
Сезон 1977-го выдался тяжелым. Моим первым приоритетом было поставить Ройтеманна на место и обеспечить себе роль Номера Один в команде. К третьей гонке сезона – южноафриканскому Гран-при – эта цель уже была более-менее достигнута, и я смог сосредоточить все свои усилия на продвижении технического прогресса. Но Ferrari уже не была той быстрой машиной, какой была в минувшие годы: нам удалось всего дважды за целый сезон занять поул-позиции. Самыми серьезными оппонентами в этом отношении были Хант из McLaren, Андретти из Lotus и Шектер из Wolf.
Воспоминания о нарушении Феррари своих обязательств я спрятал в дальний чулан своего разума, прямо как слон-отшельник. Уход стал бы для меня облегчением. В Зандворте, на тринадцатой гонке из семнадцати в сезоне, решение созрело: я подписал контракт с Берни Экклстоуном и его Brabham. Конечно, его нужно было держать в тайне, иначе мои блестящие перспективы выиграть титул в борьбе оказались бы под угрозой. Il Commendatore вновь не терпелось добиться от меня подписания контракта с ним на предстоящий сезон, и мне приходилось выдумывать одну дурацкую отмазку за другой, чтобы только отложить переговоры.
Я был рад, что мой уход должен был стать пощечиной Энцо Феррари. Сегодня я несколько иначе смотрю на вещи. На самом деле наш бой был неравным. Я был молод и силен, я мог самостоятельно принимать решения; Феррари было семьдесят девять, его окружали «советники»-лизоблюды, а информацию он получал из вторых, а то и третьих рук.
Однако в то время мой гнев настолько затмевал все остальное, что я попросту не дал ему ни шанса. Я с большим удовольствием отверг наверняка самое щедрое предложение, которое он когда-либо делал. Я был очень хладнокровен, очень немногословен и не дал никаких объяснений: «Я не хочу оставаться, вот и все». Конец истории.
Я был счастлив, что ушел.
Как только я гарантировал себе чемпионский титул во второй раз, я счел, что нет никакой нужды дальше терпеть до абсурда напряженную обстановку в команде, поэтому отказался выходить на старт в Канаде и Японии. Прошу заметить, что у меня был достойный сменщик – Жиль Вильнёв.
Энцо Феррари действительно чувствовал себя сильно оскорбленным и бросил в мой адрес несколько нелицеприятных реплик.
Для меня эта глава была закрыта, мой гнев выветрился. Остался только тот факт, что Энцо Феррари дал мне возможность выступать за одну из ведущих команд.
Я уходил с 15 победами, 12 вторыми местами и 5 третьими. Я уходил с 23 поул-позициями, 3292 милями в качестве лидера в «Формуле-1», 248 очками в зачете чемпионатов мира и двумя чемпионскими титулами.
А еще я уходил с огромной любовью к Италии и многому итальянскому.
Когда Энцо Феррари отправил мне поздравительную телеграмму по случаю рождения Лукаса, я заключил, что его отношение ко мне изменилось так же, как и мое отношение к нему. С течением времени уважение, которое я питал к этому гиганту автоспорта и его достижениям, затмило все прочее.
День примирения случился спустя шесть лет после моего ухода из Ferrari. Это была чистая случайность: в рамках одной из своих редчайших вылазок за пределы дома Феррари прибыл в Имолу поучаствовать в тестовых заездах. Он как раз выезжал из трейлер-парка на своей Lancia и тут же попал на меня, стоявшего прямо перед ним. Он вышел из машины и крепко обнял меня, будто своего блудного сына. Он спрашивал про Марлен и детей и, просто говоря, вел себя как душевный, обаятельный джентльмен восьмидесяти четырех лет.
Сегодня у меня даже есть собственная Ferrari для городской езды – должно быть, с годами я становлюсь сентиментальнее. Когда я водил машины компании в годы выступлений, они сильно действовали мне на нервы: я почти никогда никуда на них не выезжал и оставлял их припаркованными для кого-нибудь другого. Теперь я владею одной из всего 213 моделей GTO, существующих в мире, и эта машина – первая из всех в моей жизни, которую я хочу сохранить и за которой хочу ухаживать до конца жизни.
Глава шестая. Brabham
Переход в английскую команду пошел мне на пользу. Берни Экклстоун и конструктор Гордон Мюррэй были неконфликтными или, по крайней мере, куда менее конфликтными, чем любой человек в Ferrari. Там, казалось, не было этого все подавляющего маниакального стремления к успеху, а давление со стороны прессы было слабее. Все было более естественно, не так жестко – и куда более прямолинейно. Гордон Мюррэй был техником, который приходил рано утром и сразу брался за работу: быстрое «Доброе утро», и на этом все, никаких словоблудий, никакой драмы.
Все бы получилось просто сказочно, если бы только у нас был другой мотор. 12-цилиндровый двигатель Alfa попросту не тянул, а проблемы и кризисы возникали у него круглосуточно. Мы сходили с трассы в одной гонке за другой то из-за одной ерундовой причины, то из-за другой, вроде дефекта масляного уплотнения или аналогичных ему. Случались поистине театральные конфронтации между Гордоном Мюррэем и техником Alfa Карло Кити. (Я пару раз навещал Кити в Милане и всегда поражался тому, что по его мастерским снует штук сорок, а то и больше бездомных собак. Кити, казалось, приглядывал за каждой бродяжкой в Милане и прилегающей к нему округе: он их кормил и водил на проверки к ветеринару. А вот моторам, которые собирались в этой бардачной псарне, такой заботы и внимания не доставалось, и у меня всегда было ощущение, что ничего хорошего из этого не выйдет.)
В те времена Берни Экклстоун уже утверждался в роли главного промоутера «Формулы-1», и казалось, что о собственной команде он печется лишь спорадически. Я не считал это разумным подходом, потому что это означало, что дополнить Гордона Мюррэя в движущем тандеме команды было некому.
Экклстоун поистине блистательный персонаж, каким его малюют, – и сверх того, совершенно непредсказуемый. Когда ведешь с ним переговоры, лучше быть в наилучшей форме. Он использует любое оправдание, любую полуправду, чтобы придать разговору новый вектор.
Он будет спорить, что черное – это белое, а дважды два – пять (или наоборот), будет утверждать что угодно, что взбредет ему в голову, если это каким-то образом служит его цели и укладывается в его переговорную стратегию.
Он прибегает к выкрутасам и хитростям в такой степени, что тебе невозможно уловить нить, связывающую его разговор.
Однако, как только ты достигаешь соглашения с ним, можешь быть уверен, что условия его будут соблюдаться неукоснительно. Если Берни пожимает тебе руку, можешь принять сделку как свершившийся факт. За годы все причастные к «Формуле-1» – от пилотов до организаторов гонок – усвоили, что означает рукопожатие Берни, и это естественным образом облегчает работу с ним. Вопрос, который часто задают, звучит так: является ли Экклстоун гением в деловых вопросах? Я не считаю его именно что гением, но думаю, что он лучший кандидат в политическом поле «Формулы-1».
Самым волнующим событием моего двухлетнего периода в Brabham стала презентация «машины-пылесоса» посреди сезона 1978 года. Конечно, и раньше уже были модели, собранные по схожим лекалам, – например, American Chaparral шестидесятых – но новая версия Brabham была уникальным детищем Гордона Мюррэя и его видения болидов.
С технической точки зрения момент был выбран подходящий: Lotus уже добился наибольшего прогресса с концепцией wing-car[15]15
Концепция wing-car не имеет никакого отношения к видимым крыльям, хотя спойлеры на болиде и играют в ней свою, весьма скромную, роль. На самом же деле название концепции связано с эффектом, который возникает, когда поток воздуха движется над профилем в форме крыла. Так же как подъемная сила генерируется наружной поверхностью крыльев летательного аппарата, так и граунд-эффект генерируется, когда эти профили установлены вверх дном. (Wing-car и ground-effect car – это два выражения, описывающих один и тот же феномен.)
В автомобиле граунд-эффект достигается за счет вспомогательных аэродинамических приспособлений, с одной стороны (спойлеры), но с другой стороны – и куда более значительной – за счет проектирования днища болида таким образом, при котором будет возникать эффект присасывания, то есть увеличенная тяга вниз. Lotus образца 1978 года двигался именно в этом направлении, хотя у него по-прежнему были технические проблемы, требовавшие решения, – например, покрытие днища автомобиля (пластиковые юбки, использовавшиеся поначалу, слишком быстро снашивались трением).
[Закрыть] и, как следствие, с большим отрывом шел впереди всех остальных. Мюррэй изыскивал собственное техническое решение, которое помогло бы увеличить граунд-эффект машины. В регламенте «Формулы-1» не было никаких пунктов, исключающих применение вентиляторов per se, при условии, что они будут использоваться для охлаждения мотора. Мюррэй сумел добиться соответствия действующему регламенту, переместив охладители в заднюю часть машины. Главной функцией установленного в задней части вентилятора было, разумеется, высасывание воздуха из-под днища болида – хотя ни Brabham, ни Гордон Мюррэй никогда этого официально не признавали. Конкуренты подозревали, что Мюррэй обзавелся сильным козырем в рукаве, из-за чего атмосфера стала весьма напряженной. Берни Экклстоун подал в главный руководящий орган автоспорта заявление на дачу письменных показаний под присягой для подтверждения законности новой разработки.
На деле же новый Brabham было неприятно пилотировать. Он страдал от колоссальной недостаточной поворачиваемости, лишь усиливавшейся в момент, когда ты отрывал ногу от педали газа. Вентилятор приводился в движение мотором, в результате чего эффект высасывания воздуха снижался, как только падали обороты двигателя. После пары тестовых кругов в Брэндсе я начал адаптировать свой стиль пилотирования под машину. Всякий раз, когда болид не давал нужного отклика при вхождении в поворот, нужно было поддавать газу, а не притормаживать. Таким образом, машину крепче присасывало к трассе, и она могла входить в виражи на невероятных скоростях. Это стало предтечей того, что ожидало нас в будущем, в эру wing-car-болидов.
Не стоит и говорить, что у конкурентов не было ни единого шанса против машины такого рода – даже у Lotus’а с его великолепной конструкцией и первоклассными асами вроде Андретти и Петерсона за рулем. «Пылесос» был готов аккурат к шведскому Гран-при в Андерсторпе, и наибольшие опасения у нас вызывало то, что мы можем выдать себя, продемонстрировав его неоспоримое превосходство. Джон Уотсон и я проходили квалификационные круги с полными баками и прилагали все усилия к тому, чтобы избежать попадания на поул-позицию.
Когда началась собственно гонка, я позволил Андретти захватить лидерство, начав с ним игру в кошки-мышки. Повреждение, понесенное Tyrell Пирони, привело к тому, что по трассе разлилась масляная лужа, и я видел, как двигавшийся впереди меня Андретти заскользил, будто на черном льду. Я мельком глянул, где находится масляная лужа, но упрямо продолжил гнуть свою линию и проигнорировал ее. Я обогнал его без малейших усилий и закончил гонку с неприличной легкостью, внимательно следя за тем, чтобы мое лидерство не казалось чересчур явным.
По поводу той победы никаких протестов не было, но власть имущие быстро объявили вентилятор вне закона. Технические изыскания продолжили преследовать все ту же цель – увеличение граунд-эффекта, – но шаг за шагом и посредством менее очевидных ходов (дизайн основания кузова, специальные полоски, устойчивые к износу трением, и т. д.). Все это в конечном итоге и так равно привело к все тому же безумию, но в 1978-м мы едва ли могли предсказать подобное. Но даже при этом «пылесос» от Brabham остается одной из диковинок в богатой истории «Формулы-1», стоившей создателям 200 тысяч фунтов, потраченных на его проектирование и конструирование.
В том году Lotus оказался чересчур крепким орешком, и мне удалось выиграть вторую гонку – в Монце – лишь потому, что Андретти оштрафовали на целую минуту за фальстарт. В остальном сезон получился немного утомительным: с нашими моторами от Alfa мы то плелись где-то в конце, то просто сходили. В следующий год мы бесились даже сильнее: я доехал до финиша всего дважды, а мой новый партнер по команде Пике лишь раз финишировал в очковой зоне.
Вообще, в 1979-м всех рвала Ferrari – благодаря Шектеру и Вильнёву, а также тогдашним отменным шинам Michelin.
В то время у меня спросили, не раздражает ли меня то, что Ferrari побеждает без Лауды. Я ответил лишь то, что мне глубоко фиолетово то, что происходит с командой, которую я уже оставил в прошлом. Да и почему Ferrari снова не может быть на коне? Это было вполне логично, особенно с учетом их идеального союза с Michelin. Однако не могло быть и речи о том, что у меня были какие-то сожаления на этот счет.
Наш сын Лукас родился в Зальцбурге в 1979-м. В момент его появления на свет я находился в салоне Learjet где-то в небе между Лас-Вегасом и Лонг-Бич. Я был счастлив, когда услышал новости, но пребывание в такой дали от семьи сделало это событие каким-то абстрактным – по крайней мере, на тот момент.
К тому времени Марлен уже давно закрыла для себя мир автогонок. Будет верным сказать, что она его ненавидела и с тех пор нисколько не изменила своего мнения.
История на Нюрбургринге, случившаяся всего через пять месяцев после нашей свадьбы, шокировала ее настолько, что она никогда не смогла бы простить.
Ее так жестоко отрезвили от ее совершенно бесшабашного отношения к жизни, что она больше никогда не могла смотреть автоспорт сколько-нибудь отстраненно.
Соответственно, Марлен уже давно считала автоспорт безумием, а всех, кто имел к нему какое-либо отношение, психопатами, включая и вашего покорного слугу. У нее также выработалось острое чутье на бессердечность, присущую нашему спорту, и она стала резко реагировать на весьма тривиальные неуместности, которые такой человек, как я, даже не замечает. Маленькие, будничные происшествия, атрибуты ежедневных ритуалов автоспорта, не имеющих никаких последствий как таковых, приобретают значение, когда она пропускает их через свою открытую и великодушную натуру. Марлен запоминает банальные ситуации вроде утра уик-энда Гран-при, проведенного в одном из типичных для нас безликих отелей, похожих друг на друга, как близнецы. Ты заходишь в лифт, узнаешь кого-нибудь, принуждаешь себя обменяться с ним бессмысленным приветствием и не можешь дождаться момента, когда лифт остановится и ты сможешь выйти. Эти секунды, когда мы стоим в лифте в ожидании, пока откроются двери и, как кажется, в состоянии полной неспособности коммуницировать друг с другом, раздражают Марлен до крайности. «Неужели ты не видишь, как это все грустно и пусто?» – спрашивает у меня она. А я отвечаю: «Нет, я вообще ничего не чувствую».
Она находит некоторые аспекты моей жизни автогонщика нелепыми. К примеру, тот факт, что после гонок нет никаких празднеств, нет сборищ, на которых люди бы могли поесть, выпить и потравить байки. На самом деле Марлен с куда большей готовностью адаптировалась бы к рыцарской эпохе автоспорта, когда определенные человеческие качества считались такими же важными, как быстрый круг на трассе. В ее глазах наше раздраженное, неестественно рьяное отношение к делу выглядит убогим. Например, то, что, как только воскресная гонка заканчивается, мы тут же отчаливаем, словно не можем вынести присутствия друг друга ни секунды дольше (зачастую так и бывает). Подобные поверхностные вещи – которые лично для меня настоящее благословение (нет ни трат времени попусту, ни сплетен, ни братания) – обращают на себя внимание Марлен. В итоге вы можете догадаться, как мало времени у нее остается на сами гонки, со всей свойственной им шумихой и массой возможностей стать инвалидом на всю жизнь.
Лишь ее врожденная терпимость сделала возможным продолжение наших отношений в принципе: если я действительно считаю, что гонки – это то, что мне нужно от жизни, хорошо, значит, я должен заниматься ими и дальше. Таковы ее взгляды на индивидуальную свободу, даже в рамках брака.
Я всегда ставил себя на первое место в списке своих приоритетов и убеждал себя, что семейная жизнь – это одна сторона медали, а гонки – другая. Даже рождение сына ничего не изменило для меня в этом смысле. Тем не менее к середине сезона 1979 года гонки начали мне приедаться, и я начал переосмысливать ситуацию.
Чтобы воскресить хотя бы крошечную искорку прежнего эмоционального возбуждения, я решил, что буду требовать для себя абсурдно высокого гонорара, рекордной суммы по тем временам. Недавняя череда слабых результатов не причинила большого урона моему PR-потенциалу – все осознавали, что не я виноват в том, что двигатели Alfa не соответствуют уровню. Экклстоун по-прежнему очень рассчитывал на меня, а поскольку его конюшня уже подтвердила переход на моторы Cosworth, ему требовались мои ценные навыки в роли тест-пилота. Также я был очень желанной персоной для его главного спонсора, компании Parmalat.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?