Текст книги "Арена"
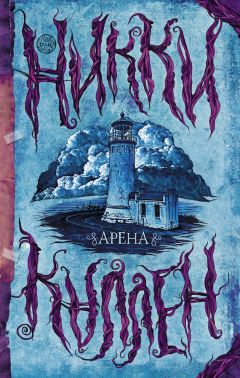
Автор книги: Никки Каллен
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Не, это Лепесток играет на басе, я просто пишу. Мама научила меня играть на пианино, оно у нас, правда, развалилось совсем, там кто-то цветы посадил из девчонок, – представляешь теперь мой дом? И научила нотной грамоте, и я просто пишу, как ты пишешь книги, а играть должен целый оркестр…
– У нас в библиотеке есть рояль, настоящий, Дюраны де Моранжа его из Вены привезли, на нем Ференц Лист играл, а ты сможешь сыграть?
– Когда? Я сейчас поем, и ты меня выгонишь.
– Куда? Под снег? Я без сердца, что ли, по-твоему, средневековый злобный феодал?
А разве нет? Не бывало еще такого, чтобы Дюран де Моранжа дружил с парнем из народа.
– Ты устал, расстроен и бредишь, я тебе сейчас постелю в спальне, что рядом с моей, – махнул рукой Макс. – Когда твои родители будут тебя искать?
– Не раньше послезавтра, когда со школы позвонят и спросят, почему я прогуливаю. А, не позвонят, у нас телефон не работает: провод кто-то из младших перекусил кусачками, играли в испанских партизан.
– Ладно, зайдем завтра по дороге из школы к тебе, отпросим тебя ко мне пожить.
– Макс, ты что, зачем?
– Не хочешь, не живи. Я думал, ты хочешь – посмотреть, что в замке на вершине горы.
– Я хочу, но…
– Привидений испугался? Сплетен теток в очереди к кассе в супермаркете?
– Нет, тебя. Ты вдруг живой, настоящий, простой и разговариваешь. Я думал, к тебе надо будет лет десять подкрадываться, стараясь не шуршать…
– Я просто одинокий, маленький, единственный в роду Дюран де Моранжа; а тут – вдруг мы друзья?
– Не хватает еще слова «старый», – они с Максом засмеялись, тронутые честностью друг друга; потом пошли с канделябром в спальню, соседнюю с Максовой, «ничего себе «соседняя», топать почти километр», – сказал Снег; они шли сначала по винтовой, как в маяках или библиотеках, узкой лестнице, свет от свечей отражался в зрачках и на стенах, холодных, каменных, отполированных, Снег боялся коснуться их плечом, боялся, что они совсем холодные, изо льда, что все это – дом Снежной королевы, и, словно прочитав его мысли, откуда-то сверху налетел ветер и задул обе свечи. Снег не закричал, но охнул и схватил Макса за теплую маленькую руку, словно девчачью в кино, на страшном месте; Макс удивился, но промолчал, руки не отнял, даже сжал ободряюще, и они стояли так минут пять, слушая дыхание друг друга и ветер за каменными стенами башни, ощущая пространство – высоту, эхо, тишину, будто стояли у моря и вглядывались в даль, а башня росла и росла, и кружилась вокруг них, до самых небес, и скоро стала такой огромной, что с ее высоты можно было смотреть, как строятся города; а потом Макс вывел их в коридор, широкий, как аллея в главном парке города, ночной свет шел сквозь витраж: ангел на коленях, меч вонзил в землю, над ними летит голубь с розой в клюве, – и свет этот, лунный, снежный, был таким ярким, разноцветным, словно в театре, ложился на их молодые лица, менял их, как маски, как грим, у Снега аж глаза заболели от такой красоты. «Лабиринт, – повторил Снег, – я заблужусь»; «ты быстро привыкнешь», – ответил Макс, открыл дверь комнаты: в ней было тихо и пыльно, над кроватью – балдахин, бахрома и кисти, будто огромная паутина, на ночном столике – ваза для фруктов и ночник, Макс включил его; «так здесь есть электричество?» «местами»; ночник был классический, венский: белая пузатая фарфоровая ножка и бумажный оранжево-розовый шуршащий абажур – вещь, которая превращает в дом любое пристанище. Из шкафа Макс достал постель: огромную шелковую простынь с кружевами, три таких же подушки, розовое стеганое одеяло; «не замерзнешь?» «не знаю» «я разожгу камин» «о, научи». Возле беломраморного – словно алтарь в огромной церкви посреди города, на главной площади, площади Звезды, – камина лежало несколько десятков поленьев, они пахли смолой, «Рождеством», – сказал Снег, огляделся; комната могла принадлежать девчонке: белый, с розами ковер, ворс мягкий и пушистый, как персидский котенок, и почти по щиколотку, ходишь, как по сугробам; на окнах белые и розовые атласные шторы, такой же балдахин; на стенах – искусные фотографии кукол со всего мира. «Это комната мамы, бывшая, – коротко ответил Макс. – Единственная, где я еще хоть иногда прибираюсь, не в память, а просто потому, что она не похожа на весь остальной замок…» Потом Снег найдет в шкафу платья, маленькие, тонкие, длинные, безучастные, будто только-только из магазина, никто их не носил, не крутился в них перед большим зеркалом, а из ящика ночного столика вытащит старую-старую пудру, перчатки – вечерние, длинные, белые, веер к ним – белый, с тонким китайским рисунком, тростник на ветру, пасмурное небо, розовая птица, и несколько книг: «Корабль дураков» Грегори Норминтона и «Парфюмер» Патрика Зюскинда, в покетбук, и дневники архитектора, построившего католическую церковь неподалеку от их городка, в которую ходит Макс, и маленький старинный молитвенник; разложит все на кровати, подумает, но никаких выводов не сделает: вещи слишком случайны, чтобы описать или придумать человека; словно из гостиничного номера. Мебель в комнате резная, из розового дерева, позолота, купидончики; у окна кушетка, возле камина, кроме поленьев, низкие, почти кукольные креслица, все обито этим бело-розовым, переливающимся, роскошным атласом. «Ничего, что такая комната? – спросил Макс. – Это типа стиль рококо»; похоже на домик Барби; «Ничего, – сказал Снег, – вот только моя комната величиной ровно со здешнюю кровать»; «Кстати, – сказал на прощание Макс, – привидения здесь, в замке, все-таки есть, но ты их не бойся; если хочешь, спи со светом, главное, правда, ничего не бойся, это страх порождает привидений и предрассудки»; и ушел; Снег лег в эту снежно-розовую постель, посмотрел в балдахин: брякнется сейчас какой-нибудь паук, но никто не брякнулся, только шуршали за окном деревья и потрескивали поленья в камине. Здорово – подумал Снег; невероятно, Макс живет здесь почти один – не считая загадочной бабушки, которая никак не представлялась Снегу; это тебе не мечты об острове типа, вот разбогатею, и куплю себе остров, и буду там жить совсем один, бродить по пляжу, есть устриц; все равно на этом острове появятся друзья, блондинки и кабельное… Никто не представляет себе такого одиночества и уединения, какое есть в этом замке, – жить по-настоящему независимо от времени, телевидения, от будущего, от любви… Наверное, рассказы Макса просто гениальны…
«Падал снег. Был канун Рождества, ночь, и падал снег. Кружился в небе, отливал матово, жемчугом, а ложась на землю, сверкал, законченным, точный, ограненный, словно бриллиант. Не было на земле ничего прекраснее его. Несмотря на снег, было холодно, зима выдалась в тот год суровая, как старая женщина, и сестра Лукреция, молодая монахиня, шагала как можно быстрее, путаясь в складках своего черного платья, никак не могла привыкнуть, что оно длинное и тяжелое – и ничего не поделаешь с этим: не укоротишь, не сошьешь новое, из шелка, из ситца. Вдруг – все отличные истории начинаются с «вдруг», не будем нарушать традицию, – вдруг налетел из-за угла церкви, к которой бежала сестра Лукреция, ветер, страшный, черный, и снег в нем был как осколки зеркала; сестра Лукреция ослепла на мгновение, потом увидела черноту, плотную, почти осязаемую, и в ней – огромную луну, которая упала на город. «Беда, – подумала сестра Лукреция, – дурное знамение», и тут же кто-то громко закричал, будто родился на свет; девушка перекрестилась, и наваждение с ветром полетели дальше. Часы стали бить полночь, и оказалось – все на месте, никаких сказок Гофмана: снег уже весь лег на землю, в небо вышла из-за тучи луна, посеребрила, точно пейзажист, старинный город; а на ступенях церкви, пустых до головокружения, сестра Лукреция увидела мальчика: он, полностью засыпанный снегом, то ли спал, то ли умер, свернувшись неудобно, будто сломанный. Монахиня подбежала к нему, начала тормошить, греть маленькие руки, щупать пульс. Мальчик открыл глаза. «Кто вы?» – прошептал он бледными губами; он был в каких-то обрывках, не в одежде; а в его глазах, огромных, бездонно-черно-синих, сестра Лукреция увидела пустоту, поглотившую звезды.
– Как тебя зовут? – спросила она.
– Дэнми, – ответил мальчик; а больше он ничего не помнил. На вид ему было лет тринадцать. Монахиня взяла его за холодную бледную руку и привела в монастырский приют для детей. Мальчика сначала отогрели: закутали в плед, посадили у камина – это был хороший приют, вовсе не Хег и не Диккенс, – дали большую чашку горячего куриного бульона; мальчик оттаивал, пил и благодарил; потом нагрели воды и помыли. Он оказался прекрасен; «Ангел», – зашептались сестры. У него были золотые волосы, которые напомнили всем о лете, белая нежная кожа, как самый дорогой шелк, розовые, как ранние персики, губы и невероятные, поражающие самое сердце, кровь, бездонно-черно-синие глаза.
– Кто ты такой? – спрашивали его другие дети.
Он молчал или отвечал:
– Не знаю.
Самый сильный и старший из мальчиков в приюте, Эргино, попробовал его обидеть, но Дэнми схватил его занесенную для удара руку, секунда – и Эргино закричал от боли, опустил ее, пораженный, рука повисла, как плеть, оказалось, что парализована, и шевелить ею Эргино не мог целую неделю. «Ангел», – летело в стенах приюта и монастыря, и сестра Лукреция вновь и вновь повторяла историю о сверкающем снеге, затмении и лестнице.
В белом феврале был большой праздник: монастырь посетил епископ. Поздним вечером епископ молился в украшенной и пустой церкви – он не любил, когда его беспокоили; об этом все знали, кроме Дэнми, а может, он тоже знал, да только никто его не разгадает; он вошел в церковь так же тихо-тихо, как и думал. Огоньки сотен свечей отразились в его удивительных глазах, как в воде. Он постоял немного возле двери, возле чаши со святой водой, а потом поднял лицо к своду, расписанному ангелами и звездами, и запел. Его поразил детский церковный хор сегодня утром на праздничной службе, и он решил проверить: а что может его голос. Голос словно сам знал все слова и ноты – взлетел к высоте, будто только и ждал, когда же его выпустят на волю из этого совершенного горла, отозвался ясным, как чистое стекло, эхом и пошел выше – сквозь шпиль и крышу, к самым черным небесам, словно надеясь отыскать там дом. Голос был сладок и тонок, он пел песню – о чем? На странном языке – об одиночестве, холоде и звездах, межгалактических пространствах. Епископ забыл о молитвах, четки тихо стукнули о каменные плиты, невероятной силы тоска вошла в его сердце. Он слушал тоненький голосок, доводящий своей красотой до отчаяния – от несбывшегося; а потом мальчик умолк, и епископ со слезами нашел его в церкви и обнял, прошептал: «Ангел…», хотя понял, что боль поселилась в его сердце навсегда, а это плохо, что грех.
С тех пор Дэнми стал славой церковного хора, послушать его приходили сотни, тысячи людей; они стояли, и слушали, и плакали, ибо голос отбирал у них последнюю надежду, а взамен вселял тоску, которой они не понимали, беспокойство, чувство одиночества, обреченности, страх за свою душу; но столь он был сладок и нежен, что уйти тоже не хватало сил.
А потом пришел март, наступила весна. Побежали ручьи, прилетели птицы, появилась зеленая трава, такая яркая, что почти резала глаз, и солнце – слепило всем глаза, играло с губами и волосами, говоря всем, что они молоды. Дэнми носился со всей оравой мальчишек, волосы его сверкали так, что по всему кварталу разлетались солнечные зайчики, как от разбитого зеркала; он смотрел на весну такими огромными глазами, будто хотел поглотить ее – выпить всю, как жаждущий – бокал воды, но даже всей весны не хватило бы согреть пустоту и звездный мрак его глаз. Однажды он прибежал к сестре Лукреции с первым одуванчиком в руках.
– Что это? – крикнул он в сумрак церкви, в котором сестра Лукреция поправляла свечи и убирала натекший воск. Она увидела его, улыбнулась, вытерла руки, взяла одуванчик и вышла с ним на свет.
– Цветок, – ответила, – одуванчик. Цветок солнца. Неужели ты их никогда не видел?
– Нет, – ответил Дэнми и задумался, сдвинув тонкие черные брови, будто она не про одуванчик сказала, а про судьбы человечества. Ей не понравилась эта складка между бровей, взрослая, усталая, она игриво коснулась одуванчиком его носа. Дэнми чихнул. Монахиня засмеялась.
– Смотри, Дэнми, – сказала она, – у тебя пыльца на носу. Ты влюблен.
В апреле отец Спинелло, глава прихода и приюта, подобрал на рынке маленькую девочку-нищенку, она воровала фрукты, привел ее, упирающуюся, орущую, в приют. Девочку назвали Анной. Сначала она все порывалась убежать, а потом всеобщее обожание примирило ее с приютом. У нее не было никого и ничего, кроме самых голубых и больших на свете глаз и дивного смеха. Когда она смеялась, мир будто трещал, звенел по швам и взрывался смехом сам. А засмеяться ей ничего не стоило. Все мальчишки в приюте были в нее влюблены, не отходили от нее ни на шаг, только Дэнми держался в стороне. Дэнми мог смеяться, смех его был серебром чистой пробы, словно заводили новую музыкальную шкатулку; люди оглядывались, улыбались восторженно на этот смех; но когда смеялась Анна, Дэнми кривил губы и убегал, зажав уши, словно что-то болело у него внутри от ее простого девчачьего смеха, несовершенного, но искреннего, как поделки из дерева. Еще Анна всегда улыбалась – сияюще и ало, и вы будто попадали в цветущий сад. А вот улыбки Дэнми никто никогда не видел.
Анна полюбила Дэнми; когда он пел, она плакала, стоя на коленях; когда он подходил, она умолкала и стихала, словно кто-то гасил в комнате свет; она поняла, что ее смех чем-то неприятен этому странному мальчику, но сдержать улыбки, сияющей и алой, в которой заключалось все ее сердце, не умела. А Дэнми ненавидел ее улыбку и однажды ударил Анну по лицу. На него кинулись все мальчишки, забыв про свой страх перед «ангелом», но их остановил отец Спинелло: «ну-ка, не сметь все на одного», и Анна, вскочив с земли, загородила Дэнми, хрупкая, как стебелек.
– Не трогайте его, не трогайте! – кричала она, размазывая по лицу грязь и кровь.
Дэнми оттолкнул девочку и отца Спинелло, шагнул в толпу – кто тронет, но толпа мальчишек расступилась перед ним. Он плюнул и ушел в улицы.
– Гордец, – прошептал отец Спинелло.
– Дьявол, – кинул кто-то Дэнми в спину из мальчишек…
Была глубокая ночь, когда маленькая Анна проснулась в своей маленькой постели; она спала в комнате с одной молоденькой монахиней, сестрой Лючией, которая называла ее сестренкой, заплетала косички по утрам, на ночь рассказывала кровавые истории про святых, как сказки. В высокое окно смотрела полная луна, такая огромная, будто что-то случилось в космосе и она вот-вот упадет на Землю. Какой-то далекий голос звал девочку, сладкий, манящий, ласковый: «Анна, Анна», – словно покойная мама или будущий возлюбленный. Девочка слезла с кровати на пол, не почувствовав его холода. Очарованная, словно дудочкой, она шла на голос. Голос, лунный свет и тихий смех, шепот, шорохи привели ее по длинным галереям старинного здания, в котором расположился приют, по земле и каменным плитам в церковь. Она поднялась по ступенькам, вошла в сияющий свечами зал.
– Кто здесь? – прошептала, проснулась, поняла, что озябла, что босая, полуголая; где она?
Из темноты колонн появился Дэнми, схватил Анну за тело, зажал рог теплой, пахнущей неведомыми травами ладонью. Ей в ухо он прошептал ее судьбу, и она увидела его улыбку – красивую, красную, похотливую, страшную, упала во мрак его бездонно-черно-синих глаз и разбилась…
Сестра Лючия проснулась, будто от крика. Келья была вся в луне – как затопленная. Но никто не кричал. Девушка поднялась на кровати, увидела, что постель Анны пуста. Ею овладел ужас, необъяснимый, как вещие сны. Она оделась, зажгла лампу, постучалась к настоятельнице. Обе отправились искать девочку – два призрака в белых ночных одеяниях; пришло раннее утро, и на ногах и в поисках пребывали уже весь приют и монастырь. Разыскал Анну Эргино: дико закричал, в панике налетел на отца Спинелло, запутался в складках его сутаны, на испуганные вопросы только указал пальцем в сторону. За кустами шиповника и клочьями тумана, в канаве, в грязи лежала Анна, маленькая девочка. Она была мертва, в крови и без одежды.
Анну похоронили на старинном монастырском кладбище. Пошел первый в году дождь – теплый, ласковый, вечерний ливень. Дети бегали по лужам, смеялись и брызгались, забыв про печаль, дети вообще легко забывают грустное; перед сном монахиням пришлось всех помыть горячей водой и переодеть в сухое, перестирать и повесить сушить то, что промокло. Сестра Лукреция, выйдя на галерею повесить очередную корзину белья, услышала, как на другом ее конце поет Дэнми. Шум дождя был как оркестр – подыгрывал импровизацией его дивному голосу.
– Как чудесно, – сказала она, прижала руку к сердцу, молодому, бьющемуся, словно от любви. Отец Спинелло, стоявший рядом, у перил, задумчиво смотрел на дождь, качал головой. Ему не нравился Дэнми.
Дождь шел всю ночь. К утру он закончился, и утро было ясным, солнечным, с безумно голубым небом над городом – словно кто-то отдал в приступе щедрости все свои краски – на раз, весь жизненный запас. Дети сажали цветы в саду, рыхлили землю. Сестра Лукреция нашла среди них по блеску волос Дэнми и увидела, что он выкапывает слепых дождевых червей и давит их каблуками.
– Зачем ты это делаешь, Дэнми?! – воскликнула она, всплеснула руками, расстроилась на весь день. – Они же живые, как и ты…
Дэнми промолчал, а через полчаса принес ей на галерею, где она шила, горсть червей. «Да, Дэнми?» – кинул на колени. Сестра Лукреция завизжала.
– Вы же их любите, – сказал Дэнми…
В мае, когда на небо высыпала тысяча звезд – и по ночам они сверкали так ярко, что в кабаках пели песню о том, что это души погибших моряков, и не надо было свечей, – в город пришли цыгане. Они разбили свои шатры на одной из площадей, вокруг фонтана, но городские власти с площади их выгнали, и те устроились недалеко за городом, так, что слышны с городских стен их гортанные разговоры, и все беспризорные и не очень мальчишки дневали и ночевали там, в таборе. Из приютских осмелились пойти к цыганам только Эргино и Дэнми. Молодая цыганка, в цветастых юбках и в ожерелье из золотых монет, схватила Эргино за руку: «тебе погадать, мальчик мой?»
– Попробуй! – крикнул Эргино в шуме и песнях.
Цыганка раскрыла его ладонь, провела по ней длинным красным ногтем и нахмурилась.
– Ты скоро умрешь, – сказала она.
Эргино выхватил руку и не поверил. Цыганка повернулась к Дэнми и ахнула.
– Какой красавчик! – воскликнула. – Посмотрите все: какой красавчик!
Она обхватила его лицо смуглыми руками, словно пыталась прочесть его судьбу по линиям губ и лба, цыгане окружили их и тоже шумно завосхищались мальчиком.
– Ну-ка, а что у тебя на руке? – цыганка взглянула и долго-долго молчала, вглядываясь. – Я ничего не вижу, кроме звезд.
Эргино прибежал в приют с криком, что Дэнми украли и увезли с собой цыгане. Ему никто не верил, но Дэнми не вернулся в приют ни в тот день, ни на следующий. Он вернулся только в середине лета, загорелый, в чужеземной одежде, с рассказами о других городах и чужой стране, с ним были ростки красных махровых роз, которых не было в цветнике монастыря. Их посадили, но они не расцвели, не прижились, погибли, ничего не выросло из того, к чему прикасался Дэнми.
Лето было прекрасным, чудесным, золотым. Дэнми и пара мальчишек несколько раз сбегали из приюта. Однажды он ушел с бродячим певцом и фокусником, потом они с Эргино жили в старинных развалинах за городом. На пропитание они зарабатывали милостыней, пением или просто воровали; купались в реке, лежали в траве, смотрели в небо и разговаривали. Эргино рассказал, что не знает своих родителей, что его подбросили монашкам в младенчестве: он лежал в большой корзине у ворот монастыря.
– Жалко, – говорил Эргино, – я бы так хотел иметь мать. Интересно, какая она? А ей сейчас жалко? Думает ли она обо мне, помнит? А ты откуда взялся?
Дэнми долго смотрел в синее небо, на бегущие, рвущиеся, как бумага, облака, солнечные лучи путались в его ресницах, будто мотыльки в паутине, и не попадали в глаза; он жевал травинку и молчал.
– Не знаю, – наконец сказал он, – я ничего не помню, совсем ничего…
– Монахини говорят, что ты упал с неба, – болтал Эргино, – а где ты так выучился петь? У меня всегда аж сердце разрывается, вот тут, – он клал руку на грудь, – слышишь, как стучит? А когда ты поешь, я думаю: где же моя мама? Почему она не слышит, как ты поешь. Тогда бы она сразу пожалела и пришла бы за мной…
Дэнми тоже клал руку на грудь, туда, куда показывал Эргино, но ничего не чувствовал: его сердце молчало.
К сбору плодов они вернулись в монастырский приют. У монастыря был роскошный яблочный сад, который славился на всю округу. Яблок созрело много: желтые, красные, разноцветные, сочные, спелые, они чуть не падали на головы, под яблонями небезопасно было ходить. Эргино и Дэнми собирали их в паре: вместе стояли на лестницах, вместе таскали корзины сестре Лукреции, своему счетоводу, и яблоки разрешалось есть.
– Давай я выберу яблоко тебе, а ты мне, – сказал Эргино после последней корзины в сезоне, – я, правда, яблок уже есть не могу, даже видеть, даже во сне, но такая традиция в паре…
Дэнми согласился и протянул Эргино огромное золотое яблоко, оно сияло, как лампа.
– Ого, – сказал Эргино, – будто в нем солнце за все лето. Такое я, пожалуй, даже сохраню – на зиму.
А для Дэнми Эргино выбрал красное яблоко, тоже огромное, на обе ладони, красное-красное, как рубин, безупречное, без полос, без пятен.
– Красивое, правда? Я его сразу как увидел, подумал, опа, как раз для Дэнми. Авось он порумянее от него станет.
Дэнми прижал яблоко к щеке. Эргино завороженно уставился на него. Они стояли под сенью яблонь, близился вечер, теплый, розовый, листва умиротворяюще шелестела над ними. Лицо Дэнми еле различалось в сумраке, тонкое, бледное, словно Дэнми отражался в зыбкой воде, а яблоко отбрасывало странный отблеск.
– Чудно, – сказал Эргино, – мне на секунду показалось, что ты улыбаешься.
Дэнми посмотрел на яблоко, и наваждение прекратилось, вздохнул: это было почти сотое яблоко за день, и вгрызся в сочную розовую мякоть.
Тихо наступила осень. Желтые листья с сухим шорохом покидали деревья, падали на землю и на ребячьи волосы. Пошли дожди. Как-то ночью Эргино проснулся, сам не понял отчего: в туалет не хотелось, никто не шумел. Только в комнате было холодно, словно наступила совсем зима, а нет ни дров, ни угля. На все окно висела луна. «О, – подумал Эргино, – завтра будет ясно» – и тут увидел сидящего на кровати Дэнми. Дэнми был одет, вроде как собрался уходить, но еще не время – и сидит, ждет, сгорбившись, низко опустив голову и закрыв глаза, что-то шепча; Эргино подумал: молится.
– Дэнми, – прошептал, позвал, стараясь не разбудить остальных, – ты чего?
Дэнми открыл глаза, увидел Эргино.
– Ты чего не спишь? – опять прошептал Эргино и умолк, охваченный ужасом, холодным, липким, особенным, который возникает, когда ты сталкиваешься со сверхъестественным. Ибо в глазах Дэнми висело по луне, которая сияла за его спиной; и еще Дэнми улыбался. Такой странной, страшной и красивой улыбки Эргино никогда не видел и понял, что Дэнми – существо из ада. Эргино оцепенел, точно замерз. Дэнми же, продолжая улыбаться, наклонился и поцеловал Эргино в губы, Эргино пронзила боль, будто в самое сердце, сплетение нервов, а потом их ослепила светом своим луна, и Эргино познал тьму страстей человеческих.
Весь следующий день Эргино убегал от Дэнми. Казалось, воздуха ему не хватало. Дэнми не отводил от него за завтраком и обедом взгляда, а Эргино смотрел в тарелку и сглатывал ужас, не мог ничего есть.
После обеда Дэнми поймал Эргино за руку в толпе детей:
– Почему ты не разговариваешь со мной?
Эргино рванул руку, словно она была не его, не живой, отлетела бы, и не жалко, убежал на галерею, полную колонн и желтых листьев. Сел там на холодные высокие перила и зажмурился. День был мрачным, серым, тяжелым, от таких болит голова и хочется спать, больше ничего, ну и проигрываются битвы и состояния. По каменным плитам звонко, хитро застучали каблуки. Эргино понял: сам дьявол пришел за ним.
– Не сиди на перилах, – сказал за спиной Дэнми, – упадешь.
– Я летать умею, – огрызнулся Эргино, сжал кулаки, заплакал от напряжения. Дэнми молчал, стоял в тени. Эргино слышал его дыхание, сладкое, будто он только что ел малину. Ветер закружил между колоннами листья.
– То, что мы сделали, – это… неправильно, – выдавил Эргино, сжал голову руками, зарыдал, – это грех… Мы будем гореть за это в аду.
– В аду? – переспросил Дэнми. – В аду? – и засмеялся, разбил что-то дорогое, хрустальное. – Ты боишься ада? Огня, – взмахнул руками, – этих, как там, серных озер?
– Да, – сказал Эргино, – боюсь.
Он весь дрожал. Дэнми неслышно, куда делись его каблуки, подкрался к нему, приблизился, обнял, погладил по голове совершенно по-матерински.
– Не бойся, – сказал он, – ничего нам за это не будет. Кто ж об этом узнает?
Эргино закричал, оттолкнул его, ударил, начал отряхивать истерично одежду от его прикосновений, отпечатков.
– Не трогай, не прикасайся! Ты омерзителен! Ты дьявол!
Дэнми засмеялся опять, смех его пронзил Эргино, как стрелы святого Себастьяна, он зажал уши ладонями.
– Не смей смеяться!
Дэнми умолк, поднял руки вверх, сдаваясь.
– Сегодня вечером… я иду на исповедь, я попросил… отца Спинелло, он мудрый человек, он все решит, – сказал Эргино.
Дэнми побледнел. Эргино, испуганный его молчанием, раскатами грома вдалеке, обернулся. На лице Дэнми змеилась та самая улыбка, странная, демоническая, губы его были красными, как размазанная кровь.
– Ты… ты улыбаешься, – запинаясь, произнес Эргино, он стал забывать слова, стал забывать, как его зовут, своих друзей, все лучшее в своей жизни. Потом ему стало холодно, аж зубы застучали.
– Ты никому не расскажешь, – прошептал призрак в тени колонн.
– Не… не подходи ко мне, – ангел и демон боролись сейчас за душу Эргино, а сам Эргино попытался спасти себя, уцепился за перила, за которыми разверзлась бездна.
– А мне и не надо, – прошептал Дэнми, вытянул руки вперед, из ладоней его вырвалась тьма и ударила крыльями Эргино в лицо, закричала, завизжала в уши, и мальчик упал с перил, но успел схватиться за один из прутьев решетки.
– Дэнми! – крикнул он, как будто ничего не случилось, несчастный случай, друзья лучшие. – Помоги!
Дэнми оперся на перила и посмотрел на Эргино сверху.
– Дай руку, Дэнми, я упаду. Я не умею летать, я пошутил. Пожалуйста, я никому не скажу. Дэнми, просто помоги.
Пот тек по лицу Эргино, глаза защипало.
– Тварь, – сказал Дэнми сверху и ударил его по пальцам пребольно, – до встречи в аду.
Эргино упал без крика. Ударила молния, отразилась в глазах Дэнми, началась гроза. Дэнми спустился по лестнице к разбитому телу и замер. Забормотал и заплакал, слезы текли тяжело, будто свинцовые, прожигали щеки; он никак не мог понять, что же такое горячее струится по щекам, что за кислота, поднял голову к бушующему небу и закричал так дико, что казалось, лопнет вена. Хлынул ливень. Дэнми схватился за горло, упал на колени в грязь, схватил Эргино, затряс, пытаясь оживить. На крик прибежала сестра Лукреция. Она увидела мокрого и рыдающего Дэнми.
– Что случилось. Дэнми? Что ты делаешь? – и тоже закричала. Прибежали отец Спинелло и дети, они столпились, тихо-тихо так, и в грозе их молчание звучало как гром. Дэнми вскочил с колен.
– Я ничего не сделал! – дождь струился по его красивому, само совершенство, само небо, лицу. – Я ничего не сделал! Он сам упал! Он сам упал! Я не успел его поймать, я только увидел!
Сестра Лукреция обхватила его мокрую голову, прижала к груди и заплакала. Она одна поверила Дэнми. Когда лицо Эргино отмыли от крови и грязи, оно оказалось спокойным, безмятежным, будто Эргино умер во сне. Похоронили его тихо, в каплях серого дождя. По утрам капли застывали в льдинки – приближались холода. Дети заболевали: кашляли, чихали, жаловались на жар, один маленький мальчик умер от воспаления легких. Дэнми никогда не болел; он смотрел в окно – дождь отражался в его глазах, как в зеркале, словно тек сразу в двух мирах, – или помогал монахиням ухаживать за больными. Однажды сестра Лукреция вошла в комнату с отваром трав и увидела, что Дэнми стоит на коленях на холодном полу, держит за руку умершего мальчика. Отвар не понадобился; она поставила чашу на пол.
– Дэнми, – сказала она, – почему ты не позвал отца Спинелло?
– Зачем, он был безгрешен, – ответил Дэнми тихо, смотрел на нее и не видел, будто нечто ослепительное прожгло ему сетчатку на время. Потом он встал и беззвучно вышел.
Наступила осень. Дул холодный ветер и закручивал женские юбки. Краснели и трескались губы и руки. Пришел декабрь, с ним – снегопады. Снег все падал и падал, покрыл всю землю, весь город. Люди не могли по утрам двери открыть – снег заваливал их до середины. Сестра Лукреция не помнила, чтобы было столько снега в городе. Высоко в горах разве где-нибудь… Приближалось Рождество; дни наполнились ожиданием, оживлением, чудом, нежностью. Дел невпроворот. Сестра Лукреция спохватилась, что забыла в церкви сборник средневековых рождественских гимнов, они хотели повторить несколько с ребятами из хора, оделась потеплее и вышла на улицу. Был мягкий, как атлас, мороз, горели фонари, снег под ногами – точно перья, и пахло елью, праздником и звездами. Полную луну то закрывали, то открывали тучи, и небо походило на серебряное море. Возле церкви, на площади, бегали и играли в снежки дети, несколько приютских мальчишек. Сестра Лукреция поднималась по ступенькам, когда один снежок попал в нее, рассыпался, прошелестел по черному платью. Она засмеялась и начала уворачиваться. По смеху узнала Дэнми – а вот и его сияющие глаза перед ней.
– Сестра Лукреция, приветствую, – произнес он так, что у монахини забилось сердце, будто и ему, и ей семнадцать лет. – Вы в церковь?
Когда он заговорил, с неба опять пошел снег, сначала несколько снежинок, они упали на его теплые губы и тут же растаяли. Потом они опускались на его ресницы, волосы, застревали, мешали, он стряхивал их, а потом снег пошел так густо, что Дэнми наконец заметил его и поднял лицо к небу.
– О, снег, – сказал кто-то из детей, – опять снег. Снег на Рождество! – и закричал «ура». Сестра Лукреция улыбнулась, ответила Дэнми «да» и коснулась кончиками пальцев его щеки. Ровно год назад она нашла мальчика на этой лестнице, и так же падал бесконечно красивый снег. Дэнми словно прочитал ее мысли.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































