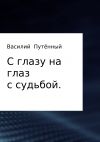Текст книги "Всё моё (сборник)"

Автор книги: Николай Александров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Какой-то Гоголь получается
Если уныние – это грех, то юмор если и не безусловная добродетель, то все-таки показатель душевного здоровья. Ну, действительно, коли больной шутит, а не лежит в отчаяньи и тоске – все-таки легче. Если не ему самому, то окружающим. Значит, не все так плохо, то есть, может быть, и «ужас», но не «ужас-ужас», по известному анекдоту. Значит, есть надежда, и можно хотя бы перевести дух, улыбнуться. Ну вот, глядишь, и «настроение улучшилось»…
Причем улучшилось без видимых на то причин. Юмор, может быть, и лекарство от скуки, но, конечно же, не панацея. Окружающий мир он не меняет. Кризис не прогоняет и здоровья на самом деле не прибавляет. То есть все то же самое, та же обстановка вокруг, те же дома и люди, пораженные гриппом, или, как сейчас говорят, вирусом, та же серая погода и тот же реагент «Антиснег», все превращающий в грязную слякоть, хлюпает под ногами. Но некоторое время все это как-то не действует. Или действует, но не так. Более того, почему-то существует мнение, что юмор как-то связан с неблагополучием. И, кажется, логично. Если юмор – это естественная реакция на окружающий идиотизм, социальную патологию и всякую патологию вообще, то вполне резонно предположить, чем всей этой патологии больше, тем комфортнее чувствует себя юмор. Тем больше поводов для смеха. Правда, если возвести эту ситуацию в абсолют, она будет сильно напоминать сумасшедший дом. А у сумасшедшего дома, как нам известно, по крайней мере, со времен Гоголя, с юмором особые отношения. То есть он легко может существовать безо всякого юмора вообще.
Диалектика, в общем. С одной стороны, излишняя серьезность, как правило, подозрительна. То есть она внушает сомнения по поводу того, что ее следует всерьез воспринимать. А как только такие подозрения возникают, так сразу заявляет о себе смех. То есть смех, собственно, эти сомнения и выражает. Иногда кажется, что если бы люди вовремя рассмеялись, то многие великие глупости просто не воплотились бы, просто прекратились на уровне проекта, вроде знаменитого поворота рек с севера на юг. Ну, правда, если бы вместо того, чтобы петь песню «безумству храбрых», над ними спокойно и интеллигентно пошутили, разрушительная сила героического безумия была бы куда меньше и оно не воспринималось бы как безусловная доблесть.
Но, с другой стороны, и беспричинный смех является признаком известно чего. Готовность к постоянному веселью рождает не меньшие подозрения. Если все всё время смеются, даже человек с не слишком развитым чувством юмора начинает понимать – что-то не так. Не в порядке что-то. Вряд ли этих людей можно назвать здоровыми. Это уже не реакция на идиотизм, а, пожалуй, сам идиотизм и есть. И в безумном веселье, под крики и гиканье в жизнь воплощаются тоже не самые лучшие проекты.
Нет, все-таки ничего сверх меры. Может быть, так: посмеялся – подумал, посмотрел вокруг с серьезным вниманием – и снова посмеялся, чтобы не загрустить. Нет, тоже вроде нехорошо получается. То есть Гоголь какой-то. Все время какой-то Гоголь получается…
Шутки шутить и дураков дурачить
Серьезность как-то уже давно не в цене, и восстановить ценность, несмотря на все усилия, пока не удается. Все равно на нее смотрят с изрядной долей скептицизма. Человек, говорящий со значением, громко, в «суггестивной» манере, не столько воодушевляет и убеждает, сколько вызывает желание отойти в сторону. Ведь «девальвированная серьезность» – это не что иное, как фальшь, игра. Собственно, степень этой игры обыкновенно и оценивается: удачно играет или нет, полностью выкладывается или, напротив, к роли относится спустя рукава.
Ирония, усмешка, пародия не просто защита от излишней серьезности, это едва ли не единственно возможный для нее контекст. Рядом с королем должен находиться шут или хотя бы юродивый. Помимо постных дней должно быть место и карнавалу. Как только перестают смеяться, начинают рассказывать анекдоты шепотом, оглядываться по сторонам, значит, дело плохо, значит, игра зашла слишком далеко, значит, смех из союзника, из необходимого оппонента превратился во врага. Значит, серьезные люди настолько посерьезнели, что не желают мириться с пародией на себя.
В общем, это все понятно. Однако и со смехом дело обстоит не так уж просто. Трудно объяснить, что такое смешно, и невозможно растолковать, почему смешно. Отсутствие чувства юмора – болезнь неизлечимая, хотя страдающий этим недугом больной и может быть ужасно смешон.
Глупость не знает чувства юмора, но, собственно, поэтому и смешна. Можно сказать и так, недостаток чувства юмора – одно из свойств глупости. Или ограниченности. Равно как и самоирония – один из показателей ума.
Слово «дурак», как известно, может выступать как синоним слова «шут». Но между тем и разница между двумя этими понятиями весьма существенна. Шут – это пародия на дурака, или игра в дурака. Это лицедейство, маска. То есть шут это не настоящий дурак. А вот дурак – настоящий, это не роль, не игра. Это приговор, ирония судьбы, странная усмешка природы. Дурак не играет, он просто живет дураком, и этого не замечает.
Изображать, представлять дурака (во всех его многочисленных видах) – излюбленное занятие юмористического искусства. И поскольку в жизни всегда есть место глупости, это занятие сводится к пародии. Жизнь дает сырой материал, юморист занимается огранкой, то есть пародированием. Беда в том, что многие глупость начинают изобретать, выдумывать, утрировать, до нелепости доводить уже сам жизненный идиотизм, делать его идиотизмом в квадрате. И тогда смех получается нарочитым, искусственным, а попросту говоря, дурацким. Как будто авторы решают задачу рассмешить уже самого дурака, то есть сделать глупость настолько очевидной, что она будет глупостью и для последнего болвана. И это нехорошо, потому что сами авторы-юмористы на публику смотрят как на сборище идиотов, не уважают ее, относятся к ней с презрением.
В степени презрения все и дело. Действительно, одно дело шутки шутить, а другое – дураков дурачить. Ведь юмор легко может превратиться в откровенное издевательство в прямом, то есть плохом смысле этого слова. А вот тонкая пародия в публике видит соратников, и здесь скорее уж автор будет умалять себя, нежели демонстрировать свое пренебрежение аудитории.
Смех – дело деликатное
Смех, как известно, смеху рознь. Смехи бывают разные. Скажем, гомерический хохот – это одно, а ироничная ухмылка или ехидное хихиканье – совсем другое. Смех может быть идиотским, то есть может внушать отвращение. А то бывает еще добрая или ласковая улыбка – и это уже совершенно иная статья. Распространенная банальность, что смех якобы продлевает жизнь, на самом деле очевидная глупость. Совсем необязательно смех полезен для здоровья и вовсе не всегда свидетельствует о радости и сулит добро. Смех может превращаться в истерический, болезненный спазм (когда, например, какие-нибудь кикиморы возьмутся кого-нибудь щекотать до икоты). И если в художественном произведении персонаж «зловеще рассмеялся», то это говорит не о его хорошем настроении, а, наоборот, о степени раздражения. Здесь смех – угроза, устрашение. Смеющаяся физиономия легко становится жуткой мордой, равно как и карнавал порой неотличимо близко подходит к оргии. А оргия, в общем, вещь отнюдь не смешная.
Недаром христианство к смеху относилось подозрительно (разумеется, и смех христианству платит той же монетой). Смех – от лукавого (и в значении слов «лукавый», «лукавство» очевидна смеховая составляющая). Христианину в принципе смеяться не пристало, и не зря славный протопоп Аввакум с побоями прогнал скоморохов, защищая свою паству от бесовских песен и балаганных представлений. Нечего попусту балагурить и дурака валять.
Смех без труда переходит из одного качества в другое. Вот, скажем, сейчас, когда про какую-нибудь вещь говорят: «Смешная вещица» или про человека: «Он смешной» – в этом, как правило, заложен позитивный смысл. То есть вещица забавная и человек милый. А вот скажите: «Он смешон», и весь позитив тут же исчезнет, даже обратиться в свою прямую противоположность.
Бывает смех невинный, трогательный, с оттенком умиления и грусти. И если приводить примеры, то почему-то вспоминаются детские сказки: Туве Янсон, Астрид Линдгрен, Кэрролл, Вудхаус или Честертон. Всякий хаос, беспорядок, путаница, которые вообще смеху свойственны, здесь безобидны. Здесь нет унижения, насмешки, поскольку в этом мире все немножко чудаки и смех в равной степени разделен между всеми и относится ко всем. Смех противостоит излишней сентиментальности, слащавости, за которыми следуют скука, уныние, вялость. А это уж точно зло. И для такого смеха (смеха из доброй сказки) нужен, конечно, удивительный, волшебный запас прочности. Иначе путаница превращается в зловещий абсурд, а волшебный мир – в царство мертвых. Как у Хармса.
У нас почему-то (за очень редким исключением) смех бывает или балаганным, грубым – и тогда, если эта балаганность не опирается на традицию, легко сваливается в пошлость, в нелепое кривлянье, – или социальным, тяготеющим к пародии, иронии, насмешке. В последнем случае его эстетическое достоинство несоизмеримо выше. Более того, этот смех может служить своего рода барометром общественного самосознания и состояния общества.
Все просто. Если, например, появляются новые анекдоты, если рассказывают анекдоты друг другу, значит, все не так страшно. А вот если новых анекдотов нет, то становится как-то неуютно. Наступает какая-то подозрительная тишина. Хорошо, если остается место для пародий и капустников, то есть допускается хоть какое-то отстранение, сомнение, скептицизм…
Ведь гораздо легче развлекать публику балаганом, незатейливыми шоу. Пошлость удобна. Она и есть тот самый хлеб и те самые зрелища, которые обеспечивают стабильность. Она все равно многих позабавит и отвлечет, а социальная значимость ее нулевая. Другое дело, что пошлость развращает, одурманивает, а это не проходит даром. Нельзя прививать дурной вкус обществу. Нельзя дурной вкус класть в основу рейтингов или рейтингами оправдывать дурновкусие. Ведь и смех дело деликатное. Не зря же смеховая культура связана еще и с такими замечательными понятиями, как остроумие и острословие. Острое слово и ловко выраженная мысль, конечно же, не всегда вызывают смех, то есть не всегда расцениваются как шутка. Но и остроумие, и острословие подразумевают эстетическое изящество, безусловный элемент художественности, облагораживающий смеховую стихию.
Оправдание по Добчинскому
Когда-то на бесконечных просторах нашей родины происходила всяческая жизнь, и жизнь эта была богата и обильна, хотя, по слову поэта, порядка на просторах не было. Одним из поэтов этого жизненного богатства и одновременно российского беспорядка был Николай Васильевич Гоголь. И вот что сегодня удивляет при чтении Николая Васильевича, пожалуй, более всего. Не сатирические портреты и образы удивляют, не Собакевич или Ноздрев, не Хлестаков и не Чичиков. Потому что по степени жлобства современный Собакевич – какой-нибудь бывший вохровец на покое с участком в 15 соток в ближнем Подмосковье, любитель бани и русских песен – на несколько порядков превосходит персонажа гоголевской поэмы. И Ноздревы сегодня есть похлеще, и скупщики мертвых душ нынешнего дня дадут сто очков вперед Павлу Ивановичу, и Хлестаковы нынче по лихости самозабвенного вранья не уступят гоголевскому герою. Всего этого вдоволь, и все это, равно как и грязь постоялых дворов, лужа в Миргороде, взяточничество, мздоимство, чиновный произвол, повсеместное и повседневное воровство не потрясает воображение. Не поражает беспощадностью гоголевская сатира.
Как раз напротив. Удивляют картины жизненного изобилия и богатства, щедрости жизненных сил. То есть то, что существует вопреки «запустению», человеческой скудости.
Удивляет то, что гоголевские характеры и типы, эти «прорехи на человечестве», эти ленивцы и обжоры – на самом деле симпатичные люди. Так кажется сейчас. Они искренни даже в своем вранье. Они наивные, сохраняющие в своей милой ущербности человечность. Все они в какой-то степени «старосветские помещики», может быть, и без великой цели несущие бремя земного существования, но все же и не превращающиеся в полные ничтожества. Все же почти у каждого из них есть надежда на оправдание своего земного бытия чем-нибудь высоким и значительным. Есть надежда на то, что, может быть, кто-нибудь при случае хотя бы скажет Государю Императору, объявит ему, что «есть, дескать, живет такой Добчинский». И уже один этот факт сделает жизнь более осмысленной.
Собственно, та же наивная гордость, та же мечта и надежда, то же «оправдание по Добчинскому» видны в желании связать свой город с гоголевскими персонажами. Оказывается, одной этой «литературной наследственности» достаточно. Достаточно для самодостаточности, для самоидентификации, для того, чтобы понять, кто я? и зачем я? в этом сером, скучном, вырождающемся мире, и чем я могу отличиться среди всеобщей безликости, и как ей могу противостоять. Где моя индивидуальная, характерологическая черта. И вот получается, что я не только убог, беден и смешон, но об этой моей убогости еще Гоголь писал, и тем самым если и не утвердил меня в моем праве, то, по крайней мере, сделал заметным. И история Хлестакова на самом деле – «моя история», «про меня». А это уже хоть какая-то значительность.
В свое время многие градоначальники восприняли «Ревизора» как личное оскорбление. Обиделись. Усмотрели в гоголевской комедии намеренное искажение жизни и указали автору на множество упущений, неточностей, ошибок.
Сегодня, наоборот, радуются совпадениям, хватаются за возможность причаститься гоголевскому слову, пусть даже насмешливому. И, может быть, поэтому становится так «по-гоголевски» грустно. «Скучно жить на этом свете, господа!»
ЯТЛ
Признаться в любви так же трудно, как в совершении греха. И как первое не означает еще любви, так и второе раскаяния. Собственно, об этом роман Достоевского «Преступление и наказание». О раскаянии и любви. Или о воскрешении и любви. От признания Раскольникова в преступлении до раскаяния проходит много времени. Только на каторге и далеко не сразу раскаяние подступает к нему. Вместе с любовью к Соне. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же наконец эта минута…». И дальше: «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого».
Удивительно, насколько торжественно сентиментален здесь Достоевский. Вот уж где, если воспользоваться словами Свидригайлова, «Шиллер говорит» в Федоре Михайловиче. Но что делать, если «минута» такая и окончательно проясняется, о чем вся эта история.
Слезы, испуг, счастье – все это свидетельства любви. Или истинного признания, когда тайное становится явным, когда тайные знаки чувства отрываются. Вот еще одно хрестоматийное признание, и здесь любовь прибегает к тайнописи.
«“Как же я останусь один без нее?” – с ужасом подумал он и взял мелок. – Постойте, – сказал он, садясь к столу. – Я давно хотел спросить у вас одну вещь.
Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.
– Пожалуйста, спросите.
– Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: “Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?” Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.
Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: “То ли это, что я думаю?”
– Я поняла, – сказала она, покраснев.
– Какое это слово? – сказал он, указывая на н, которым означалось слово никогда.
– Это слово значит никогда, – сказала она, – но это неправда!
Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о.
<…> Он взглянул на нее вопросительно, робко.
– Только тогда?
– Да, – отвечала ее улыбка.
– А т… А теперь? – спросил он.
– Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! – Она записала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: “Чтобы вы могли забыть и простить, что было”.
Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: “Мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас”.
Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.
– Я поняла, – шепотом сказала она.
Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила.
Он долго не мог понять того, что она записала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и записала ответ: “Да”».
Опыт Левина и Кити, между прочим, очень удобен в эпоху мобильных телефонов и СМС. Действительно, время экономится – можно писать лишь начальные буквы. Захватывающая игра, но чреватая недоразумениями. Потому что вместо «сияющих счастьем глаз», подсказывающих нужное прочтение, перед вами лишь светящийся экран мобильника. Кстати, что за три буквы написал Левин?
Аналог невинности
Василий Васильевич Розанов был, как известно, писателем скандальным. Остроумным, язвительным, тонким, проницательным, но скандальным. Скандальным во многих отношениях, но если оставлять в стороне специальные проблемы философско-религиозного характера, то едва ли не главной темой его творчества (равно как, впрочем, и важнейшим понятием в системе его мировоззрения) был пол. Сейчас бы, наверное, сказали «секс», но применительно к Розанову употребление этого слова кажется не слишком уместным из-за накопившихся со временем и отложившихся на нем смысловых коннотаций.
Никто до Розанова с такой откровенностью не говорил на темы пола. И розановская откровенность шокировала, вызывала возмущение и гнев. Его упрекали в скабрезности, нечистоте, сальности, чуть ли не порнографии.
А между тем в своих статьях и фельетонах, которые затем составлялись в книжки с прибавлением обширнейших выписок из частных писем, в своих «мимолетных» дневниковых заметках, которые уже в силу «дневниковости» имели как будто особенно интимный характер, Розанов был на удивление целомудрен. Целомудрие его объяснялось одной простой причиной – в своем отношении к полу Розанов был религиозен. А потому каким бы ни было сходство (похожесть, созвучие) рассуждений Розанова с психоаналитическими построениями – разница между ним и апологетами психоанализа весьма существенна. Розанов занимается не психологией, а онтологией. Пол для него – свят. Это средоточие сакральности, это и есть сама религия, если хотите. Без понимания, без осознания святости пола, по мнению Розанова, нельзя ничего объяснить, нельзя ничего понять – ни вопросов брака и семьи, эмансипации, проституции, ни проблем греха, веры и безверия.
Пол, по мнению Розанова, это не физиология. Иначе откуда (если все так просто) рождаются такие боли и страсти? Откуда берется представление о чистоте и невинности, с одной стороны, и тяга, влечение к ним, ощущение их безусловной ценности – с другой. Притягательна не нагота, а таинство наготы. Притягательна для всех. И зараженного грехом человека влечет не тело как таковое, но именно невинность и чистота. В нем пробуждается страсть к осквернению. И потому как раз, по этой самой причине изнасилование равно убийству. Насильник – убийца, совершающий святотатство.
Какое все это имеет отношение к нашему времени, когда не Розанов, а скорее «Бобок» Достоевского с выраженным в нем призывом «Заголимся и обнажимся» имеет актуальность. Кажется, что ни тело не свято, ни невинность, ни чистота. Разоблачение, обнажение – вещи обыкновенные, привычные, почти рутинные. То есть доступные.
Но ведь как только исчезает тайна, сокровенность, так теряется притягательность пола. И тогда неизбежно приходится двигаться или в сторону де Садовской патологии (что, в общем, тоже сегодня не удивляет), или придумывать «прикровенность», выискивать покровы, которые надлежит сорвать, устанавливать табу, с тем, чтобы их нарушить.
Собственно, сегодня в роли невинности, охраняющей чистоту, выступают знатность, популярность, богатство, жизнь звезд и кумиров, которые, с одной стороны, всегда на виду, а с другой стороны – недосягаемы. Чем более популярен, чем более привлекателен человек – тем сильнее страсть к его разоблачению. И актом насилия становится публикация интимных дневников, откровенных фотографий, видеозаписей. Манящая недоступность исчезает, и возникает иллюзия полной доступности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?