Текст книги "Лжецаревич"
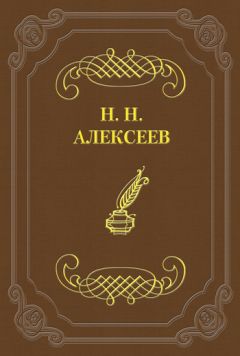
Автор книги: Николай Алексеев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
XVIII. Между двух огней
Со дня беседы в саду между Лизбетой и Павлом Степановичем, беседы, окончившейся так неожиданно, прошло около двух недель. За это время какой-то новый дух вселился в доме Влашемских: чувствовалась натянутость в обращении между членами семьи. Пани Юзефа дулась на мужа за то, что «еретик», как она называла боярина, до сих пор еще жил у них; отец Пий допекал бедного пана Самуила предреканиями всяких бед из-за пребывания в их доме того же «еретика». Пан Самуил, замечая косые взгляды жены или слыша ворчание патера, только разводил руками, пыхтел, краснел и смущенно мигал. Он сам не знал, чему приписать, что Белый-Туренин, так внезапно собравшийся уезжать, теперь, кажется, оставил всякую мысль об отъезде.
Влашемский пробовал намекать, заговаривал о Кракове – Павел Степанович отмалчивался или, ответив коротко, сводил разговор на другое.
Впрочем, пану Самуилу редко приходилось разговаривать с боярином: Белый-Туренин, по большей части, сидел затворясь в своей комнате; можно было подумать, что он даже избегает встречаться с хозяином дома; по крайней мере, гуляя, например, в саду и заметив вдали фигуру пана Самуила, Белый-Туренин круто поворачивал и скрывался в доме.
Нельзя сказать, чтобы и Анджелика вносила «живую» струю в это расстроенное общество; она ходила грустная и молчаливая и, как боярин с паном Самуилом, так она избегала встречи с матерью и с патером.
Одна Лизбета, казалось, чувствовала себя превосходно и была весела.
Конечно, ни пан Самуил, ни пани Юзефа, ни даже сама Лизбета не могли подозревать, как страдал Павел Степанович. Туман страсти давно прошел, и совершившийся факт предстал перед ним во всей наготе. Он проклинал себя за то, что забылся и разбил честь девушки. Люби он ее, как любил в былое время Катеринушку, он меньше раскаивался бы: сердцу любить или не любить не прикажешь; судьба, значит. А тут любви, по крайней мере с его стороны, не было – их связала только страсть. Часто боярин пытался вызвать в своем сердце любовь к Лизбете, но не мог. Он жалел ее, правда, считал хорошей девушкой, ценил ее привязанность, но «огонь любви» не зажигался, и образ умершей Катеринушки был для него дороже живой любящей Лизбеты.
«Как загладить сделанное?» – вот вопрос, который напрасно пытался разрешить Белый-Туренин.
Был бы он холост – иное дело, ну, а теперь… Теперь дело казалось непоправимым. Бросить на произвол судьбы несчастную девушку? Против этого возмущались все силы души боярина. Постепенно он, впрочем, стал смутно сознавать, что маленькая лазейка есть, но для этого нужно было прибегнуть к ужасному средству – к отступничеству. Конечно, католическая религия или, как называл ее боярин, «латинская вера» – не «басурманство», отрекаться от Христа не требуется; кроме того, боярин знал, что в католичестве есть много общего с православием, но – это «но» становилось преградою – но это не была вера отцов, она заставляла чтить папу, почти как земного бога, как наместника Христа, она выдавала верующим Святые Дары под одним видом… А латинский язык? А музыка в храме? А исхождение Святого Духа «и от Сына»? Правда, части этих противоречий можно было бы избежать, вступив не в римско-католическую, а в греко-католическую, иными словами – униатскую или соединенную церковь, однако боярину для достижения его цели – расторжения ранее заключенного брака – казалось необходимым вступить именно в чистое католичество.
Затем, если бы он помирился даже с мыслью об отступничестве и допустил, что тогда можно будет жениться на Лизбете, являлся новый источник для мучения: женившись на панне, боярин не мог бы не сознать себя двоеженцем. Собственно, ведь развод не допускался ни в православной, ни в католической церкви потому, что, как в той, так и в другой, брак – таинство. Кроме нарушения таинства, в разводе скрывался еще и второй грех. Павлу Степановичу приходили на память слова Спасителя: «Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Матф., гл. V, 31, 32.)
Так мучился Павел Степанович все эти две недели, забываясь только на мгновения в жарких объятиях Лизбеты.
На панну он немало дивился. Казалось, ее нисколько не тяготил совершенный проступок. Она была весела, болтала, шутила, и смех ее прерывался только для поцелуев. А боярин ожидал слез, раскаяния, сетований.
Однажды он не вытерпел и спросил ее, неужели она не сожалеет о совершившемся, не боится будущего, казалось бы, такого безрадостного для опозоренной девушки? Она на минуту задумалась, потом воскликнула:
– Нет! Теперь я счастлива, а что будет… Э! Да пусть будет, что будет!
Будь на месте Белого-Туренина наш современник, то он, пожалуй, после такого ответа Лизбеты позабыл бы про всякие угрызения совести.
«Э! Если она так к этому относится, так чего же я-то буду на стену лезть, в самом деле?» – успокоил бы он себя подобным рассуждением.
Но Павел Степанович был сыном XVII века, он еще не умел входить в компромиссы со своею совестью, не умел, когда нужно, увидеть черное белым, а грех называл грехом, добро – добром, ставить же первое на место второго и наоборот не имел способности.
Как-то, когда Лизбета в обычное время пробралась в его комнату, он встретил ее бледный как смерть с лихорадочно блестящими глазами.
– Что с тобой? – спросила она.
– Что со мной? Порешил судьбу – женой моей будешь! – ответил он.
Голос его дрожал.
Панночка не стала его расспрашивать, как он это устроил, она только припала долгим поцелуем к его щеке, но читателю автор расскажет – для этого пусть он потрудится пробежать следующую главу.
XIX. Чудо
Отец Пий занимал в доме Влашемских самую маленькую каморку вблизи домашней капеллы. Ему хозяин дома предлагал лучшее помещение, большую, светлую комнату, но патер наотрез отказался.
– Монаху неприлична роскошь. Древние подвижники жили в подземных пещерах. Даже и эта комнатка слишком хороша для меня.
Так он и остался в своей каморке.
Вещей там было немного. Простой стол и такая же скамья, другая, более длинная и широкая, скамья у стены – на этой скамье отец Пий устраивал себе на ночь жесткое ложе – да темное металлическое распятие в углу составляли все убранство жилища патера. Маленькое узкое окно пропускало мало света, а потому в комнате был всегда полумрак. Когда отцу Пию нужно было заняться чтением или письмом, ему приходилось зажигать свечу даже и во время дня.
Впрочем, патер мало чувствовал неудобства от этого – как чтение, так и письмо были для него редкими занятиями. Его главнейшее и постоянное занятие была молитва. Он молился без перерыва по целым часам.
Говорили, хотя и никто не знал этого достоверно, что на полу, против распятия, были два углубления: они были выдавлены коленями отца Пия.
Когда он уставал молиться, он опускался на скамью и отдавался благочестивым размышлениям, не забывая в то же время перебирать четки.
Иногда же долгая молитва не удовлетворяла его, ему хотелось подвигов мученичества.
Тогда он брал бич, и сильные удары оставляли красные рубцы на теле отца Пия. При усиленных движениях патера слышалось что-то похожее на звяканье железа – это звенели тяжелые вериги, которые он постоянно носил.
Так изо дня в день тянулась эта суровая жизнь, а Пий был доволен ею и счастлив по-своему. Он был аскет, в полном смысле слова и, как аскет, честолюбив.
Быть может, это покажется странным: честолюбие и аскетизм не вяжутся одно с другим. Но разве в том, чтобы мечтать попасть в лик святых, изнурять свое тело и видеть в этом средство к свободному доступу в рай, рисовать себе пленительные картины райской жизни, где праведник равен ангелам, и добиваться этого, стремиться к тому всеми помыслами – разве тут не скрывается громадное честолюбие, такое, что земная слава и блеск кажутся для него слишком ничтожными?
Таким честолюбцем и был отец Пий. Когда он бичевал себя и бич до крови просекал ему кожу или когда вериги врезались в тело и постепенно стирали мясо и обнажали кость, и каждое движение отзывалось невыносимою болью, тогда патер мысленно сравнивал свои муки с райскими наслаждениями и находил свои страдания ничтожными. Погружаясь в благочестивые размышления, он видел чудные райские сады, сонмы лучезарных ангелов и не менее лучезарных святых, и между ними себя. Везде он и он.
Мысль о себе не покидала его ни на минуту. Если он обращал неверного в католическую веру – этим он приобретал для себя новый шанс попасть в лоно праведников; если он на собранные с доброхотных католиков деньги воздвигал капличку, опять-таки это он делал ради себя: за труды свои он получит награду сторицей.
Каждое свое малейшее деяние на пользу католической церкви он оценивал и ценил не дешево. Он был похож на раба, который трудится как будто бы и безвозмездно, а на самом деле – спит и видит получить за свое усердие щедрое вознаграждение от доброго домовладыки.
Чувство христианского смирения было ему чуждо, душа его была полна гордыни. Он любил только себя. Правда, случись мор или иное несчастие, он первый кинулся бы помогать несчастным, проводил бы целые ночи у постелей больных, обмывал бы их гнойные раны, но все это он делал бы не из-за любви к ближнему: сами по себе эти несчастные были в его глазах ничем, сердце его оставалось спокойным при виде их страданий, но они служили прекрасным средством для него вплести новый цветок в свой венок подвижника. В основе тут лежал самый беспощадный эгоизм.
Любя вплетать новые розы в свой венок, он не любил, когда удобный для этого случай ускользал от него, а потому был фанатиком. В основе здесь был опять злобный эгоизм.
Если купец, производя торговый оборот и рассчитывая на хорошие барыши, не получил их, а только вернул сполна свои капиталы, он от этого не обеднел, но все же разве он останется доволен? Конечно, нет! Будет рвать и метать.
Так и отец Пий рвал и метал, когда претерпевал неудачу: сокровищница его благих деяний не потерпела ущерба, но прибавка к ней ускользнула. Как же в таком случае не пламенеть гневом? Если же могли найтись средства воротить потерянное или исправить ошибку, хотя бы даже средства безнравственные, тогда отец Пий, не раздумывая, приступал к ним: ведь цель оправдывает средства, чего же еще? Это правило применялось им в самых широких размерах.
С молоком матери патер всосал убеждение, что католическая религия – единственный путь ко спасению, и неуклонно шел по этому пути; всех «еретиков» он страстно ненавидел и эту ненависть к чужому верованию считал тоже одним из цветков своего венка. Поэтому можно себе представить, как встретил он «заклятого еретика», «проклятого схизматика» боярина Павла Степановича, когда тот однажды появился на пороге его комнаты.
Белый-Туренин не обратил внимания на краску в лице и злобный блеск в глазах патера, спокойно вошел в его келью, притворил плотно за собою дверь, потом опустился на скамью.
– Я к тебе, поп.
– Ну? – недружелюбно буркнул отец Пий.
– Да, вишь, дело какое, хочу в твою веру переходить.
Патеру показалось, что боярин пришел издеваться над ним. Это его взорвало.
– Ты смеешь смеяться?! Поганый еретик! Вон! – не своим голосом закричал он и даже, схватив лежащий поблизости свой бич, замахнулся им над боярином.
Тот отвел его руку.
– Поп! Обезумел ты, что ли?
Патер пыхтел, как бык.
– Я к нему с делом, а он драться лезет, – продолжал спокойно Павел Степанович.
Отец Пий смотрел на него, вытаращив глаза, недоумевая, шутит боярин или говорит серьезно.
– Да ты правда?.. – буркнул он.
– Да как же неправда? Зачем же я пришел бы к тебе? Садись-ка лучше да потолкуем.
Патер послушно опустился на скамью.
– Я тебе, поп, не соврал: решил я веру латинскую принять.
Патер хлопнул себя руками по бедрам.
– Чудо! – воскликнул он.
– Истинно чудо, – со вздохом промолвил боярин. – А только я ведь недаром хочу веру сменить.
– Недаром? Как же так?
– А так – ты за это должен мне устроить одно…
– Говори, говори! Все сделаю.
– С женой меня развести.
– Да ще же твоя жена? Я думал, ты холост.
– Жена в Москве живет. Так вот, можешь ли?
– Зачем нужно это тебе?
– На другой хочу жениться.
Патер покачал головой и задумался.
– Гм… Твоя жена еретичка?
– Православная.
– Так, – протянул патер.
Он уже успел решить, что просьбу боярина надо исполнить во что бы то ни стало. В крайнем случае, он готов был повенчать боярина и без всякой разводной, просто игнорируя его первый брак, как схизматический. – Глаза патера весело заблестели. Он понял, что Белому-Туренину теперь без него не обойтись, что боярин попал в некоторую зависимость от него, ему захотелось воспользоваться этим и, припомнив былые оскорбления, нанесенные ему Павлом Степановичем, Пий решил теперь поглумиться над ним.
– Благое дело ты задумал, сын мой, что отрешаешься от ереси. Я вижу в этом Промысл Божий… Но все ли ты обдумал?
– Все.
– Ведь ты, если выпадет случай, должен будешь, преклонив колени, целовать ногу у святого отца папы.
– Знаю, – глухо ответил боярин, и тень пробежала по его лицу.
– Перстень у кардинала…
– Знаю! – еще глуше проговорил Павел Степанович.
Отец Пий во всю жизнь свою не бывал более весел, чем теперь.
– И даже у меня, смиренного, должен будешь целовать руку.
Боярин гневно взглянул на патера.
– К делу, поп, к делу!
– А это – разве не дело? Я должен тебе разъяснить, чего потребует от тебя наша святая церковь.
– Не церковь, а попы с монахами.
– Ты вольнодумствуешь – наша религия запрещает вольнодумство. Ты должен выучить латинское «Верую».
– Выучу, – ответил Белый-Туренин, ставший совсем мрачным.
– Признать наше Filioque – «и от Сына»…
Павел Степанович быстро поднялся со скамьи.
– Прощай, поп!
– Куда же ты?
– Я вижу, мне с тобой толковать нечего. Найду другого попа.
В глазах патера мелькнула тревога.
– Постой, постой! Напрасно ты сердишься, я только исполнял свой долг. Подойди ко мне!
Боярин подошел.
– Наклонись.
Тот исполнил.
Патер благословил его и протянул ему руку для поцелуя. Белый-Туренин слегка коснулся до нее губами.
– Благословляю тебя на благой путь. Иди с миром и будь спокоен: я все устрою.
Как сказал отец Пий, так и сделал – устроил все.
Скоро по всему дому разнеслась весть, что совершилось чудо: «заклятый еретик» покаялся и готовится вступить в лоно католической церкви.
Пани Юзефа была в восхищении, пан Самуил был тоже доволен: теперь, знал он, от него никто не потребует удаления из дома боярина.
Однако они несколько призадумались, и чудо утратило в их глазах часть своего блеска, когда, несколько времени спустя, Павел Степанович посватался за Лизбету. Породниться с «москалем», которого они, правду сказать, и знали-то очень немного – могло быть, что он совершил преступление на родине, потому и убежал в Литву – ничего особенного не представляло. Только заявление боярина, что он купит землю вблизи их усадьбы – «казна» была захвачена Белым-Турениным из Москвы – и поселится там с молодою женой да убеждения отца Пия заставили их согласиться.
В начале зимы состоялась свадьба. Боярин был похож скорее на преступника, ведомого на казнь, чем на счастливого жениха, когда стоял под венцом, зато отец Пий сиял и с особенною торжественностью читал латинские молитвы. Лизбета казалась религиозно настроенной, и ее бледное личико было задумчивее обыкновенного.
Ни Анджелики, ни Максима Сергеевича, который, едва разнеслась весть о переходе Белого-Туренина в католичество, совершенно порвал с ним дружеские отношения, не было в числе присутствовавших на свадьбе. Причиною того были события, разыгравшиеся еще задолго до венчания Павла Степановича и Лизбеты.
XX. Непреклонный
Пани Юзефа довольно долго не спрашивала у Анджелики, переговорила ли она со своим женихом. Медлить заставляла ее боязнь, что ответ дочери будет неблагоприятным, и тогда нужно будет приступить к решительным мерам. Наконец, однажды она велела позвать к себе старшую дочь.
– Что, Анджелиночка, говорила ты с паном Максимом, о чем я тебя просила? – сказала она, когда Анджелика пришла.
Девушка стояла смущенная и не смотрела на мать.
– Говорила, – тихо ответила она.
– Ну и что же?
В ожидании ответа пани Юзефа насторожилась и даже на время оставила свою работу – она, по обыкновению, сидела за вязаньем.
Анджелика подняла голову и в упор посмотрела на мать.
– Он не согласен, – медленно выговорила она.
Что-то новое показалось пани Юзефе в глазах дочери; казалось, Анджелика, несмотря ни на что, гордится непоколебимой твердостью своего жениха.
Пани Юзефа несколько минут молча смотрела на неё, потом взялась за работу и проговорила:
– А, не согласен!.. Можешь идти.
Больше она ничего не добавила и даже не взглянула на дочь.
Анджелика помедлила немного, потом удалилась.
Тотчас же после ее ухода пани Влашемская послала за отцом Пием.
– Еретик отказался вступить в лоно истинной церкви, – встретила она его такими словами.
– Я это предполагал. Он погряз во грехах, – ответил патер.
– Что же теперь делать?
– Я еще попытаюсь сам вразумить еретика, а если он и тогда не согласится…
– Тогда?
– Тогда нельзя допускать этого брака!
– Анджелика, любит его и, пожалуй, решится пойти против нашей воли.
– Ее на некоторое время следует удалить из дому.
– Разве это поможет? Когда она вернется, можно будет ожидать того же, чего мы опасаемся теперь.
– До тех пор может многое перемениться. Пан Максим, например, может охладеть к панне Анджелике, уехать, умереть… Мало ли что…
– Гм… Куда же нам удалить Анджелику?
– Об этом уже я позабочусь. Подготовьте только пана Самуила.
Через несколько дней после этого разговора патер, встретясь с Максимом Сергеевичем, остановил его словами:
– Любезный пан, мне нужно с тобой поговорить.
– Я слушаю, отец Пий, – ответил молодой человек.
– Пойдем сядем в уголок, чтобы нам никто не помешал, и побеседуем.
– Сын мой! – ласково начал патер, когда они отошли в угол комнаты и сели там. – Я слышал, что ты хочешь вступить в брак с панной Анджеликой?
– Да, мой отец.
– Хвалю твое намеренье: добрая жена спасает от многого. А она будет тебе доброю женой.
– Уверен в этом.
– День свадьбы уже назначен?
– Нет еще.
– Еще нет? Что же так? Надо бы! Ну, а когда думаешь ты присоединиться к нашей святой церкви?
– Я этого совсем делать не думаю! – резко ответил молодой человек.
– Гм… Вот как! Почему же?
– Потому что наша церковь не менее свята, чем латинская. Незачем менять веру.
– Сын мой! Не подобает мужу и жене веровать розно.
– Этой розни у нас не будет: мы оба будем веровать в Иисуса Христа.
– Печально уж и то, что вам придется молиться в разных храмах. А будут дети – как вы станете наставлять их в законе Божьем? Каждый по-своему!
– Мы будем учить их верить в Бога.
– Этого мало, сын мой. У нас есть таинства, обряды, догматы – наши рознятся от ваших. Кроме того, не забудь, что ваша церковь еретическая. Вон боярин Белый-Туренин это осознал и хочет вступить на истинный путь. Хвала ему!
– Я думаю, верней, у вас ересь, а у нас истинная вера. Что о том спорить?! А боярин мне – не указ; мало ль отступников есть на белом свете? Есть такие, что и в басурманство перейдут, не то что в вашу веру.
– Гм… Так ты твердо решил не переходить?
– Твердо!
– А если панна Анджелика потребует?
– Она не потребует: она знает, что спастись можно в каждой вере, нужно только веровать всем сердцем.
– Так.
Патер поднялся.
– Ты это верно сказал, сын мой, что спастись можно во всякой вере. Ты веруешь – ты спасешься… Ты спасешься!
И он отошел от Максима Сергеевича, ласково кивнув ему головой. На бледных губах его играла улыбка.
Молодой человек заметил эту улыбку и призадумался, смотря вслед медленно удалявшейся темной тощей фигуре патера. Улыбка эта и ласковость отца Пия его тревожили; он лучше желал бы видеть его рассерженным.
– Э! Что тревожиться! – решил он наконец. – Захочет этот поп помешать мне жениться на Анджелике – силой возьму ее! Увезу тайком да и обвенчаюсь. Не стоит тревожиться!
И он уже с самым беспечным видом поспешил в сад, где, знал он, поджидает его невеста.
XXI. Ради спасения от когтей дьявола
– Ах, как же так, Юзефочка, ах, как же так! Обещались, к свадьбе готовились, и вдруг…
– Виновато его упорство, закоснелость в ереси.
– Все-таки…
– Послушай, ведь нельзя же ради него губить душу нашей дочери.
– Конечно, конечно, но…
– Ну так и нужно принять решительные меры.
Она замолчала. Пан Самуил прошелся несколько раз по комнате.
Он был смущен, подавлен; он никогда не думал, что дело примет такой оборот; в душе он твердо надеялся, что пан Максим пожертвует православием ради невесты, как это сделал Белый-Туренин, и вдруг сегодня пани Юзефа объявляет ему, что Максим решился остаться в схизме, что поэтому брака его с Анджеликой нельзя допустить, и нужно возможно скорее на неопределенное время удалить дочь из дому.
Добрый пан совсем потерялся от такого сообщения. Будь его воля, он охотно бы согласился на брак своей дочери с «еретиком»; одно мгновение у него даже мелькнула мысль крикнуть: «А ну вас! Пусть поженятся молодые, если любят друг друга»! Но эта мысль только мелькнула и тотчас же пропала: слабовольный пан струсил – пани Юзефа так сурово смотрела на него. Приходилось поневоле соглашаться.
– Юзефочка… – робко заговорил он опять.
– Ну что?
– А скажи… того… Куда же мы удалим Анджелиночку?
– Я и сама не знаю хорошо. За это дело берется наш святой отец Пий. Он устроит ее в благонадежном месте. Я думаю, ему можно доверить?
– Гм… гм… Конечно, Юзефочка, конечно!..
Когда пан Самуил вышел из комнаты жены и встретился с Анджеликой, он отвернулся, чтобы скрыть влагу на своих глазах.
Девушка не заметила расстроенного вида отца и ничего не подозревала о заговоре против нее и Максима Сергеевича.
За последнее время она даже стала спокойнее; смутное беспокойство за будущее совершенно покинуло ее: мать не вспоминала более об «ереси» пана Максима, отец Пий стал с нею чрезвычайно любезен и ласков и тоже ни слова не говорил о религии ее жениха – чего же было тревожиться? Все, по-видимому, шло по-старому, пан Максим по-прежнему приезжал к ним ежедневно, встречали его приветливо; при таком положении можно ли было думать о чем-нибудь другом, как ни о предстоящем, уже недалеком, казалось, счастье? И спокойная духом девушка отдавалась радостным мечтам.
Однажды поутру, едва забрезжил рассвет, Анджелику разбудила мать.
– Одевайся! – приказала она.
– Зачем? Так рано!
– Нужно, – лаконически ответила пани Юзефа.
Анджелика взглянула на нее – лицо матери было холодно и сурово.
Еще не совсем пришедшая в себя от сладкого предутреннего сна, девушка торопливо оделась.
Вошли пан Самуил, отец Пий, какие-то темные фигуры.
Анджеликой начинал овладевать страх.
«Зачем они собрались сюда? Чего они хотят?» – думала она в беспокойстве.
– Ты не того, не очень тоскуй, Анджелиночка: тебя не на всегда… Так, на время… – забормотал отец.
Он не мог говорить, его душили слезы.
– Что? Что на время? – воскликнула девушка в страшной тревоге.
– На время… того… увезут… – начал было опять пан Самуил.
Его прервал сладкий тенорок отца Пия.
– Тебя на некоторое время удалят из родительского дома, дочь моя…
Анджелика испуганно вскрикнула, а патер спокойно продолжал:
– Для твоего блага. Дело идет о спасении и защите твоей души от сетей лукавого, и твои родители, как истинно благочестивые католики, решились принести эту жертву, желая лучше перенести тягостную разлуку с дочерью, чем видеть ее в когтях диавола. Они твердо решились свершить христианский подвиг, и ты напрасно плачешь – слезы не помогут. Покорись необходимости, простись с твоими родителями и поблагодари их за заботу о тебе.
– Да, слезы не помогут! Мы твердо решились, – проговорила пани Юзефа.
Пан Самуил громко всхлипнул.
– Но что же это? Господи! Я не хочу, не хочу! Не поеду! – говорила, заливаясь слезами, панна Анджелика.
– Дочь моя! Не заставь употребить насилие! – сказал патер.
– Покорись. Это для твоего же блага, – заметила пани Юзефа, лицо которой слегка побледнело, но не потеряло своего сурового выражения.
– Ах, какое там благо! – простонала несчастная девушка. – Отец! Хоть ты, хоть ты защити меня! – кинулась она на грудь отца.
Пан Самуил сжимал ее в объятиях, плакал, но молчал.
Отец Пий подал знак.
Темные фигуры – две монахини – хранившие все время неподвижность статуй, приблизились к Анджелике и взяли ее под руки. Девушка вырывалась от них, но они держали ее крепко и потащили к выходу.
– Прощай, Анджелиночка! Прощай, дочка моя! – плача, воскликнул пан Самуил.
– Исправляйся, – сказала мать, холодно поцеловав ее в лоб.
– Постарайся поскорей позабыть своего жениха! – промолвил вслед ей отец Пий.
Девушка быстро обернулась к нему.
– Не забуду! Не забуду! Знаю, чего ты хочешь! Злые!.. Нехорошие! – крикнула она вне себя и вдруг бессильно опустилась на руки монахинь, лишившись чувств.
Ее подхватили и понесли быстрее. У крыльца уже ждал рыдван[4]4
Нечто вроде тарантаса с каретным кузовом.
[Закрыть], запряженный тройкою коней, рывших копытами землю.
Через мгновение тройка рванулась. Звякнули бубенцы.
– Прощай, дочка моя, прощай! – прозвучал последний скорбный вопль пана Самуила.
Когда к панне Анджелике вернулось сознание, край солнца уже показался над горизонтом. Сперва девушка не могла понять, где она и что с нею, но скоро молчаливые фигуры сидевших рядом с нею монахинь напомнили ей все.
– Куда меня везут? – спросила она у одной из монахинь.
Та, худощавая, морщинистая, даже и не пошевельнулась, а другая, более молодая, проговорила:
– Дочь моя! Не задавай праздных вопросов.
Панна поняла, что расспрашивать бесполезно. Холодное отчаяние наполнило ее душу. Она чувствовала себя как бы заживо похороненной.
А тройка мчалась все быстрее, все дальше уносила Анджелику от родного дома, от ее счастья.
Лизбета и Павел Степанович были немало изумлены, узнав об исчезновении Анджелики.
Лизбета всплакнула по ней, но потом довольно скоро утешилась: у этой девушки всякое чувство быстро загоралось, быстро и потухало.
Белый-Туренин, напротив, скучал по ней, как по сестре, и, подозревая, кто виновник всего этого, едва удерживался от желания «вздуть» отца Пия. Он не раз допытывался, куда увезли Анджелику.
Раскрыть эту тайну ему удалось не скоро, но все-таки удалось, и он порешил сообщить Максиму Сергеевичу, как только увидит его.
Однако, пока он увидел жениха Анджелики, прошло времени очень и очень немало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































