Текст книги "Лжецаревич"
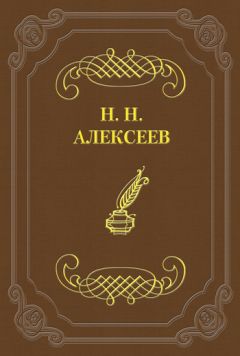
Автор книги: Николай Алексеев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
XXV. Последствия «страшного дела»
Бежит сон от глаз Максима Сергеевича. Душно. Грудь часто поднимается, кровь стучит в виски. Тишина такая, что слышно, как слегка потрескивает лампада, зажженная перед иконой Спасителя. Но Златоярову-Гноровскому в этой тишине слышится шепот злобный, прерываемый не менее злобным смехом. Кажется ему, что это шепчет патер Пий… Разве это не он выглядывает вон там из темного угла? Максим Сергеевич даже видит, как белеют его зубы из-за растянутых злорадной улыбкой бледных губ.
– Моя взяла, еретик! Я победил! Я победил! – шепчет Пий.
– Проклятый! Я тебя задушу! – вне себя кричит Златояров-Гноровский и вскакивает со своей постели.
И все пропало. Озаренная слабым светом лампады комната пуста; нет никакого патера Пия.
– Да и как мог бы он попасть сюда? – бормочет Максим Сергеевич, понимая, что это был только кошмар, навеянный душною ночью да тою тоскою, которой полна душа.
До сих пор он еще не может прийти в себя после того ужасного дня, в который он узнал об исчезновении Анджелики. Он хотел бы забыться хоть на миг и не может, и все растравляет свою больную рану воспоминаниями счастливого прошлого, воспоминаниями «того» дня. Запомнились все мельчайшие подробности… Он помнил, что, отправляясь в то утро к Влашемским, он был особенно радостно настроен. Накануне он беседовал с Анджеликой, и они вдвоем порешили не медлить со свадьбой, а обвенчаться поскорее, благо вопрос веры, по-видимому, пока оставлен в покое.
– Торопиться надо, а то отец Пий что-нибудь да надумает, – сказала Анджелика.
Он согласился с невестой.
Потом они условились, что он завтра же переговорит о дне венчания с паном Самуилом и пани Юзефой.
Подъезжая к усадьбе Влашемских, Максим Сергеевич был почему-то почти уверен, что сегодня ему предстоит радость: день свадьбы будет назначен, и таким образом, всякие сомнения рассеются. Он испытывал то легкое, бодрящее волнение, которое овладевает человеком, знающим, что ему скоро предстоит пережить один из важнейших и счастливейших моментов своей жизни. Когда он поднялся на крыльцо Влашемских, его несколько удивили смущенные лица встретившихся холопов и их переглядывания друг с другом; однако, он не придал этому значения и со спокойным сердцем прошел в покои.
Там первым попался ему навстречу патер Пий. Он ласково улыбнулся Максиму Сергеевичу, низким поклоном ответил на его поклон и удалился в свою каморку.
Затем вышла к нему пани Юзефа, а потом пан Самуил. Пани поздоровалась с ним, как обыкновенно. Ему только показалось, что на лице ее лежит еще более строгое выражение, чем всегда.
Влашемский выглядел совсем расстроенным. Веки глаз его были красны, цвет лица стал каким-то сероватым.
– Что с тобою, пан Самуил? – спросил Златояров-Гноровский.
– Так, ничего… – буркнул, не глядя на него, пан.
– Я полагаю, что невеста моя здорова?
– Ах, Анджелиночка, Анджелиночка! – Прошептал Влашемский и смахнул набежавшие слезы.
– Что с ней? Что? – с беспокойством спросил Максим Сергеевич.
– Пан Максим, мне нужно с тобой поговорить, – промолвила Юзефа. – Ты твердо решил не менять своей веры?
– Твердо, пани.
– Наша Анджелика не может выйти Замуж за… за человека другой веры, а потому…
– А потому? – беззвучно проговорил Максим Сергеевич, чувствуя, что у него сердце холодеет.
– А потому мы ее удалили от соблазна, – резко отчеканила пани.
Несчастный жених простоял несколько мгновений, как бы окаменев. Он мог ожидать всего, но не этого. Если бы сказали просто, что свадьба не может состояться, он менее был бы огорчен: он тогда сумел бы выкрасть Анджелику и обвенчаться с нею тайком, но теперь произошло нечто непоправимое.
– Удалили? – наконец прошептал он.
– Да! Отняли у меня мою Анджелиночку, увезли ее сегодня утром, – пробормотал, всхлипывая, пан Самуил.
– Но куда? Куда? – крикнул Максим Сергеевич.
– Зачем тебе это знать? – улыбаясь, заметила пани Юзефа.
Несколько минут он еще безмолвно постоял перед Влашемскими, потом, не попрощавшись, медленно направился к двери, прошел сени, так же медленно спустился на крыльцо, вспрыгнул на коня и поскакал.
Он не правил конем, не сознавал, куда едет. Конь сам направился по знакомой дороге к дому. В это время Максим Сергеевич не думал ни о чем, он только чувствовал, что страшная тяжесть налегла на него и давит. Горе захватило его всего, не оставило ни малейшего луча надежды. Душу наполнила какая-то тупая, ноющая боль, дать имя которой не мог бы и сам Златояров.
Прошло несколько недель. Максим Сергеевич жил затворником в своей усадьбе. Время исцеляет всякое горе, но не всегда; это испытал на себе Златояров.
С каждым днем его горе разрасталось; рана иногда меньше болит вначале, чем спустя некоторое время, так было и с душевною раной Златоярова. Иногда находили на него периоды мрачной тоски, потом они сменялись порывами жгучего отчаяния.
Теперь, пережив в своей памяти все, что перенес он в роковой день, Златояров встал с постели и оделся. Он не мог лежать. Ему хотелось движения, хотелось уйти, убежать от своего горя, от жизни, от всего света, от самого себя. В тишине своей опочивальни он слышал скорбный зовущий его голос Анджелики. Он готов был крикнуть: «Иду, иду, к тебе!» – и тотчас же сам остановил себя грустным вопросом: «Куда идти?» А его мозг, потрясенный горем, продолжал болезненно работать, продолжал вызывать то милый образ Анджелики, то ненавистную тощую фигуру патера Пия.
Его рассудок был в опасности. Нужно было новое потрясение, чтобы вернуть погибающий мозг к правильной деятельности, заставить Максима Сергеевича не медленно сгорать от горя, а жить, жить хоть и с горечью в душе, как живут тысячи людей.
Занятый своими печальными думами Златояров-Гноровский шагал по своей опочивальне и не слышал, что уже довольно давно кто-то стучит в запертую дверь комнаты. Наконец, он услышал, подошел и отворил. Перед ним предстал Афоня, тот самый мальчик, которого Григорий и Белый-Туренин застали во время лесной схватки плачущим над трупом «тятьки».
Несмотря на полумрак спальни, Максим Сергеевич разглядел, что на пареньке, как говорится, лица не было.
– Чего ты? – спросил Златояров.
– Ой, батюшка!
– Да ответь же!
– Тот там! Тот самый, что в лесу…
– Ну?
– В лесу, как батьку убили моего, воеводил!
– Неужели сам пан Феликс?!
– Нет… Того не видал, а холоп евонный. Батюшки светы! Испужался я страсть…
– Да где ты его видел?
– А в сенях самых. Темно там очень было, но у меня глаз-то, значит, приобвык, а у него нет, он-то меня и не увидал… Над самым ухом, это, значит, как заорет: «Гей, хлопцы!» Я так и обмер, а наши хлопцы хоть бы один пошевелился: лежат, что померши.
– Ну, а потом что же?
– А потом он что-то пробормотал себе под нос и ушел, а я сюда побег, да не скоро тебе достучался.
– Пригрезилось это тебе все во сне, должно быть.
– Как же во сне, коли я и не спал? Душно в челядне стало, я и вышел в сени, думаю, там попрохладней, там сосну. Ну, еще там у меня…
Парень замялся.
– Досказывай, что ж ты?
– Бранить, боюсь, будешь.
– Разве что нехорошее учинил?
– Нет, не то чтобы, а квасок там у меня…
– Какой квасок?
– Да, вишь ты, смерть люблю я квас студеный, а в бочонке-то у нас квас – теплынь одна, вот я и ухитрился. Как квас свежий варили, стащил жбан добрый его да в землю и зарыл от крыльца недалече. Пить захочется – я сейчас мой квасок вытащу и напьюсь, потом опять в ямку назад и прикрою. Так он у меня совсем малость и нагревался, почитай совсем студеный… У нас уж и квас весь выпили, сегодня водицу одну потягивали, а у меня еще половина осталась. Ну, и боялся я, как бы про мой студеный квасок не проведали, тайком бегал. А что крадью квас взял, каюсь, виноват…
И Афоня смущенно заморгал глазами.
– Ты, Афоня, кажись, смышленый паренек, а? – улыбаясь, сказал Златояров; это была его первая улыбка со дня исчезновения Анджелики.
Афоня просиял. От своего страха он уже успел оправиться.
– Ну, пойдем, посмотрим, кто тебя там напугал, – проговорил Златояров.
Афоня боязливо съежился.
– Боязно.
– Глупости! Пойдем.
Они спустились вниз, прошли мимо челядни – там была тишина.
– Эк их, спят! – с некоторою завистью проговорил Максим Сергеевич.
Потом они вышли в сени.
– Батюшки! Кто ж это дверь закрыл?! – испуганно воскликнул Афоня.
– Да, верно, и была закрыта…
– Нет, нет! В этакую душину нешто закрыли б двери. Открыта она была!
– Ну, мы ее сейчас откроем, – сказал Златояров и попробовал открыть дверь.
Он нажал посильнее – дверь не подавалась. Можно было думать, что она снаружи чем-то приперта.
– Что такое? – недоумевал Максим Сергеевич, продолжая напирать на дверь.
Со двора долетели голоса. Он вслушался и быстро отошел от двери: он ясно расслышал знакомый голос Стефана.
«Наезд на меня учинил пан Феликс!» – подумал он и крикнул Афоньке:
– Чего стоишь? Беги, поднимай холопов! Вороги наехали!
Афоня побежал в челядню, а Максим Сергеевич поспешил наверх к себе, чтобы захватить саблю и «пистоли». Он еще только собрался спуститься обратно вниз, когда прибежал Афонька.
– Они не поднимаются!
– Плохо будил, значит.
– Какое! И тряс, и орал, и хоть бы тебе что!
Златояров сам прошел к холопам.
– Вставайте! – крикнул он.
Никто не шелохнулся.
– Вставайте! – повторил он оклик и, шагая в темноте, споткнулся об одного из них.
– Не на месте улегся! Вставай! – крикнул Максим Сергеевич и взял его за руку.
Почти сейчас же он выпустил ее: рука была холодна, как у трупа. Он поспешно попробовал лоб лежащего – тот же холод, наклонился, чтобы послушать сердцебиение – сердце не билось. Перед ним лежал труп.
Взволнованный, он перешел к другому, тронул руку – и что-то похожее на суеверный ужас наполнило его сердце: перед ним лежал второй труп. Ощупью он нашел третьего и наклонился над ним – холоп дышал едва слышно; очевидно, и этот скоро должен был разделить участь сотоварищей.
Максим Сергеевич перешел к четвертому, к пятому и далее – все были мертвы. Когда он вернулся к тому, который за минуту подавал признаки жизни, тот был уже мертв и холодел.
Тогда Златояров понял, что произошло что-то необычайное и что оно находится в связи с наездом пана Гонорового.
Вдруг в челядне посветлело. Свет шел со двора, через окошко. Максим Сергеевич вдохнул в себя воздух и расслышал запах дыма.
– Горим! Горим! – воскликнул испуганный Афоня и прижался в ужасе к своему господину.
Златояров готов был расцеловать мальчика, хоть он и сообщил ужасную истину, за эти слова, потому что в эту минуту живой голос, близость живого существа были ему всего дороже.
– Да, горим, – подтвердил Максим Сергеевич и добавил:– Божья воля!
Свет все больше проникал в челядню. Багровый отблеск пламени ложился на лица мертвецов. Теперь картина смерти предстала перед Златояровым во всем ужасе. Сведенные судорогами или распластанные, трупы лежали по всем направлениям. С посиневшими от предсмертных мук лицами, с оскаленными зубами; мертвецы были страшны.
Максим Сергеевич содрогнулся. Ему захотелось поскорее убежать куда-нибудь от этого ужасного зрелища. При пожаре ищут спасения в нижней части дома, но Максим Сергеевич и с ним Афоня побежал к себе, наверх, потому что он не в силах был оставаться внизу, рядом с этими мертвецами.
Сверху был виден ярко освещенный двор. Златояров-Гноровский ясно различил огромного всадника – Феликса Гонорового, узнал Стефана, увидел толпу весело пересмеивающихся холопов-разбойников.
Пламя уже пробиралось в комнаты. Облака дыма сгустились у потолка. Становилось жарко; дым опускался все ниже, окутывал Максима Сергеевича и Афоню, ел глаза, затруднял дыхание.
Нервно сжимая руку своего дрожащего товарища по несчастью, Златояров пошел вдоль окон. Сквозь все пробивался зловещий свет. Казалось, погибель была неизбежна.
Вдруг он, Максим Сергеевич, еще за час перед тем тяготившийся жизнью, чуть не проклинавший ее, едва не вскрикнул во весь голос от радости: в маленькой комнате, в которую он вошел случайно с Афоней, в задней части дома, в комнате, почти забытой им, служившей складочным местом для разного хлама, два окна были темны. Златояров заглянул на двор. Огонь был недалеко, но под окнами его не было. Должно быть, у осаждающих не хватило соломы и сена, и это место осталось свободным. Вблизи на дворе не виднелось никого из разбойников: они все столпились у передней части дома, где пожар был сильнее. Выбить раму было нетрудно, иное дело спрыгнуть: приходилось прыгать более, чем с двухсаженной высоты. Но задумываться было некогда.
Сперва он помог выбраться Афоне, потом прыгнул сам. Суставы слегка хрустнули, когда он коснулся земли, но он даже не ушибся. Афоня лежал и стонал: он расшиб себе плечо и ногу. Максим Сергеевич подхватил его на руки и побежал к забору. Подбежал и остановился в отчаяньи: перелезть да еще с Афоней на руках было невозможно. Выходило так, что они попали из огня да в полымя. Максим Сергеевич уже решил про себя, что будет биться до последней капли крови, но не отдастся в руки врагов живым, когда его выручил Афоня:
– Лазейка тут есть… Как ворота на ночь запирали, а надобность была в лес зачем-нибудь, так холопы через нее выбирались… Кол один вынимается.
«Да вот этот, кажись», – подумал Максим Сергеевич.
На счастье, кол оказался тем самым, однако, он поддавался не очень легко, и, пока он был достаточно приподнят, прошло несколько долгих минут. Со стороны дома слышались приближающиеся голоса. Но Максим Сергеевич теперь уже не сомневался в удаче: Афоня уже кое-как выбрался, слегка стеная от боли, за частокол, оставалось пролезть ему. Он с некоторым усилием протиснулся через довольно узкое отверстие и вовремя: несколько человек, со Стефаном во главе, показались из-за дома. При свете пожарища Стефан даже заметил отверстие и сказал своим сотоварищам:
– Ну, уж и строят же эти москали изгороди! Гляньте, лазейка какая!
И он совсем близко подошел к «лазейке».
В это время Афоня и Максим Сергеевич были уже в чаще леса – в безопасности; в безопасности, конечно, сравнительной, потому что в лесу были медведи, волки, рыси и иное зверье, но все же это были только злые звери, но не злые люди: последние страшнее!
Лежа в лесу, Златояров смотрел на зарево пожарища и думал, за что преследуют его эти люди? Что он сделал Гоноровому? Ведь он и встречался с паном Феликсом всего раза два у Влашемских, и вот тот однажды уж едва не убил его, теперь разорил родное гнездо и тешился мыслью, что Златояров погиб в пламени… За что? За что?
Горе не умерло в душе Максима Сергеевича, но оно несколько улеглось под напором нового чувства. Это чувство была злоба. Теперь Максим Сергеевич не стал бы в уединении отдаваться печальным думам, ему хотелось борьбы, шума, жизни полной опасности, полной запахом крови убитого врага.
Поутру он вернулся на пожарище. Из слуг Гонорового уже никого там не было.
Мертвый сторож Петр так и закоченел, сидя прислонившись к забору. Когда Максим Сергеевич и Афоня, крестясь, подошли к нему, на них пахнуло запахом тления: он уже начал разлагаться.
Груды обгорелых, дымившихся балок, груда мелких углей, перемешанных с полусгоревшими человеческими костями – останками несчастных холопов – вот все, что осталось от дома Златоярова.
Служебные постройки были почему-то пощажены врагами и не тронуты огнем. Златояров, с радостным изумлением расслышал донесшееся до него ржание любимой лошади. Лошадей у него было несколько – они все оказались налицо. Его удивила такая забывчивость или бескорыстие пана Феликса. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что это сделано для отвода глаз кому следует: ничего не похищено, значит, пожар произошел по вине самих пострадавших.
Златояров поспешил воспользоваться «забывчивостью» Гонорового и, взяв себе одну из лошадей, другую отдал Афоне, который, ежась от боли, кое-как взобрался в седло, и отправился в путь. Он не заехал ни к кому из соседей рассказать о своем несчастии и преступлении Гонорового, а поехал прямо в свое другое поместье, где запасся деньгами, оружием и дорожными припасами, и с неизменным своим оруженосцем Афоней да десятком холопов направился туда, куда стекался тогда и стар, и млад, и удалый молодец, и обездоленный жизнью, и разбойник, и честный человек, туда, где развевался стяг царевича Димитрия – в Галицию, в Самбор.
XXVI. Признан
Комната перед кабинетом короля в краковском дворце была переполнена придворными. Давно уже они не съезжались в таком количестве в королевские палаты; всех их собрал исключительный случай: сегодня должен представляться наияснейшему Сигизмунду «московский царевич»; сейчас должно решиться – истинный ли он сын царя Ивана или наглый обманщик, достойный плахи.
Несмотря на многолюдство, в комнате давки нет; нет и шума, слышатся лишь сдержанный говор, полушепот.
– Ты знаешь, пан Войцех, – говорит какой-то залитый золотом вельможа стоящему рядом с ним пану Червинскому, – носится слух, что этот царевич – просто-напросто ловкий проходимец, расстриженный диакон Григорий Отрепьев.
– Откуда взялся этот слух?
– Царь Борис сообщал, говорят, нашему наияснейшему королю.
– Гм… Король разрешит сейчас все сомнения. Если он признает его царевичем, значит, этот, якобы Григорий, и есть истинный царевич. Полагаю, слово короля имеет больше значения, чем какие бы то ни было доказательства?
– Конечно! – поспешил согласиться царедворец. – Во всяком случае, любопытно на него взглянуть.
– Тсс!.. Идет!.. – пронесся и замер возглас.
Гробовая тишина наступила в комнате. И среди этой тишины все явственнее слышался топот ног, по-видимому, более привыкших ступать по мягкой почве полей, чем по лоснящемуся полу королевских палат.
– Топочет, как мужик! – соображали придворные, прислушиваясь к этому топоту.
Глаза всех были устремлены на входную дверь.
Ближе, ближе топот… Через минуту предшествуемый королевским чиновником в дверях появился «царевич».
Первое впечатление, произведенное им на придворных, было неблагоприятно.
Правда, кто знавал Григория-слугу, тот вряд ли узнал бы Григория-царевича: богатый наряд изменил к лучшему его наружность. Но все-таки опытные глаза царедворцев сразу подметили все недостатки его внешности: и рыжеватые волосы, и бородавки на лице, и короткую руку.
Однако, первое впечатление быстро заменилось новым, когда «царевич» вступил в их толпу. Он шел медленно, быть может, несколько тяжеловатой походкой, но величаво. Голова его была гордо закинута, на обыкновенно бледных щеках играл румянец от волнения, прежде тусклые глаза теперь лихорадочно светились. Чувствовалось что-то властное и мощное в этом человеке, чувствовалось, что это – господин, а не раб толпы.
Григорий скользнул взглядом по толпе придворных, и надменные вельможи от этого взгляда почувствовали что-то похожее на робость провинившегося школьника перед строгим учителем, и головы их невольно склонялись несколько ниже, чем следовало перед еще непризнанным окончательно царевичем.
Предшествуемый и сопровождаемый королевскими чиновниками, секретарем короля Чилли, Юрием Мнишком – величавым стариком с лукавыми глазами, – Вишневецким и еще несколькими магнатами, «царевич» направлялся к кабинету короля, слегка кивая на поклоны придворных.
Видно было, как легкая судорога пробежала по лицу «царевича», когда все сопровождающие его отошли, и он, выжидая, пока доложат королю, на мгновение остановился перед дверьми кабинета.
В королевском кабинете находилось в это время двое людей. Один из них – худощавый старик, с гладковыбритым лицом, одетый в шелковую фиолетовую епископскую рясу, что-то торопливо говорил, прерывая свою речь иногда легким старческим покашливанием, другому, одетому в темный бархатный кафтан и маленькую круглую бархатную же шапочку, пожилому человеку, с холодным лицом, с тупым, тусклым взглядом.
Духовное лицо был апостольский нунций в Кракове, Рангони, его собеседник – король польский Сигизмунд.
Король сидел, откинувшись на спинку кресла, и молча слушал нунция, лишь изредка наклоняя голову в знак согласия.
Наконец, он прервал молчание.
– Да, да, святой отец, польза тут и для церкви, и для королевства несомненна, если… если только он не лицемерно выказывает преданность нашей церкви.
– Я уже говорил с ним: в его искренности сомневаться невозможно! – с жаром возразил Рангони.
– В таком случае… – начал король.
В это время ему доложили о приходе «царевича».
Король принял его стоя и, хотя не снял шапки, но приветливо улыбнулся.
Григорий-Димитрий, переступая порог королевского кабинета, побледнел, как снег.
Он низко поклонился королю и поцеловал его руку.
Король разглядывал «царевича». В свою очередь, Григорий некоторое время молчал и смотрел прямо в глаза Сигизмунду. В тусклых глазах короля трудно было что-нибудь прочесть, но зоркий «царевич» успел уловить мелькнувшую в них искру любопытства, и это его ободрило.
«Интересуются мною, стало быть, я им нужен!» – вот, смысл того, что подумал в эту минуту Григорий.
– Итак, я вижу перед собой сына царя Иоанна? – вымолвил король.
– Да, государь! – с живостью проговорил Григорий-Димитрий. – Да, я – истинный сын Иоанна, лишенный отечества, престола, даже пристанища, сохранивший только крест святой на груди своей, данный при крещении, а в груди веру и надежду на Бога да на людей, которые помнят завет Господа помогать страждущим и угнетенным!
Потом Григорий стал рассказывать, как он избег смерти, скрылся в Литву, жил в нужде в постоянном опасении козней со стороны Бориса Годунова. Рассказывая, он сам увлекся, он сам почти верил той вымышленной истории, которую передавал.
Воображение рисовало ему картину преследования, страданий несчастного царевича, и он описывал их своим слушателям в сильных образных выражениях. Он сам в это время переживал все бедствия, о которых говорил, как переживает писатель все душевные движения своих героев прежде, чем изобразит страдания и радости их перед читателем, как должен «прочувствовать на себе» художник или ваятель те людские муки или горе, которые хочет нанести на полотно или иссечь из мрамора, как, наконец, актер на подмостках переживает все волнения героя пьесы.
Речь свою Григорий закончил так:
– Государь! Ты выслушал правдивую историю моих бедствий… Ты сам родился в темнице, тебе также в детстве грозили опасности, и только Бог Милосердный помог тебе… Теперь такой же обездоленный, сирый, бесприютный скиталец, единый потомок царского рода, прибегает к твоей защите и помощи… Государь! Не откажи несчастному!
Последние слова он проговорил дрожащим голосом, со слезами на глазах.
Григорий был предупрежден, что после речи он, по знаку стоявшего у дверей царедворца, должен будет удалиться из кабинета, чтобы оставить короля и нунция посоветоваться наедине.
Знак не замедлил последовать.
Григорий вышел из кабинета, едва держась на ногах от волнения: следующая минута должна была решить его судьбу – или престол, или ничтожество, даже смерть.
Рангони и Сигизмунд совещались недолго.
– Убедились ли вы, государь, что он – истинный царевич? – спросил Рангони.
– Если он даже и не истинный царевич, но умеет так убеждать, то он достоин быть царевичем, – с живостью ответил король.
– Итак?
– Итак, он – царевич! – воскликнул Сигизмунд и подал знак позвать Григория.
При появлении его король приподнял свою шапочку.
– Да поможет вам Господь Бог, Димитрий, князь московский! – торжественно произнес Сигизмунд. – Мы рассмотрели все ваши доказательства и убедились, что вы – истинный сын царя Иоанна. В знак же нашего искреннего к вам благоволения определяем вам ежегодно сорок тысяч злотых[6]6
Около 55 000 рублей золотом.
[Закрыть] на содержание и всякого рода издержки. Кроме того, вы, как верный друг Речи Посполитой, можете сноситься с нашими панами и пользоваться их помощью.
Григорий, теперь уже признанный царевич Димитрий, приложил руку к сердцу и только кланялся. По лицу его текли слезы. Он не мог говорить. За него поблагодарил короля Рангони.
Хотя из кабинета ничего не могло донестись до слуха толпившихся перед дверьми придворных, но, должно быть, у царедворцев есть особенное чутье различать, кто осчастливлен милостью правителя, кто нет, потому что едва новопризнанный царевич появился в дверях, как головы всех низко склонились, и единодушный крик: «Виват, царевич!» – огласил дворец.
Димитрий, теперь мы его будем звать так, величественно поклонился. У него сердце замирало от счастья. Он в эту минуту уже видел себя обладателем необъятной Руси, забыв, что у него еще нет войска, что на московском престоле еще крепко сидит царь Борис Федорович.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































