Текст книги "Волхитка"
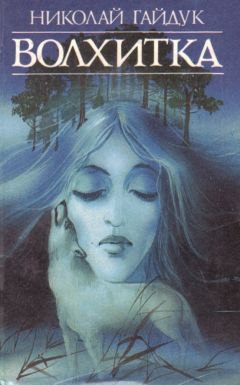
Автор книги: Николай Гайдук
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Об этом – с горечью и грустью – подумал Ярослав, разглядывая современные «склепы» из белого мрамора, опоясанные черными, пудовыми цепями. А ещё он подумал о том, как всё же просто порой – до обидного просто и прозаично – объясняются наши ночные страхи, наши сказки. В темноте недавно миновавшей ночи Ярослав несколько раз как будто бы проваливался в ледяную прорубь – так было страшно в те минуты, когда поблизости под налетающим ветром начинали тихонько брякать вот эти цепи возле могилы; они представлялись цепями треклятого галерника Ярыги.
5
В полях вставало солнце, перепелки возле дороги то и дело взлетали с тёплых гнёзд, упрятанных где-то в разливах пшеницы, в зарослях татарника или степной полыни. От старого дождя, прошедшего тут с неделю назад, в канавах и ложбинах вдоль дороги ещё остались лужи – они теперь сияли, залитые солнцем, бросая блики на траву, растущую поблизости.
Ярослав, заметно постаревший за эту ночь, неторопливо шагал через поле – в сторону ближайшей станции, откуда временами долетал приглушенный грохоток железнодорожного состава, проходящего с запада на восток.
День разгорался. Жаворонок в небе ликовал и не хотелось думать о печальном. Хотелось – о хорошем. Только что же хорошего можно было найти в этих чёрных черновиках – черновиках прошедшей ночи? Ничего страшнее в жизни молодого человека ещё не было и уже, наверное, не будет – страшнее не придумаешь.
Опечаленный, всё ниже и ниже клонящий голову, он прошёл мимо станции. Остановился около обрыва – внизу шумела бурная река, бившаяся грудью в бетонные быки – могучие опоры железнодорожного моста. Призывный голос электровоза, похожего на голос далёкой кукушки, послышался где-то за спиной.
Молодой человек повернулся на этот голос. Пришёл на станцию.
Уже в вагоне, сидя у окна и вспоминая рассказ кладбищенского сторожа, Ярослав подумал: «И всё бы ничего, но где же логика? Ключ-трава, галеры, клад в пещере – всё это время дальней глубокой старины. И вдруг – белогвардейцы. Сталин. Гитлер. Какая-то, простите, каша получается. Где логика?..»
Пассажирский поезд, на котором Ярослав куда-то ехал – через всю Россию – то и дело останавливался на полустанках, станциях, в городах и городках. И чем больше Ярослав смотрел на разноцветную жизнь, мелькавшую на перронах, на полях, на лугах за окном, тем сильнее в нём укреплялась мысль, что весь этот ночной рассказ, услышанный от старого кладбищенского сторожа, имеет простую «железную» логику.
Все эти люди, о которых древний старец рассказал, это были не сыновья Чистякова – это были внуки и даже правнуки. И даже более того – это были не Чистяковы. Разговор был вообще о русских людях, так жестоко, так безумно – или может быть, умно? – миллионами сгубленных в годы гражданской войны, в годы коллективизации, во время раскулачивания и расказачивания.
«Богу или чёрту нужны такие нечаянные судьбы русских сыновей? – угрюмо думал Ярослав, глядя за окно вагона, где проплывали заброшенные поля. – Богу или чёрту? За ответом далеко ходить не надо. Ярыгино семя – крапивное семя – цветёт и размножается! Сколько тут было пшеницы и ржи, сколько тут было гречихи и донника! А теперь – сплошной чертополох!»
За окошком поезда смеркалось, когда молодой человек заметил в сером поле какую-то светлую тень, стремительно бегущую вдоль железной дороги. Скорей всего, что это был зайчишка, испуганный грохотом поезда, или, быть может, выстрелом охотника, не видимого из-за деревьев. Или, быть может, дикая бездомная собака бежала в полях… Но молодой человек, сидящий возле окна, в первую очередь подумал про Волхитку.
И опять ему вспомнился древний кладбищенский сторож, и то, что было рассказано по поводу Волхитки.
6
Большое и весёлое гнездовье Чистяковых опустело; так или иначе, но свершились нечаянные судьбы сыновей. Просторная изба затихла. Хозяйство день за днём стало рушиться. Злата – несчастная мать – поседела, ссутулилась. Мать, на глазах которой, как свечки на ветру, гасли дорогие сыновья – а поначалу без вести Емельян пропал – мать надорвала душу невыносимым горем. И стало у неё в груди однажды легко и пусто, как будто сердце вынули. И она тогда впервые за много-много лет вздохнула свободно, улыбнулась кротко и печально. И улыбка эта уже не покидала просветленного лица.
Злата ушла из деревни своей навсегда.
Говорят – обернулась Волхиткой. Возможно. Только слышно было и другое.
Один из монахов мне рассказывал когда-то удивительную историю о том, что на Афоне в молодости он встречал старинных иконописцев, тех, кто, испокон серьезно занимался богоугодным делом. Такие мастера сначала терпеливо постились и ничего хмельного в рот не брали. Затем грехи смывали в калёной бане, натягивали чистое рубище и тогда только, благословясь, подходили к пустой доске – икону «раскрывать», такое бытовало выражение в кругу иконописцев.
Так вот. Иконописцы на Афоне говорили, что в монастырских кельях был у них в ту пору в работе новый лик – икона Беловодской Богоматери, изначально будто бы писавшаяся с какой-то преподобной Златы. Оригиналов этой иконы – раз-два и обчёлся, а талантливой подделки довольно много. Любители старины, да и просто люди, не равнодушные к истории своей страны, – а таких немало, слава богу – они и теперь ещё могут подобные иконы отыскать. Ведь не всё же спалили, не всё порубили – нет, нет, нет. Кое-что бесценное, бессмертное есть ещё, есть в далёких заповедных уголках, где сохранились нравы и обычаи когда-то процветавшей великой беловодской стороны, по самобытности не знавшей себе равных на Земле.
И если вам однажды посчастливится увидеть оригинал – икону Беловодской Богоматери, эту редчайшую редкость, – ваша душа не сможет не содрогнуться болью и восторгом. Боже святый! Кто это? Кто смотрит в мир людей с этой иконы? Что это за женщина с лицом «скорбящих радостей»? Неужели и она когда-то жила рядом с нами, простыми смертными? И неужели это она – вот эта святая краса – Волхиткой пошла по земле? Неужели?
Вопросов много. Ответов нет.
Загадка века. Тайна мастеров.
Глава двенадцатая. Образ печальный и светлый. Штрихи к незавершенному портрету
1
Я не уверен, что мои корявые штрихи помогут вам дорисовать сакраментальный портрет Волхитки, но промолчать не могу.
Случилось так, что с детства мне была знакома эта «загадка века, тайна мастеров» – икона Беловодской Божьей Матери. Более того, есть у меня в шкатулке одна великолепная деталь – золотая слезинка, так я назвал её, которая могла бы в руках у мастера превратиться в золотую точку для вашей книги…
Но давайте лучше по порядку.
То, что я вам здесь пишу, рассказал мне дед мой, который богомазом был по молодости, покуда руку шрапнелью не рвануло на японской в Порт-Артуре.
История с иконой Беловодской Богоматери случилась в ту пору, когда на русских землях громыхнула революция и антихристы под видом богоборчества – беззастенчиво и ненасытно – пустились грабить наши монастыри, церкви, души…
В хозяйстве, как известно, и пулемёт не помеха, так что же про икону говорить? Вещь необходимая. И вот однажды у одного из деревенских мужиков появилась в хозяйстве оригинальная дверь: огромная икона какой-то богородицы в белоснежных одеждах, в золоченом нимбе с драгоценными каменьями, сверкающими на солнце.
Справедливости ради нужно сказать: это был хороший, хозяйский человек, Виктор Деловитов, Витя, которого сызмальства прозвали – Деловитя. Он был примерный семьянин и любящий отец. Только, видно, был он до того толстокожим и до того оболваненным, оглушенным революционною шумихой – даже сам не ведал, что творит. Это не служит никаким оправданием для Деловити, но…
В общем, дело было так.
2
Река долину распилила в аккурат пополам. На левом берегу остались покосные луга, а на правом – Монастырская пустошь, густо поросшая вереском и папоротником. Неподалёку от пустоши залегали торфяники – вот ими-то как раз и топились монахи, несколько веков тому назад обосновавшие здесь монастырь; камень пришлось добывать им в пяти километрах от пустоши – на плотах и на лодках сплавляли. После революции – года через три – монастырь подняли в воздух при помощи взрывчатки; остались только обломки, зубасто торчащие там и сям. Вольный ветер, какой всегда посвистывал над Монастырской Пустошью, всяких семян горстями набросал на место взрыва. С годами там зазеленела молодая поросль – сосёнки ощетинились, живучие лиственницы. Дорога, каменными плитами вымощенная к монастырю, заросла, задичала. Упали кресты монастырского кладбища и провалились могилки, налитые слезами дождей.
Первое время, когда эта Пустошь не сильно ещё задичала, окрестные парнишки любили тут ошиваться тёплыми летними днями и вечерами, какой-нибудь запойный мужичок или бродяга находил тут приют. Но позднее охотников здесь побывать становилось всё меньше и меньше, а потом и вовсе никто нос совать не решался – дурная слава оградила это место от людей. Только дикие птицы гнёзда свивали в камнях, разорванных чудовищным зарядом тротила. Только зверь какой-нибудь вырывал себе нору среди молодого густого подроста, корнями охватившего фундамент бывшего монастыря.
Виктор Деловитов – Деловитя – несколько лет подряд заглядывал в эти места; торфяники его привлекали; в начале погожего лета он сушил торфяные пласты, а позднее переплавлял на лодке – топился этим торфом едва ли не всю зиму.
А в тот день – в середине июля – Деловитя с необычным каким-то грузом приплыл на лодке с монастырской стороны.
Два рыбака, сидящие с удочками на бережку, в недоумении переглянулись.
– Чего это он поволок?
– Торф. Чего же?
– Ну, ни хрена себе – торф…
– Ну, а что же?
– Да ладно, ты смотри! Клюёт!
– Ох, ты… сорвалось…
– Меньше рот раззявливай. Ушла такая добрая – килограмма на три, на четыре…
У Деловити в лодке была икона – большая, тяжелая. Он выволок её на берег. Взвалил на хребтину – аж треснула косоворотка по шву! – и в горку попёр, буряком наливаясь, кряхтя от натуги.
Небольшой, но аккуратный пятистенок Деловити – на берегу. Не заходя в избу, хозяин взял в сенях ящичек для инструмента – гвозди, щипцы, молоток. Две металлических дверных петли прибил к доске – вверху и внизу. Икона, когда он проткнул её первым гвоздём, словно бы сдавленно охнула – таким каким-то странным звуком отозвалось дерево. Деловитя даже вздрогнул и на мгновенье замер – молоток над головой. Но через мгновенье он опять колотил, как ни в чём не бывало.
Дверь получилась у него. Хорошая, прочная дверь, которую хозяин навесил не где-нибудь, а присобачил – вернее сказать, присвинячил, в свинарнике. Добротный был свинарник у него, только дверь недавно ветром своротило; такой оглашенный порыв налетел, а дверь была открыта – сорвало с петель и раскололо на половинки. Деловитя думал новую сварганить, а тут – почти готовая под руку подвернулась.
– Ну, вот, – поглаживая дверь, сказал хозяин, обращаясь к хавронье. – Теперь сквозить не будет.
– Хрю-хрю, – ответила довольная чушка, лежа в дерьме и благодушно сморщив рыло. – Хрю… хрюновина хорошая!
– А ты как думала? – Хозяин улыбнулся. – Я для тебя ни чо не пожалею.
Эта хавронья – «чугунная чушка», как называл её Деловитя – была таких необъятных размеров, что даже не могла открыть заплывшие салом глаза и не могла перевернуться с боку на бок. Хозяин сам её ворочал каждый день, рискуя заработать грыжу, но опасаясь, как бы у хавроньи не случилось пролежней и сало не пропало бы за здорово живешь.
Собираясь покидать свинарник, Деловитя посмотрел хозяйским глазом по сторонам и нахмурился. «А это что? Откуда кровь?»
А получилось вот что. Икона действительно сдавленно охнула, когда он пробил её первым гвоздём. А второй гвоздина – остроносая новёхонькая двухсотка – с тыльной стороны вдруг все шпоны выбил и проколол Богородице правую руку. И через минуту-другую на грязном полу свинарника можно было увидеть капли свежей крови…
Деловитов подхватил ящик с инструментами и пошёл домой.
– Есть будешь? – спросила жена.
– Ага. Проголодался.
– Ну, присаживайся.
Широко расставив руки – локтями в стол упёрся – хозяин приступил к вечерней трапезе; солнце уже валилось на закат.
Красный луч пробрызнул по столу и отразился в капельке расплавленного жира, плававшего в тарелке.
– Слушай, – вспомнил Деловитя, глядя в тарелку. – Что там за кровь?
– Где? Господь с тобой! Да это жир…
– Да не здесь. В сарайке.
– А-а… – протянула жена, поправляя платок. – В сарайке – это я рубила курицу, а то надоела уже: снесёт яйцо и расклюет, зараза. Да ещё и по соседним гнездам шабрится. Одни убытки с такой несушкой.
– Ну, правильно, нечего пакостить, – сказал хозяин, проворно орудуя ложкой. – А я гляжу: откуда-то свежая накапала…
Хозяйка помолчала.
– Свежая? Да какая – свежая? – удивилась она. – Я давненько уже курку порешила. Ещё с утра, как только ты уехал.
– Ну, не знаю. – Деловитя плечами пожал. – Мне почему-то показалось, будто свежая.
Закат за рекою погас. Воздух сделался пепельно-синим. Жара, весь день давившая, не спешила сдаваться вечерней прохладе. От огорода, от палисадника накатывали медленные волны тёплого воздуха, пропахшего картофельной ботвой, полынками.
В такие часы – после удачного трудового дня – Деловитя любил босиком посидеть на крыльце. Натруженные ноги – они у него были худые, длинные – хозяин через три ступеньки вытягивал аж до последней, четвертой. «Белоручкой меня никто вовек не назовёт, – думал работящий Деловитя, – а вот белоножкой-то можно прозвать. Ишь, какие они, как сметаной обмазаны!»
Вот так сидел он вечером, не спеша курил, пошевеливая натруженными ступнями. И вдруг…
Он даже папироску выронил – чуть брюки не прожёг на самом интересном месте: окурок упал на ширинку.
Возле сарая – со стороны свинарника – вдруг показалась женщина в белом длинном платье; золотистая коса на голове была короной скручена и призрачно сияла в тёплых сумерках… Но это он позднее понял или, вернее, догадался, что это была женщина. А спервоначала Деловитя испугался, да ещё этот окурок, прожигающий брюки…
Короче, он подпрыгнул на крыльце и даже сам не помнит, как в руках у него дробовик оказался – успел смотаться в сени, сграбастать со стены.
– Эй! – заорал он, подбегая. – Кто здесь?
Женщина – как-то очень медленно, величаво – повернулась к нему, взмахнула руками. И вдруг свистящий ветер во дворе поднялся, смерч…
Хозяин со страху нажал на курок – и дробовик разломил тишину…
Где-то вороны закаркали. Собака завыла.
А потом он глядит – никого нету рядом. А вместо какой-то золотистой короны, которая вначале померещилась, – золотистое пламя полыхает на крыше сарая; дробовик закинул искры на соломенную кровлю.
Деловитя кинулся гасить, но пламя на ветру так расходилось, что он бы не управился один: и дом сгорел бы, и амбары… «Свинье скажи спасибо и поцелуй в пятак!» – сердито говорили мужики потом; «чугунная чушка», заживо зажариваясь, разбудила визгом полдеревни.
Когда погасили остатки сарая, нашли обгорелую «дверь», но обгорела она как-то странно, загадочно: силуэт Богородицы как будто бы ножовкой аккуратненько вырезан был на иконе – пусто.
Мужики гадали:
– А может, ты привёз её такую – с дыркой?
– Да зачем она сдалась мне – с дыркой. Сам посуди.
– А без дырки зачем? – сердито спросил кто-то из соседей. – Зачем ты вообще сюда её прибил? Или совсем уж совесть потеряли?
– Да ладно вам лаяться! – одернул громадный мужик, больше всех постаравшийся на этом пожаре. – Ладно, хоть только сарайчик сгорел. А то ведь могло полыхнуть полдеревни.
– В такую сушь – не мудрено.
– Ну, всё, ребята. По домам. Время позднее.
А на другое утро в соседней деревеньке видели какую-то старуху в белом платье. Правая рука у неё была перевязана. Никому и в голову, конечно, не могло прийти, что это образ Богородицы, что она сама сошла с иконы и покинула свинарник. Но поскольку древний дед, рассказавший эту историю, был человеком шибко набожным – он решил про себя именно так.
Парнишка хорошо запомнил дедовы слова: «Христос родился в простом хлеву, но это ещё не значит, что мы должны в свинарниках молиться!» Он забрал ту обгорелую доску на пожарище, залатал её чем-то, залил, загладил и получилась, как он говорил, «настоящая цка». Так называли доску в старину. Парнишка поначалу-то не понимал, что за «цка». И только позднее, когда он повзрослел и начал интересоваться древнерусскими текстами, это словечко стало встречаться. Ну, например, в том месте, где говорится про Ноев Ковчег.
Дед, как было сказано уже, был покалечен во время японской войны. И всё же мастерство – если оно настоящее – даже в самом трудном положении проявляется в человеке. Контуженой рукою дед пытался восстановить «ушедший» образ Беловодской Богоматери. И хорошо у него это стало получаться. И плохо только то, что не успел. Девяносто лет уж было, царство ему небесное.
А перед самой смертью, которую он с утра почуял, дед позвал парнишку к себе и говорит: на пожарище на том, когда сарай сгорел, он подобрал оплавленную каплю золота и почему-то назвал ее «слёзкой».
– Бери, – сказал дед. – И храни.
– А зачем? – спросил парнишка.
– Час пробьёт – узнаешь.
Время шло, и не только часы – годы и годы «пробили» с тех пор. Повзрослел парнишка, но так и не знает пока, зачем эта «слёзка» была ему дадена. Сколько раз у парнишки того – и в детстве и отрочестве – был соблазн променять на что-нибудь эту каплю золота. А позднее хотелось продать, чтобы «слёзка» обернулась черствой, но несказанно радостной и вкусной булкой хлеба. И всегда что-то сдерживало, внутренний голос какой-то всегда ему твердил: «Не хлебом, не хлебом единым!..»
Годы и годы с той поры миновали, и теперь, когда он услышал про Волхитку, он вдруг подумал:
«Как знать! Возможно, эта золотая «слёзка» Беловодской Богоматери – единственное, что сегодня может служить полновесною точкой, какую мастер знает, где поставить в этой истории, а я ума не приложу, что с нею делать. Я только смотрю в глубину прошлых лет – вспоминаю, вздыхаю. А золотая слёзка дрожит на ладони, дрожит под солнцем или под луной, когда я шкатулку достаю в ночи. Слёзка дрожмя дрожит и иногда так обжигает, словно бы только что вынута из пепелища…»
3
Послевоенные годы были не то, чтоб голодные, но и сытыми их тоже парнишка не назовёт…
Вёснами, по первому теплу, когда в борах и в полевом раздолье догорали серые снега, журавли начинали пошумливать в разголубевшемся небе, а на земле подживали битые дороги, – от селения к селению тянулись многочисленные странники с батожками, с котомками. Кто в далёкий город за счастливой долей направлял свои стопы, кто находил работу в соседних деревнях, помогая хозяину с огородом управиться, хату поправить, сарай, заготовить на зиму дрова, кто с протянутой рукой шагал по свету – милостыню просил.
С годами житьё стало получше. Ходоки заметно поредели на дорогах, а вскоре и совсем перевелись. И только одна диковатого вида старуха возникала то и дело за околицей деревни, где стояли три сутулые сосны возле ручья, оседланного небольшим деревянным мостом.
Негромко, неспешно постукивал посох в дрожащей руке, шебуршала драная обувка, волочась подметкой по песку и оставляя протяжный след, «пахнущий волком», если верить окрестной молве, если видеть, как встречали странницу здешние собаки. Со всех сторон сбегались оглашенные барбосы, лаяли без продыху, когтями рвали землю, грызли свежий след и, ощетинясь в бешенстве, разношерстным клубком катились в пыли, наседая на старуху, грозя разорвать, но ни разу не насмелившись заступить за какую-то незримую черту, благодаря которой седая странница давно не обращала внимания на кабысдохов.
Это была местная чудачка – Лиза Солоновская, не помнившая ни долгих лет своих, ни имени. Жила она в соседней деревне – в Солоновке, потому и Солоновскою считалась, а Лиза, потому, наверное, что привычка у неё была такая – облизывала нижнюю губу, точно медом намазана.
Кроме следа, «пахнущего волком», много всяких небылиц о ней ходило: у Лизы где-то спрятан королевский клад. (И сама она – чуть ли не дочь королевы). У Лизы волшебное яблоко есть – с беловодского Древа Жизни. Лиза кровь умеет Словом замораживать. Лиза человека видит как стеклянного – насквозь. Лиза пятое, Лиза десятое…
Кто верил, кто не очень. Парнишка, например, по глупости и слушать эти сказки не хотел. И в самом деле: если ты всё можешь – зачем по белу свету бродишь, побираешься? Достань кубышку, золота отсыпь, сколь надо, и живи себе припеваючи, или наколдуй себе каких-нибудь вареников, поешь от пуза и топай дальше.
Но однажды парнишка убедился в чародействе той странницы.
У них покосы были – две-три луговины за рекой. Встав раненько, до зорьки, парнишка на лодке ушёл на тот берег. Он думал так: «Покуда батя соберется, я уже травы здесь наваляю – будь здоров!»
А в лугах туман ещё кудлатится, солнце только-только показало за рекой багровую горбушку. Плохо видно. Короче, запнулся работничек и распорол литовкой ногу до кости – кровь ударила ключом на клевера…
От боли, от испуга помутилось в голове парнишки. Упал, кричит, визжит… И вдруг он что-то видит, как во сне… Видит плохо, сквозь слезы: откуда-то старуха появляется. Наклонилась над ним и бормочет.
– Летит ворон без крыл, без ног…
То ли это молитва была, то ли заклинание какое. Сколько лет прошло, а в памяти всё звучит скрипучий голос Лизы Солоновской:
– Летит ворон без крыл, без ног, садится Георгию на плечо. Ворон сидит-посиживает, рану потачивает. Ты, ворон, не клюй! Ты, руда, из раны не беги! Ты, ворон, не каркай! Ты руда, не капни! Слово мое крепко!
И что ты думаешь?
Свершилось диво дивное.
Парнишка вдруг услышал: ворон в небе загорланил, хлопнул крыльями неподалеку в тумане, опустился мальчику на правое плечо, холодными когтями сквозь рубаху вцепился в кожу и говорит что-то, хрипит человечьим голосом…
«Бред начинается, – подумал парнишка, – помру, покуда батя приедет на покосы…»
Тучи были над головой. И вдруг – откуда ни возьмись – солнце брызнуло на сенокосный берег. Парнишка посмотрел на рану – глазам не верит.
– Заросла, – пробормотал. – Ни рубца не осталось…
Он смотрел по сторонам – хотел сказать «спасибо!» А сказать-то некому. А где Лиза Солоновская?.. Нет рядом никого. Только ворон ходит по травокосу – по зелёной прибрежной поляне. Ходит, блестящим своим глазом косится на парнишку и вытирает красный клюв о белый клевер – хорошо эта деталь запомнилась.
Потом парнишка встал на раненую ногу: хоть пляши! Не болит! Ну просто чудеса…
Он взял, да и попробовал сплясать.
А тут – как нарочно – отец причалил, поднимается от берега.
– Хорош работничек! – смеётся. – Ты мне всю траву помнёшь! Плясун!
А парнишка ему:
– Ты знаешь, папка! Знаешь, кто тут был? Это колдунья была! Самая настоящая!
– Что за колдунья?
– Лиза Солоновская.
Он рассказал отцу, что тут случилось. Отец посмотрел на ногу и опять смеётся.
– Ох, ты и врать горазд. Лишь бы не работать, да?
Парнишке скучно стало вдруг – доказывать. Это всё равно что ждать да догонять.
– Ладно, – говорит он. – И пошутить нельзя.
И пошли они пластать в две литовки – только шум стоит по-над рекой, на фамильных травокосных полянах. Только цветы букетами валятся под ноги, а те, что попроворней – прочь бегут с дороги, прячутся под берегом, под кустом смородины.
Любил парнишка эти травокосы за рекой. Любил небольшие плоты, на которых они с отцом копны сплавляли на тот берег. Ставили скирду на огороде – до небес доставала макушкой. Опасаясь дождя, который неспроста зовётся дождь-сеногной, они эту скирду накрывали разными клеёнками, кусками шифера – не скирда, а прямо-таки дом какой-то, круглый.
Отец, бывало, похохатывал:
– Без окошек, без дверей, полна горница людей. Что это?
– Огурец.
– Не угадал. Скирда. Вот эта вот.
– А какие люди там?
– А такие же, какие в огурце.
Они смотрели друг на друга и смеялись. Хорошо им было; на всю зиму сена заготовили, так что ж не посмеяться.
И вот зимой однажды, после Рождества, приключалась такая история.
4
После Рождества небольшое, но красивое село всегда стояло в серебряных сугробах «до бровей». Богатые были снега втапоры, как сказали бы в старину. Втапоры – или в ту пору – снеговья под берегом насыпалось столько, что деревьев не видно. А деревья были там под берегом – древние кряжистые тополя – метров двадцать ростом. И от этих тополей-богатырей только веточки там и тут торчали, словно две-три волосинки на макушке. Такие вот были богатые снега. Ага. Ну и дедушка-мороз, конечно, был – нечета сегодняшним заморышам. По дворам да по избам втапоры ходили такие деды – в дверь с трудом протискивались. Сегодняшнего ряженого «деда», который и поздравлять-то начал лишь после обеда, пятая чарка шатает, а десятая замертво может свалить. А прежнего деда – ведёрком самогона не смутишь с утра; дерябнет, крякнет, и закуску забудет спросить; стоит, подлец, и ждёт, когда ему ещё примерно столько же преподнесут.
Ну, это, как вы понимаете, байка про старинного деда-мороза в человеческом облике, что называется. В маскарадном обличии. А были и другие Деды-Морозы, те, о которых сказано: без рук, без ног, а рисовать умеют. Это – настоящий Дед-Мороз. Природный. Это он всегда по улочкам бродил, скрипя снегами, куржаки на деревьях развешивал и искрящимся чистым алмазом резал по оконному стеклу затейливые тонкие узоры.
Но не только этим безобидным и весёлым делом занимался настоящий Дед-Мороз – и человека мог загубить.
Парнишке запомнилось морозное утро. Студёный туман. Воздух прямо под окном стуманился в палисаднике – белым пирогом дрожит.
– А батя где? – спросил русоголовый мальчик, выйдя из детской комнаты.
– Батя в лесу.
– За ёлкой.
– За тёлкой, – проворчала мать. – Погорельцу помогать поехали.
– Какому погорельцу?
– А ты забыл? Заспал?
Парнишка, зевая, почесал затылок и через минуту «вычесал» смутное воспоминание.
– А-а, – сказал он, опять зевнув. – Понятно.
Старшие, среди которых был и отец, с вечера договорились подняться пораньше, и вот теперь они где-то за рекой в бору трудились: погорельцу одному лес помогали готовить для новой избы.
Фамилия погорельца – Кикиморов. Недавно приехал в село. Про него почему-то всякие страсти-мордасти рассказывали; будто какой-то очень далёкий пращур этого Кикиморова – страшный дед Кикимор – с нечистой силой знался; будто бы чёрные дела из поколения в поколение вершились у них в роду. И поэтому, дескать, сегодня Кикиморов этот не знает покоя и вряд ли узнает. За ним, дескать, Волхитка охотится – хочет наказать.
А между тем Кикиморов был неплохой мужик; руками делать многое умел, и языком неплохо балаболил, заслушаться можно. Водочку не то, что не любил, но потреблял умеренно – не в пример иным, берегов не знающим в стакане.
Только вот беда была какая с этим Кикиморовым: нигде не жил подолгу. Не везло человеку: то вешние воды избу подмывать начинают, то молния спалит… Природа не хотела жить с ним по соседству – прогоняла. Так, по крайней мере, говорили знающие люди. Может, за свои грехи рассчитывался этот человек, а может, за далёких пращуров платил – никто не знает.
Кикиморов погорел в деревне Солоновке. Собрал, что уцелело – это под мышкой можно было унести – и перебрался в другую деревню, где жил его хороший друг. Вот он-то, друг, и вызвался помочь валить деревья за рекой в бору, который шумит поблизости: в три-четыре топора жильё можно быстро срубить.
На морозе лишний раз не перекуришь и анекдот не расскажешь, поэтому дело двигалось живо – с хорошим сочным звоном топоры кусали древесину. Строевые кондовые сосны, содрогаясь, рушились на снег, поднимая облака морозной серебристо-липкой пыли, таявшей на розовых щеках лесорубов.
Трудились до последнего закатного луча.
По вечерней дороге на лошадях возвращались мужики до дому. И решили посмотреть покосы: все ли в порядке, не пришел ли сохач из тайги; рогами свернет остожье, распотрошит сенцо, как бывало прошлыми зимами, умоешься тогда слезой – нечем до конца зимы кормить скотину, хоть под нож пускай…
Но встретился им не сохатый – на старую волчицу налетели.
Ухлопали матёрую, необыкновенно белую, словно бы седую по старости годов. Уложили в сани – и домой погнали на рысях.
Жеребец, конечно, заартачился. Морду оскалил. Грива на нём вздыбилась – точно под ветром.
– Как бы он под берег не соскочил с перепугу! – сказал Кикиморов, глядя на испуганного коня.
– Ничего, – говорит возница. – Довезёт. Куда денется.
Конь всю дорогу шатался, как пьяный, храпел со страху и выкручивал глаза – на зверя оглянуться норовил, точно боялся: подпрыгнет зверь и в задницу клыками вцепится.
Человек не чувствовал, а конь беспокоился неспроста: волчица не мёртвая лежала на санях – смертельно раненая.
До села немного оставалось. И вдруг на повороте сивка-бурка споткнулся и заржал, попятившись: хомут на уши нацепил и сбрую перепутал на хребте.
В санях возмущаются: что за оказия?
Пригляделись – снежный бугорочек под кустом волчьего лыка у дороги, из бугорка торчит ботинок: человек замерз, не иначе. Подошли, раскопали и ахнули – Лиза Солоновская лежит с необыкновенною улыбкой на лице, будто видит сладкий сон. Смерть показалась праздником для этой горькой странницы. Возможно ли поверить? Увы, и так бывает… Какую жизнь – без продыха и без просвета! – нужно было прожить горемыке, чтобы с такою благостной улыбкой уходить с земли?!
Погрузили тело в сани – рядом с волчицей.
К селу подъехали, когда звезда над крышей вызрела. Занесли в предбанник Лизу Солоновскую. Простынёй накрыли. Скакуна распрягли, под навес завели, сена дали, горсточку овса – больше нету. И потом уже сами в избу поспешили – к самовару. Сидят, согреваются за столом, о предстоящих похоронах толкуют.
– Надо же, наверно, в милицию заявить?
– А как же? Надо. Мало ли…
– Вот не было заботы! Теперь надо ехать в район с утречка…
– Да зачем же ехать? Можно позвонить.
– А как ты позвонишь теперь, если провод крякнул?
– Как это – крякнул?
– Селезнем. Ты что, не знаешь? Мороз порвал. Такое, видать, натяжение…
Сидят мужики за столом, беседу ведут меж собой. И только погорелец тот – Кикиморов – молчит, угрюмо глушит кипяток и на двери боязливо озирается; почему-то он «слинял с лица», когда увидел окоченевшую странницу; мало того, Кикиморов не захотел в одних санях с покойницей доехать до деревни: боюсь, говорит, я этих покойников; и мужики его пересадили на другие сани.
Мать заглянула в детскую.
– Гриня, ты затопил?
– Давно уже, – сказал парнишка, отрываясь от уроков. – Там, поди, готово.
– Ну, иди, посмотри.
Парнишке нравилось таскать дрова, баньку деревенскую топить. «Работничкам с морозу будет рай!» – говорила мать, когда просила раскочегарить печку в бане, как следует. И он раскочегарил – часа два назад. (Три раза выходил, дровец подкидывал). И вот теперь, когда мать попросила проверить баню, Гриня зашёл в предбанник. А там уже почти Ташкент – стёкла запотели на окне. Плохо видно; зимний вечер на дворе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































