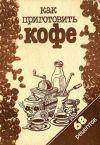Читать книгу "Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания"
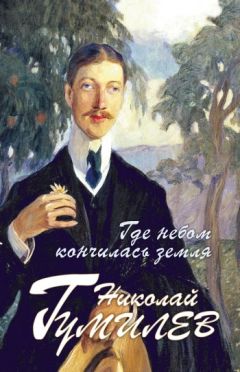
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вы спрашиваете, – зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…»
Гостиницу, одиночество, страх смерти мемуарист, думается, присочинил, памятуя о поздних повестях своего прославленного однофамильца. Остальное отчасти похоже на правду. Выразителен и нарисованный всего в нескольких строках портрет Гумилева: «Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой».
А.Н. Толстому, в принципе, можно верить. От простого знакомства – в письме к В.Я. Брюсову обрисован этот новый знакомый крайне иронически: пишет стихи год, а то и без году неделя, но считает себя мэтром, стихи, между тем, ниже всяких оценок – отношения постепенно переходят к дружбе или хорошему товариществу, а потому в письме к тому же адресату Гумилев сообщает: «Скоро наверное в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся».
Вот только подробности нарисованной сцены смущают. Едва ли можно выжить после приема цианистого калия. Скорее, прав Э. Голлербах, который пишет, что при второй попытке самоубийства Гумилев вскрыл себе вены.

Анна Ахматова. 1910-е гг.
Или, как действительное, Гумилев пересказывал знакомому сюжет упоминавшегося уже рассказа об эфирных видениях? Белые фигуры, пустой пузырек в руке героя этой истории, кто бы им ни был, Гумилев или Грант, наводят на мысль о наркотических галлюцинациях.
И все-таки очевидно – вновь Гумилев пытался покончить с собой, вновь остался жив.
Ему было рано умирать. Переводчик В. Шилейко вспоминал много позднее: «Николай Степанович почему-то думал, что он умрет непременно 53 лет. Я возражал, что поэты рано умирают, или уж глубокими стариками (Тютчев, Вяземский). И тогда Николай Степанович любил общую мысль нашу развивать, что смерть нужно заработать и что природа скорее из человека выжмет все соки, и выжав – выбросит. И Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». Очень часто к этому возвращался. Очень характерна его фраза: «На земле я никакого страха не боюсь, от всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно».
Но какие бы кризисы ни переживал Гумилев, он не переставал писать стихи. Интересуется он и смежными искусствами – все, кроме, разве, музыки Гумилев любил. Да и равнодушие к музыке, по догадке С. Маковского, было напускное, в подражание Теофилю Готье, которым он безмерно восхищался.
О своих занятиях Гумилев сообщает в письмах, адресованных В.Я. Брюсову: «За последнее время я много занимался теорией живописи, а отчасти и театра, читал, посещал выставки и говорил с артистами. Результаты Вы можете видеть в моем письме о «Русской Выставке». Если оно Вас удовлетворяет, может быть, вы сможете мне указать какой-нибудь орган, хотя бы «Раннее Утро», где я мог бы писать постоянные корреспонденции о парижских выставках и театрах. Этим Вы оказали бы мне еще раз большую услугу…»
Мэтр не только в очередной раз помог Гумилеву, он сделал ему царский подарок – статья о выставке с подзаголовком «Письмо из Парижа» увидела свет в № 11 журнала «Весы» за 1907 год.
На взгляд человека искушенного, вкус начинающего рецензента совсем небезупречен, А.Г. Габричевский с плохо скрытым пренебрежением называл манеру Н. Рериха «финским модернизмом», но интересно то, что в сюжетах выставленных картин, в творческих поисках художников Гумилев видит нечто родственное своим собственным взглядам, сходные сюжеты обнаружатся через несколько лет в его стихах: «Из больших картин Рериха наиболее интересна изображающая «Народ курганов», где на фоне северного закатного неба и чернеющих елей застыло сидят некрасивые коренастые люди в звериных шкурах; широкие носы, торчащие скулы – очевидно, финны, Белоглазая Чудь. Эта картина параллельна другой, бывшей в Salon d'Automne. Там тоже северный пейзаж, но уже восход солнца, и вместо финнов – славяне. Великая сказка истории, смена двух рас, рассказана Рерихом так же просто и задумчиво, как она совершилась, давно-давно, среди жалобно шелестящих болотных трав.

В. Шилейко. Фотография, 1920-е гг.
«Песня о викинге» – вещь изысканная по благородству красок, серых, синей и бледно-оранжевой: от сбегающего вечера еще суровее старые стены дедовского дома; белокурая грустная девушка поет о ком-то далеком, а пред нею, среди сверкающего облака, в яростной схватке сшиблись две призрачные ладьи.
«Сокровище Ангелов» – камень с изображением дракона на одной стороне и распятого человека на другой. Это – вековое сопоставление добра и зла, и его ревниво охраняют толпы ангелов, прелестных ангелов XIII века монастырской России.
Интересна была мысль выставить рядом Рериха и Билибина, одного – как представителя скандинавских и отчасти византийских течений в русском искусстве, другого – как поборника течений восточных. Билибину удалось создать ряд вещей чарующих и нежных, les petites merveilles, как сказал один известный француз, говоря о его картинах. Наверно, такие же грезы смущали сон Афанасия Никитина, Божьего человека, когда, опираясь на посох, он шел по бесконечным степям к далекому и чудесному царству Индейскому. Былина о Вольге, это самое величественное произведение русского духа, нашла в Билибине чуткого ценителя и иллюстратора, передавшего всю ее своеобразную красоту. Кроме «Вольги» на выставке есть его иллюстрации к «Золотому петушку», «Царю Салтану» и вещи, рисованные для «Золотого Руна».
Статья «Два салона», посвященная на сей раз, по преимуществу, мастерам иностранным, а также влиянию на современных художников творческой манеры Сезанна и Гогена, увидела свет в журнале «Весы» годом позже, снабженная примечанием: «Редакция помещает это письмо как любопытное свидетельство о взглядах, разделяемых некоторыми кружками молодежи, но не присоединяется к суждениям автора статьи». Примечание говорит само за себя.
С отъездом в Россию Андрея Горенко, кажется, Гумилев отчасти освободился от своих нравственных страданий. Теперь рядом не было человека, который, пусть и невольно, напоминал ему о пережитом поражении. Он общается с М. Фармаковским, посещает выступление японки Сада Якко, которая гастролировала в Европе и Америке вместе с труппой своего мужа, известного актера Отодзиро Каваками. Выступала артистка и в России, но впечатления Гумилева, столь сильные, что он посвятил выступлению Сада Якко сразу два стихотворения, связаны именно с парижскими гастролями.
Мы не ведаем распрей народов, повелительных ссор государей,
Я родился слагателем сказок, Вы – плясуньей, певицей, актрисой.
И в блистательном громе оркестра, в электрическом светлом пожаре
Я любил Ваш задумчивый остров, как он явлен был темной кулисой.
И пока Вы плясали и пели, поднимали кокетливо веер,
С каждым мигом во мне укреплялась золотая веселая вера,
Что созвучна мечта моя с Вашей, что Вам также пленителен север,
Что Вам нравятся яркие взоры в напряженных глубинах партера.
Показательно и восприятие экзотического, чуждого европейскому зрителю искусства в целом (интерес к ориентальному, в том числе, к японскому, был частью моды на все восточное, возникшей после русско-японской войны), и понимание условностей, на которых построено японское драматическое искусство (таково упоминание об острове, «явленном темной кулисой», ведь реалистическая манера игры для японского театра того периода абсолютно нехарактерна).
Второе стихотворение – это попытка описать увиденное, по возможности, подробнее.
В полутемном строгом зале
Пели скрипки, Вы плясали.
Группы бабочек и лилий
На шелку зеленоватом,
Как живые, говорили
С электрическим закатом,
И ложилась тень акаций
На полотна декораций.
Вы казались бонбоньеркой
На изящной этажерке,
И, как беленькие кошки,
Как играющие дети,
Ваши маленькие ножки
Трепетали на паркете,
И жуками золотыми
Нам сияло Ваше имя.
И когда Вы говорили,
Мы далекое любили,
Вы бросали в нас цветами
Незнакомого искусства,
Непонятными словами
Опьяняя наши чувства.
И мы верили, что солнце —
Только вымысел японца.

Сада Якко с мужем. Фотография, 1900-е гг.

Выступление Сада Якко. Фотография, 1900-е гг.
В немалой степени на Гумилева повлияло, кроме представления, и непосредственное общение с актрисой. Вместе с М. Фармаковским они побывали у нее с визитом.
Однако М. Фармаковский вскоре тоже покинул Францию. Теперь, оставшись едва ли не в одиночестве, Гумилев, тем не менее, не отчаивается, а напряженно работает. Он посещает естественнонаучные музеи и зверинцы, в том числе, передвижные. Его интересуют жизнь и нравы животных, Гумилев наблюдает за ними, иногда и по ночам, читает специальную литературу, например, книги А. Брэма. Гумилев начинает мечтать об Африке.
«В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом…» – знакомство с А.Н. Толстым, автором этих строк, приходится на год 1908. Но пока Гумилев интересуется больше не соотечественниками, а представителями стран далеких – неграми, малайцами, сиамцами, среди которых у него появились знакомые.
Характерно и то, что Гумилев, по воспоминаниям, сидя в кафе, не пил ни вина, ни пива, все, что он позволял себе – это гренадин, то есть ликер, сделанный на основе гранатового сока, и черный кофе. О свойствах этих напитков писал еще Папюс: «Алкоголь как возбудительное – одно из самых драгоценных и опасных средств. Действие его в виде водки быстрое, но не продолжительное. Под его влиянием освобождается большое количество нервной силы, а ум как бы освещается богатством и массой возрождающихся идей, сменяющих одна другую. В такую минуту нельзя думать о составлении какого-либо исследования и надо удовольствоваться отметкой отдельных мыслей!
Рюмка водки, выпитая за ½ часа до начала умственных занятий, увеличивает производительность ума, но на самое короткое время».
И далее о ликере: «Рядом с алкоголем надо упомянуть о сахаре, который примешивается к нему в ликерах. Их действие хотя слабее на нервные запасы, но зато они сильно действуют на волю, тогда как алкоголь влияет на чувственность. Ввиду этого следует предпочитать ликер водке, когда предстоит действовать, а не размышлять». Отсюда понятно, почему Гумилев отдает предпочтение гренадину, а не прочим спиртным напиткам.
Кофе в «Практической магии» посвящен особый раздел, и свойства этого напитка, по мнению почтенного автора, в высшей степени полезны: «Кофе – самое сильное возбудительное в отношении продолжения действия. Он имеет два свойства: первое – через час после принятия он действует на нервное сплетение желудка и при содействии теплоты облегчает пищеварение, что представляет в распоряжение ума большее количество нервной силы; второй период действия начинается через два или три часа после приема кофе, когда он оказывает влияние на сферу интеллектуальную, и продолжительность этого действия зависит от количества выпитого кофе, влияние одной чашки кофе длится от одного до двух часов. Так что у выпившего кофе в час дня психическое действие обнаружится к 3-м часам и длится до 5 часов. Начиная с этого времени пустота желудка действует, в свою очередь, возбуждающе, умственная работа становится все легче, при условии не очень утомительных занятий: составление заметок, эскизов, планов, но писать сочинения и исполнять трудную умственную работу следует утром натощак или после легкого, несытного обеда. Есть еще и третье действие, производимое кофе на людей нервных: вслед за окончанием возбуждающего действия является тоска, это явление заслуживает описания.

Парижское кафе. Силуэт Е. Кругликовой, 1910-е гг.
Кофе как возбудительное, предоставляет уму часть запаса нервной силы, помещающегося в ганглиозном сплетении. Сила и напряжение, получаемые организмом от кофе, предоставляют временный подъем духа в ущерб органического запаса; поэтому употребление кофе полезно лишь сильным, а не слабым или анемичным. У человека, находящегося в нормальном состоянии, когда кофе произведя свое интеллектуальное действие и оно было еще увеличено трудом, ощущение пустоты в нервных центрах проявляется в форме грусти и пессимизма, в течение 10—60 минут, которое уничтожается принятием какой-нибудь пищи.
Психическое действие кофе в общем сводится к усилению восприимчивости; поэтому кофе служит изучающему Магию средством для развития артистической восприимчивости. И действительно, дознано, что степень артистической впечатлительности зависит от нервного состояния, а мы знаем, что кофе его возбуждает».
Из всего вышеперечисленного можно заключить – каковы бы ни были вкусы Гумилева, предпочтения его определенно соотносятся с его интересами, в частности, с оккультными занятиями. И то верно, почему русский литератор не пьет крепких напитков или, на худой случай, пива, почему преклоняющийся перед французскими поэтами Гумилев, сидя в парижском кафе, заказывает не абсент, воспетый Бодлером и Верленом, а кофе, пить который впору какому-нибудь Бальзаку? Все это достойно интереса.
Но вернемся к хронике событий. В самом начале 1908 года выходит сборник «Романтические цветы», сборник, которому предпослано посвящение Анне Андреевне Горенко.

Дарственная надпись И.Ф. Анненскому на книге «Романтические цветы»
Из сборника «Романтические цветы»
* * *
Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
Расточил рубины волшебства.
Аромат сжигаемых растений
Открывал пространства без границ,
Где носились сумрачные тени,
То на рыб похожи, то на птиц.
Плакали невидимые струны,
Огненные плавали столбы,
Гордые военные трибуны
Опускали взоры, как рабы.
А царица, тайное тревожа,
Мировой играла крутизной,
И ее атласистая кожа
Опьяняла снежной белизной.
Отданный во власть ее причуде,
Юный маг забыл про все вокруг,
Он смотрел на маленькие груди,
На браслеты вытянутых рук.
Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал все царице беззаконий,
Чем была жива его душа.
А когда на изумрудах Нила
Месяц закачался и поблек,
Бледная царица уронила
Для него алеющий цветок.
* * *
Над тростником медлительного Нила,
Где носятся лишь бабочки да птицы,
Скрывается забытая могила
Преступной, но пленительной царицы.
Ночная мгла несет свои обманы,
Встает луна, как грешная сирена,
Бегут белесоватые туманы,
И из пещеры крадется гиена.
Ее стенанья яростны и грубы,
Ее глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.
«Смотри, луна, влюбленная в безумных,
Смотрите, звезды, стройные виденья,
И темный Нил, владыка вод бесшумных,
И бабочки, и птицы, и растенья.
Смотрите все, как шерсть моя дыбится,
Как блещут взоры злыми огоньками.
Не правда ль, я такая же царица,
Как та, что спит под этими камнями?
В ней билось сердце, полное изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови».
По деревням собаки воют в страхе,
В домах рыдают маленькие дети,
И хмурые хватаются феллахи
За длинные, безжалостные плети.
* * *
Что ты видишь во взоре моем,
В этом бледно-мерцающем взоре?
– «Я в нем вижу глубокое море
С потонувшим большим кораблем.
Тот корабль… величавей, смелее
Не видали над бездной морской.
Колыхались высокие реи,
Трепетала вода за кормой.
И летучие странные рыбы
Покидали подводный предел
И бросали на воздух изгибы
Изумрудно блистающих тел.
Ты стояла на дальнем утесе,
Ты смотрела, звала и ждала,
Ты в последнем веселом матросе
Огневое стремленье зажгла.
И никто никогда не узнает
О безумной, предсмертной борьбе
И о том, где теперь отдыхает
Тот корабль, что стремился к тебе.
И зачем эти тонкие руки
Жемчугами прорезали тьму,
Точно ласточки с песней разлуки,
Точно сны, улетая к нему.
Только тот, кто с тобою, царица,
Только тот вспоминает о нем,
И его голубая гробница
В затуманенном взоре твоем».
* * *
Там, где похоронен старый маг,
Где зияет в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера.
Подожди, погаснет скучный день,
В мире будет тихо, как во храме,
Люцифер прокрадется, как тень,
С тихими вечерними тенями.
Скрытые, незримые для всех,
Сохраним мы нежное молчанье,
Будем слушать серебристый смех
И бессильно-горькое рыданье.
Синий блеск нам взор заворожит,
Фея Маб свои расскажет сказки,
И спугнет, блуждая, Вечный Жид
Бабочек оранжевой окраски.
Но когда воздушный лунный знак
Побледнеет, шествуя к паденью,
Снова станет трупом старый маг,
Люцифер – блуждающею тенью.
Фея Маб на лунном лепестке
Улетит к далекому чертогу,
И, угрюмо посох сжав в руке,
Вечный Жид отправится в дорогу.
И, взойдя на плиты алтаря,
Мы заглянем в узкое оконце,
Чтобы встретить песнею царя —
Золотисто-огненное солнце.
* * *
Мой старый друг, мой верный Дьявол
Пропел мне песенку одну:
– Всю ночь моряк в пучине плавал,
А на заре пошел ко дну.
Кругом вставали волны-стены,
Спадали, вспенивались вновь,
Пред ним неслась белее пены
Его великая любовь.
Он слышал зов, когда он плавал:
«О, верь мне, я не обману…»
Но помни, – молвил умный дьявол, —
Он на заре пошел ко дну.
* * *
За покинутым бедным жилищем,
Где чернеют остатки забора,
Старый ворон с оборванным нищим
О восторгах вели разговоры.
Старый ворон в тревоге всегдашней
Говорил, трепеща от волненья,
Что ему на развалинах башни
Небывалые снились виденья.
Что в полете воздушном и смелом
Он не помнил тоски их жилища
И был лебедем нежным и белым,
Принцем был отвратительный нищий.
Нищий плакал бессильно и глухо,
Ночь тяжелая с неба спустилась,
Проходившая мимо старуха
Учащенно и робко крестилась.
Император Каракалла
III
Призрак какой-то неведомой силы,
Ты ль, указавший законы судьбе,
Ты ль, император, во мраке могилы
Хочешь, чтоб я говорил о тебе?
Горе мне! Я не трибун, не сенатор,
Я только бедный бродячий певец,
И для чего, для чего, император,
Ты на меня возлагаешь венец?
Заперты мне все богатые двери,
И мои бедные сказки-стихи
Слушают только бездомные звери
Да на высоких горах пастухи.
Старый хитон мой изодран и черен,
Очи не зорки, и голос мой слаб,
Но ты сказал, и я буду покорен,
О император, я верный твой раб!
III
Император с профилем орлиным,
С черною, курчавой бородой,
О, каким бы был ты властелином,
Если б не был ты самим собой!
Любопытно-вдумчивая нежность
Словно тень на царственных устах,
Но какая дикая мятежность
Затаилась в сдвинутых бровях!
Образы властительные Рима,
Цезарь, Юлий Август и Помпей —
Это тень, бледна и еле зрима,
Перед тихой тайною твоей.
Кончен ряд железных сновидений,
Тихи гробы сумрачных отцов,
И ласкает быстрый Тибр ступени
Гордо розовеющих дворцов.
Жадность снов в тебе неутолима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.
Но к чему тебе победы в час вечерний,
Если тени упадают ниц,
Если, точно золото на черни,
Видны ноги стройных танцовщиц?
Страстная, как юная тигрица,
Нежная, как лебедь сонных вод,
В темной спальне ждет императрица,
Ждет, дрожа, того, кто не придет.
Там, в твоих садах, безгрешность неба,
Звезды разбросались, как в бреду,
Там, быть может, ты увидел Феба,
Трепетно бродящего в саду.
Как и ты, стрелою снов пронзенный,
С любопытным взором он застыл
Там, где дремлет с Нила привезенный
Темно-изумрудный крокодил.
Словно прихотливые камеи,
Тихие, пустынные сады,
С темных пальм в траву свисают змеи,
Зреют небывалые плоды.
Беспокоен смутный сон растений,
Плавают туманы, точно сны,
В них ночные бабочки, как тени,
С крыльями жемчужной белизны.
И, великой мукою вселенной
На минуту грудь свою омыв,
Ты стоишь божественно-надменный,
Император, ты тогда счастлив.
А потом в твоем зеленом храме,
Медленно, как следует царю,
Ты красиво-мерными стихами
Вызываешь новую зарю.
Мореплаватель Павзаний
С берегов далеких Нила
В Рим привез и шкуры ланей,
И египетские ткани,
И большого крокодила.
Это было в дни безумных
Извращений Каракаллы.
Бог веселых и бездумных
Изукрасил цепью шумных
Толп причудливые скалы.
В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило,
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море,
Чтобы встретить крокодила.
Суетились у галеры
Бородатые скитальцы,
И изящные гетеры
Поднимали в честь Венеры
Точно мраморные пальцы.
И какой-то сказкой чудной,
Нарушителем гармоний,
Крокодил сверкал у судна
Чешуею изумрудной
На серебряном понтоне.