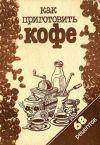Читать книгу "Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания"
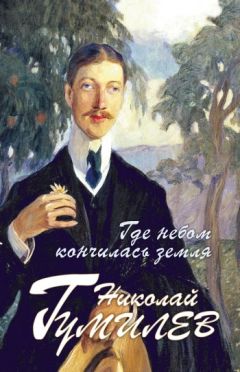
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ахилл и Одиссей
О д и с с е й
Брат мой, я вижу глаза твои тусклые,
Вместо доспехов меха леопарда
С негой обвили могучие мускулы,
Чувствую запах не крови, а нарда.
Сладкими винами кубок твой полнится,
Тщетно вождя ожидают в отряде,
И завивает, как деве, невольница
Черных кудрей твоих длинные пряди.
Ты отдыхаешь под светлыми кущами,
Сердце безгневно и взор твой лилеен,
В час, когда дебри покрыты бегущими,
Поле – телами убитых ахеян.
Каждое утро страдания новые…
Вот, я раскрыл пред тобою одежды.
Видишь, как кровь убегает багровая, —
Это не кровь, это наши надежды.
А х и л л
Брось, Одиссей, это стоны притворные,
Красная кровь вас с землей не разлучит,
А у меня она страшная, черная,
В сердце скопилась, и давит, и мучит.
Любовникам
Печаль их душ родилась возле моря,
В священных рощах девственных наяд,
Чьи песни вечно радостно звучат,
С напевом струн, с игрою ветра споря.
Великий жрец… страннее и суровей
Едва ль была людская красота,
Спокойный взгляд, сомкнутые уста
И на кудрях повязка цвета крови.
Когда вставал туман над водной степью,
Великий жрец творил святой обряд,
И танцы гибких, трепетных наяд
По берегу вились жемчужной цепью.
Из всех одной, пленительней, чем сказка,
Великий жрец оказывал почет,
Он позабыл, что красота влечет,
Что опьяняет красная повязка.
И звезды предрассветные мерцали,
Когда забыл великий жрец обет,
Ее уста не говорили «нет»,
Ее глаза ему не отказали.
И, преданы клеймящему злословью,
Они ушли из тьмы священных рощ
Туда, где их сердец исчезла мощь,
Где их сердца живут одной любовью.
Помпей у пиратов
От кормы, изукрашенной красным,
Дорогие плывут ароматы
В трюм, где скрылись в волненьи опасном
С угрожающим видом пираты.
С затаенною злобой боязни
Говорят, то храбрясь, то бледнея,
И вполголоса требуют казни,
Головы молодого Помпея.
Сколько дней они служат рабами,
То покорно, то с гневом напрасным,
И не смеют бродить под шатрами,
На корме, изукрашенной красным.
Слышен зов. Это голос Помпея,
Окруженного стаей голубок.
Он кричит: «Эй, собаки, живее!
Где вино? Высыхает мой кубок».
И над морем седым и пустынным,
Приподнявшись лениво на локте,
Посыпает толченым рубином
Розоватые длинные ногти.
И, оставив мечтанья о мести,
Умолкают смущенно пираты
И несут, раболепные, вместе
И вино, и цветы, и гранаты.
* * *
Улыбнулась и вздохнула,
Догадавшись о покое,
И последний раз взглянула
На ковры и на обои.
Красный шарик уронила
На вино в узорный кубок
И капризно помочила
В нем кораллы нежных губок.
И живая тень румянца
Заменилась тенью белой,
И, как в странной позе танца,
Искривясь, поникло тело.
И чужие миру звуки
Издалека набегают,
И незримый бисер руки,
Задрожав, перебирают.
На ковре она трепещет,
Точно белая голубка,
А отравленная блещет
Золотая влага кубка.
Влюбленная в дьявола
Что за бледный и красивый рыцарь
Проскакал на вороном коне,
И какая сказочная птица
Кружилась над ним в вышине?
И какой печальный взгляд он бросил
На мое цветное окно,
И зачем мне сделался несносен
Мир родной и знакомый давно?
И зачем мой старший брат в испуге
При дрожащем мерцаньи свечи
Вынимал из погребов кольчуги
И натачивал копья и мечи?
И зачем сегодня в капелле
Все сходились, читали псалмы,
И монахи угрюмые пели
Заклинанья против мрака и тьмы?
И спускался сумрачный астролог
С заклинательной башни в дом,
И зачем был так странно долог
Его спор с моим старым отцом?
Я не знаю, ничего не знаю,
Я еще так молода,
Но я всё же плачу, и рыдаю,
И мечтаю всегда.
Измена
Страшный сон увидел я сегодня:
Снилось мне, что я сверкал на небе,
Но что жизнь, чудовищная сводня,
Выкинула мне недобрый жребий.
Превращен внезапно в ягуара,
Я сгорал от бешеных желаний,
В сердце – пламя жгучего пожара,
В мускулах – безумье содроганий.
И к людскому крался я жилищу
По пустому сумрачному полю
Добывать полуночную пищу,
Богом мне назначенную долю.
И нежданно в темном перелеске
Я увидел стройный образ девы
И запомнил яркие подвески,
Поступь лани, взоры королевы.
«Призрак Счастья, Белая Невеста…» —
Думал я, дрожащий и смущенный,
А она промолвила: «Ни с места!» —
И смотрела тихо и влюбленно.
Я молчал, ее покорный кличу,
Я лежал, ее окован знаком,
И достался, как шакал, в добычу
Набежавшим яростным собакам.
А она прошла за перелеском
Тихими и легкими шагами,
Лунный луч кружился по подвескам,
Звезды говорили с жемчугами.
* * *
Под землей есть тайная пещера,
Там стоят высокие гробницы,
Огненные грезы Люцифера, —
Там блуждают стройные блудницы.
Ты умрешь бесславно иль со славой,
Но придет и властно взглянет в очи
Смерть, старик угрюмый и костлявый,
Нудный и медлительный рабочий.
Понесет тебя по коридорам,
Понесет от башни и до башни,
Со стеклянным выпученным взором
Ты поймешь, что это сон всегдашний.
И когда, упав в твою гробницу,
Ты загрезишь о небесном храме,
Ты увидишь над собой блудницу
С острыми, жемчужными зубами.
Сладко будет ей к тебе приникнуть,
Целовать со злобой бесконечной,
Ты не можешь двинуться и крикнуть…
Это все. И это будет вечно.
* * *
Я долго шел по коридорам,
Кругом, как враг, таилась тишь.
На пришлеца враждебным взором
Смотрели статуи из ниш.
В угрюмом сне застыли вещи,
Был странен серый полумрак,
И, точно маятник зловещий,
Звучал мой одинокий шаг.
И там, где глубже сумрак хмурый,
Мой взор горящий был смущен
Едва заметною фигурой
В тени столпившихся колонн.
Я подошел, и вот мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх:
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.
На острой морде кровь налипла,
Глаза зияли пустотой,
И мерзко крался шепот хриплый:
«Ты сам пришел сюда, ты мой!»
Мгновенья страшные бежали,
И наплывала полумгла,
И бледный ужас повторяли
Бесчисленные зеркала.
* * *
В темных покрывалах летней ночи
Заблудилась юная принцесса.
Плачущей нашел ее рабочий,
Что работал в самой чаще леса.
Он отвел ее в свою избушку,
Угостил лепешкой с горьким салом,
Подложил под голову подушку
И закутал ноги одеялом.
Сам заснул в углу далеком сладко,
Стало тихо тишиной виденья.
Пламенем мелькающим лампадка
Освещала только часть строенья.
Неужели это только тряпки,
Жалкие, ненужные отбросы,
Кроличьи засушенные лапки,
Брошенные на пол папиросы?
Почему же ей ее томленье
Кажется мучительно знакомо
И ей шепчут грязные поленья,
Что она теперь лишь вправду дома?
…Ранним утром заспанный рабочий
Проводил принцессу до опушки,
Но не раз потом в глухие ночи
Проливались слезы об избушке.
* * *
Приближается к Каиру судно
С длинными знаменами Пророка,
По матросам угадать не трудно,
Что они с востока.
Капитан кричит и суетится,
Слышен голос гортанный и резкий,
На снастях видны смуглые лица
И мелькают красные фески.
На пристани толпятся дети,
Забавны их тонкие тельца,
Они сошлись еще на рассвете
Посмотреть, где станут пришельцы.
Аисты сидят на крыше
И вытягивают шеи,
Они всех выше,
И им виднее.
Аисты – воздушные маги,
Им многое ясно и понятно,
Почему у одного бродяги
На щеках багровые пятна.
Аисты кричат над домами,
Но никто не слышит их рассказа,
Что вместе с духами и шелками
Пробирается в город зараза.
Озеро Чад
III
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет,
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав?..
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Барабанный бой племени Бурну
III
Видишь, мчатся обезьяны
С диким криком на лианы,
Что свисают низко, низко?
Слышишь шорох многих ног?
Это значит – близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъяренный носорог.
Видишь общее смятенье,
Слышишь топот? Нет сомненья,
Если даже буйвол сонный
Отступает глубже в грязь,
Но, в нездешнее влюбленный,
Не ищи себе спасенья,
Убегая и таясь.
Встреть спокойно носорога,
Как чудовищного бога,
Посреди лесного храма
Не склони к земле лица,
Если страсть твоя упряма,
Не закрадется тревога
В душу смелого жреца.
Подними высоко руки
С песней счастья и разлуки,
Взоры в розовых туманах
Мысль далеко уведут…
…И из стран обетованных
Нам незримые фелуки
За тобою приплывут.
*
На таинственном озере Чад
Повисают, как змеи, лианы,
Разъяренные звери рычат
И блуждают седые туманы.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются странным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.
*
Я была жена могучего вождя,
Дочь любимая властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала тайны древнего обряда.
Взор мой был бесстрашен, как стрела,
Груди трепетные звали к наслажденью,
Я была нежна и не могла
Не отдаться заревому искушенью.
*
Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал, что я красива,
И красу мою стыдливо
Я дала его губам,
И безумной, знойной ночью
Мы увидели воочью
Счастье, данное богам.
*
Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам…
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
Труп покрытого позором.
*
А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груде
Шкур звериных и тканей восточных,
Я, как птица, неслася на север,
Я, играя, ломала мой веер,
Ожидая восторгов полночных.
Я раздвинула гибкие складки
У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклонялась в оконце…
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.
*
А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я, ненужно-скучная любовница,
Точно вещь, я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтобы жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает…
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.
* * *
Следом за Синдбадом-Мореходом
В чуждых странах я сбирал червонцы
И блуждал по незнакомым водам,
Где, дробясь, пылали блики солнца.
Сколько раз я думал о Синдбаде
И в душе лелеял песни те же,
Было сладко грезить о Багдаде,
Проходя у чуждых побережий.
Но орел, чьи перья – красный пламень,
Что носил богатого Синдбада,
Поднял и швырнул меня на камень,
Где морская веяла прохлада.
Пусть халат мой залит свежей кровью,
В сердце гибель загорелась снами,
Я как мальчик, схваченный любовью
К девушке, окутанной шелками.
Тишина над дальним кругозором,
В мыслях праздник светлого бессилья,
И орел, моим смущенный взором,
Отлетая, распускает крылья.
* * *
Над пучиной в полуденный час
Пляшут искры и солнце лучится,
И рыдает молчанием глаз
Далеко залетевшая птица.
Заманила зеленая сеть
И окутала взоры туманом,
Ей осталось лететь и лететь
До конца над немым океаном.
Прихотливые вихри влекут,
Бесполезны мольбы и усилья,
И на землю ее не вернут
Утомленные белые крылья.
И когда заглянул я в твой взор,
Где печальные скрылись зарницы,
Я увидел в нем тот же позор,
Тот же ужас измученной птицы.
* * *
Мне снилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом,
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.
Когда мы сказали: «Довольно»?
Давно ли, и что это значит?
Но странно, что сердцу не больно,
Что сердце не плачет.
Бессильные чувства так странны,
Застывшие мысли так ясны,
И губы твои не желанны,
Хоть вечно прекрасны.
Свершилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом.
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.
* * *
На руке моей перчатка,
И ее я не сниму,
Под перчаткою загадка,
О которой вспомнить сладко
И которая уводит мысль во тьму.
На руке прикосновенье
Тонких пальцев милых рук,
И как слух мой помнит пенье,
Так хранит их впечатленье
Эластичная перчатка, верный друг.
Есть у каждого загадка,
Уводящая во тьму,
У меня – моя перчатка,
И о ней мне вспомнить сладко,
И ее до новой встречи не сниму.
* * *
Нас было пять… Мы были капитаны,
Водители безумных кораблей,
И мы переплывали океаны,
Позор для Бога, ужас для людей.
Далекие загадочные страны
Нас не пленяли чарою своей,
Нам нравились зияющие раны,
И зарева, и жалкий треск снастей.
Наш взор пленял туманное ненастье,
Что можно видеть, но понять нельзя,
И после смерти наши привиденья
Поднялись, как подводные каменья,
Как прежде, черной гибелью грозя
Искателям неведомого счастья.
* * *
Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны,
Где безумье и ужас от века застыли на всем,
Где гора в отдаленье казалась взъерошенным псом,
Где клокочущей черною медью дышали вулканы.
Были сумерки мира.
Но на небе внезапно качнулась широкая тень,
И кометы, что мчались, как волки свирепы и грубы,
И сшибались друг с другом, оскалив железные зубы,
Закружились, встревоженным воем приветствуя день.
Был испуг ожиданья.
И в терновом венке, под которым сочилася кровь,
Вышла тонкая девушка, нежная в синем сиянье,
И серебряным плугом упорную взрезала новь,
Сочетанья планет ей назначили имя: Страданье.
Это было спасенье.
Автор был сборником по-настоящему или притворно (как разобрать) недоволен, о чем писал в очередном письме В.Я. Брюсову. Нездоровье помешало проследить за печатаньем. Издание, хотя ненамного меньше предыдущего, вышло не в виде книги, а в виде брошюры. Впрочем, авторам почти всегда не нравятся плоды их творчества, всегда представляется, что можно было все сделать лучше, эффектней.
Однако В.Я. Брюсов, которому книга была послана, отозвался о ней положительно, и Гумилев воспрянул духом: «При таком Вашем внимании ко мне я начинаю верить, что из меня может выйти поэт, которого Вы не постыдитесь назвать своим учеником. Тем более, что, насмотревшись картин Gustave'a Moreau и начитавшись парнасцев и оккультистов (увы, очень слабых), я составил себе забавную теорию поэзии, нечто вроде Mallarme, только не идеалистическую, а романтическую, и надеюсь, что она не позволит мне остановиться в развитии. Вы и Ваше творчество играют большую роль в этой теории».
Печатный отклик мэтра – В.Я. Брюсов посвятил гумилевскому сборнику часть статьи «Дебютанты», где анализировались книги шести разных поэтов (среди них П. Потемкин, с которым будет дружен потом Гумилев) – был отнюдь не хвалебным. Впрочем, голосом спокойным и размеренным рецензент говорил вещи обнадеживающие: «Сравнивая «Романтические цветы» с «Путем конквистадоров», видишь, что автор много и упорно работал над своим стихом. Не осталось и следов прежней небрежности размеров, неряшливости рифм, неточности образов. Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и, большею частью, интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой обдуманностью и изысканностью выбирает эпитеты. Часто рука ему еще изменяет, но он – серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добивается».
Сдержанные похвалы сменяются сдержанной же и критикой, доброжелательной и не уязвляющей самолюбие автора: «Лучше удается Н. Гумилеву лирика «объективная», где сам поэт исчезает за нарисованными им образами, где больше дано глазу, чем слуху. В стихах же, где надо передать внутренние переживания музыкой стиха и очарованием слов, Н. Гумилеву часто недостает силы непосредственного внушения. Он немного парнасец в своей поэзии, поэт типа Леконта де Лиля. Стыдливый в своих личных чувствованиях, он избегает говорить от первого лица, почти не выступает с интимными признаниями и предпочитает прикрываться маской того или иного героя. Сближает его с парнасцами и любовь к экзотическим образам: он любит выбирать для своих баллад и маленьких поэм, как декорацию, юг с его пышной пестротой, или причудливость тропических стран, или прошлые века, еще не знавшие монотонности современных дней. Но Н. Гумилев менее сдержан, чем было большинство парнасцев, и его фантазия чертит перед нами несколько угловатые, но смелые линии.
Конечно, несмотря на отдельные удачные пьесы, и «Романтические цветы» – только ученическая книга. Но хочется верить, что Н. Гумилев принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно и по тому самому встающих высоко. Может быть, продолжая работать с той упорностью, как теперь, он сумеет пойти много дальше, чем мы то наметили, откроет в себе возможности, нами не подозреваемые».
Глядя из нынешнего времени, удивляешься терпимости Гумилева, его удивительной для начинающего поэта – именно для начинающего – покладистости, незлобивости. Сейчас бы отзыв, подобный брюсовскому, при всей сдержанности критика, вежливых экивоках, был бы воспринят как отрицательный. Сочинители ждут похвал и не собираются чему бы то ни было учиться. Что ж, изменились и времена, и нравы.
Среди прочих критиков, а про сборник писали такие авторы как П. Пильский, А. Левинсон, В. Гофман, откликнулся на выход «Романтических цветов» И.Ф. Анненский. Он умудрился, сам того не ведая, попасть в точку наиболее болезненную, похвалы его пропитаны едкой иронией – характерное свойство Анненского-критика: «Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.
Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй, даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка – и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток.
Лучшим комментарием к книжке служит слово «Париж» на ее этикетке. Русская книжка, написанная в Париже, навеянная Парижем…»
И, предвосхищая Игоря-Северянина с его убийственной формулировкой «стилистический шарм» (или это северянинская отсылка к давней рецензии?), И.Ф. Анненский замечает: «Почему «мореплаватель Павзаний» и «император Каракалла» должны быть непременно историческими картинами? Для меня довольно, если в красивых ритмах, в нарядных словах, в культурно-прихотливой чуткости восприятий они будут лишь парижски, пусть даже только бульварно-декоративны».
Выход книги – какова бы та ни была – и благожелательные рецензии на нее означали конец одного периода и начало другого. Гумилев работает еще с большим напряжением, экспериментирует в разных жанрах. «Сейчас я пишу философско-поэтический диалог под названием «Дочери Каина», смесь Платона с Флобером, и он угрожает затянуться…», – сообщает поэт в очередном письме В.Я. Брюсову.
Забавно, что Гумилев спрашивает совета у старшего наставника даже в таких случаях, когда, казалось бы, человек должен решать сам. Но, с другой стороны, вопрос, вставший перед Гумилевым, отнюдь не бытовой, дело касается главного – поэтического поприща: «Я хочу попросить у Вас совета как у maitre'a, в руках которого находится развитие моего таланта. Обстоятельства хотят моего окончательного переезда в Россию (в Петербург), но не повредит ли мне это как поэту. Тогда их можно устранить. Сообщите мне Ваше мнение, и оно будет играть роль в моем решении. Конечно, я напомню Вам Джеромовского юношу, который вечно жил советами, но Ваше влияние на меня было до сих пор так благотворно, что я действую по опыту…»
Письмо было датировано шестым апреля, а двадцатого апреля Гумилев выехал в Россию, едва ли не опережая письмо с ответом В.Я. Брюсова.
Гумилев ехал в Севастополь, но не пароходом, а поездом. Он хотел первым делом увидеться с Анной Горенко.
Встреча состоялась. И в ответ на очередное предложение Гумилев получил очередной отказ. Намечался полный разрыв отношений. Молодые люди вернули подарки, которые дарили друг другу. Гумилеву не нужно было ничего, он хотел получить только подаренную им чадру, потому что ее носила Анна. Вещь помнила ее прикосновения. Но именно чадру, в отличие от браслетов и других подарков, Анна отдавать не хотела. Ссылалась на то, что чадра сильно изношена. Так, собственно, и было, однако в ответе слышалась особая дерзость. Чадру Гумилев так и не получил.
В Севастополе после отказа оставаться не было никакого смысла. Гумилев отправляется в Царское Село. Заехав по дороге в Москву, он нанес визит В.Я. Брюсову, во время которого сделал дарственную надпись на сборнике «Романтические цветы».
Этим летом он в последний раз был в имении Березки, поскольку у семьи появилось другое имение, Слепнево, куда он попал впервые. Со Слепнево будут связаны многие воспоминания, поскольку в жизни Гумилева это место сыграет немалую роль.
Мать Гумилева рассказывала: «Слепнево последнее время было 125 десятин (когда оно нам перешло от брата Льва Ивановича). Жена брата – Любовь Владимировна (урожденная Сахацкая) получила его в пожизненное владение, и после ее кончины оно перешло к нам троим, на три доли пришлось: Варваре Ивановне, Агате Ивановне и Анне Ивановне, но Агаты Ивановны не было в живых и значит – ее сыну – Борису Владимировичу. Я вместе с Констанцией Фридольфовной пополам купили часть, принадлежавшую Борису Владимировичу Покровскому, а Варвара Ивановна передала свою часть Констанции Фридольфовне, так, что в последнее время все имение принадлежало нам – мне и Констанции Фридольфовне пополам».
После возвращения из Франции вообще произошло немало важных событий. Гумилев поступил на юридический факультет Петербургского университета (впоследствии он поймет, что юриспруденция не его призвание и перейдет на факультет историко-филологический).
К этому же времени – лето 1908 года – относится и общение с И.Ф. Анненским. Теперь такое общение было и уместно, и даже логично. То, что старый поэт обратил внимание на Гумилева, когда был еще директором гимназии, где тот учился, конечно же, неуклюжие домыслы. Задним числом доброжелатели хотят возвеличить Гумилева, который в этом совсем не нуждается. Да, кроме того, домыслы подобного рода отрицают чрезвычайно важную вещь: Гумилев-поэт вызревал долго, преодолевая в себе и банальность, и пустословие. Достигнутое тяжким трудом пытаются представить чудесным образом дарованным с самого начала. Но ведь ранние стихи Гумилева особой ценности не имеют. Отчего же И.Ф. Анненский должен был отличать юношу в толпе таких же, ничем особенно не выделяющихся молодых людей? Мысль эту по-своему высказывает и С. Маковский: «Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского о давнишней их близости. Неправдоподобным кажется мне, чтобы Анненский, ревниво оберегавший свою музу от слуха «непосвященного» и особенно удрученный тогда службой, своим «постылым» и «тягостным делом», как он жаловался в письме кому-то из друзей, находил время для ничем еще своего таланта не выразившего гимназиста и, сразу отгадав его дарование, «с вниманием следил за его первыми литературными трудами» и убеждался постепенно, «что он имеет дело с подлинным поэтом». Не миф ли это? Если Иннокентию Федоровичу за эти годы и довелось читать стихи Гумилева, то вряд ли обратил он на них особое внимание. В первый сборник «Путь конквистадоров» Николай Степанович поместил лучшие из своих гимназических строк, но в них никак не чувствуется учебы у Анненского, хоть и сквозят они переводами Бодлера, Анри де Ренье, Верлена и др. Впоследствии Гумилев не включал эти «пробы пера» в свои сборники».

Анна Ахматова
После выхода сборника «Романтические цветы» («…это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что, собственно, оно значит», – писал в рецензии И.Ф. Анненский), Гумилев имел возможность с большим основанием называть себя поэтом. Иронически-благожелательный отзыв автора «Тихих песен» тому подтверждение.
К 1908 году относится и тесное общение с семьей Аренсов, матерью и тремя дочерьми, знакомыми по Царскому Селу. Все три сестры так или иначе были связаны с Гумилевым связями более чем дружескими. Зоя была влюблена в Гумилева, однако влюблена без взаимности, доходило до смешного (впрочем, и драматического, как посмотреть): когда Зоя с матерью посетила дом Гумилевых, предмет ее мечтаний вышел в соседнюю комнату, где и задремал. Другая сестра, Вера, удостоилась внимания. С ней у Гумилева было, кажется, нечто среднее между флиртом и дружбой. Гумилев беседовал с девушкой, в том числе и в письмах: «Мне очень интересно, какое стихотворение Вы предположили написанным для Вас. Это – «Сады моей души». Вы были правы, думая, что я не соглашусь с Вашим взглядом на Уайльда. Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого мрамора высекаются самые дивные статуи?»
С третьей сестрой, Лидой, у Гумилева был роман. Причем последствия были тяжелыми. Девушка ушла из семьи, жила отдельно – по тем временам поступок абсолютно предосудительный. А. Ахматовой, которой после женитьбы на ней Гумилев рассказывал о своих прошлых и настоящих романах, об отношениях с Лидой Аренс он не сказал ни слова, что само по себе очень красноречиво.
А. Ахматова предполагала, что Лиде Аренс посвящены два стихотворения, которые впоследствии были включены в сборник «Жемчуга». Первое стихотворение – «Свиданье».
Сегодня ты придешь ко мне,
Сегодня я пойму,
Зачем так странно при Луне
Остаться одному.
Ты остановишься, бледна,
И тихо сбросишь плащ.
Не так ли полная Луна
Встает из темных чащ?
И, околдованный Луной,
Окованный тобой,
Я буду счастлив тишиной,
И мраком, и судьбой.
Так зверь безрадостных лесов,
Почуявший весну,
Внимает шороху часов
И смотрит на Луну,
И тихо крадется в овраг
Будить ночные сны,
И согласует легкий шаг
С движением Луны.
Как он, и я хочу молчать,
Тоскуя и любя,
С тревогой древнею встречать
Мою Луну, тебя.
Проходит миг, ты не со мной,
И снова день и мрак,
Но, обожженная Луной,
Душа хранит твой знак.
Соединяющий тела
Их разлучает вновь,
Но, как Луна, всегда светла
Полночная любовь.
В сборнике «Жемчуга» это стихотворение поставлено за стихотворением «Уходящей», но здесь эти стихи даны, как того требует художественная логика.
Не медной музыкой фанфар,
Не грохотом рогов
Я мой приветствовал пожар
И сон твоих шагов. —
Сковала бледные уста
Святая Тишина,
И в небе знаменем Христа
Сияла нам луна.
И рокотали соловьи
О Розе Горних стран,
Когда глаза мои, твои
Заворожил туман.
И вот теперь, когда с тобой
Я здесь последний раз,
Слезы ни флейта, ни гобой
Не вызовут из глаз.
Теперь душа твоя мертва,
Мечта твоя темна,
А мне все те ж твердит слова
Святая Тишина.
Соединяющий тела
Их разлучает вновь,
Но будет жизнь моя светла,
Пока жива любовь.

Вера, Зоя и Анна Аренс. Фотография, ок. 1910 г.
Когда А. Ахматова (конечно же, Горенко, но постоянная отсылка к девичьей фамилии немало мешает и даже сбивает с толку) приезжала летом ненадолго из Киева, Гумилев опять говорил ей о своих чувствах. Между тем, роман с Лидией Аренс был, должно быть, в самом разгаре.
Впрочем, Гумилев любил находиться в приятном обществе и других сестер. Так, в сопровождении Веры и Зои оказался он на Царскосельском вокзале, когда А. Ахматова, проведав подругу В. Срезневскую, собиралась уже уезжать. Она послала Гумилеву записку, ждала его на вокзале, тот все не появлялся. И оказался на вокзале совершенно случайно, записки он не получил.
Зная обо всем этом – романе, вполне взрослом, с нешуточными страстями, фатовстве, отчасти легкомыслии – странно читать письма Гумилева, адресованные В.Я. Брюсову, настолько содержание их не вяжется с обликом повзрослевшего Гумилева: «Вы были моим покровителем, а я ищу в Вас «учителя» и жду формул деятельности, которым я поверю не из каких-нибудь соображений (хотя бы и высшего порядка), а вполне инстинктивно… И мне кажется, чем решительнее, чем определеннее будут Ваши советы, тем больше пользы мне они принесут. Впрочем, делайте, что найдете нужным и удобным: уже давно я Вам сказал, что отдаю в Ваши руки развитие моего таланта, и Вы вовремя не отказались… Жду «Романтических Цветов» с Вашими пометками. На всякий случай посылаю еще экземпляр».
Это едва ли не анекдот – засыпать рассудочнейшего, обязательнейшего В.Я. Брюсова экземплярами своего сборника. Эдак у него скопится весь тираж.
Постепенно Гумилев приходит к мысли, что путь к самосовершенствованию возможен не только через размышления, но и через поступки. Наступала пора действовать. В июне он сообщает В.Я. Брюсову: «Я помню Ваши предостереженья об опасности успехов и осенью думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова, которых мне так недостает. А успехи действительно есть: до сих пор ни один из моих рассказов не был отвергнут для напечатания. «Русская мысль» взяла два мои рассказа и по моей просьбе (о ней ниже) напечатает их в августе, «Речь» взяла три и просит еще. Но я чувствую, что теоретически я уже перерос мою прозу, и чтобы отделаться от этого цикла моих мыслей, я хочу до отъезда (приблизительно в сентябре) издать книгу рассказов и затем до возвращенья не печатать ничего».
В сентябре, заехав в Киев, чтобы попрощаться перед дальним путешествием (в Киеве провел он два дня), Гумилев едет в Одессу и оттуда 10 числа на пароходе отплывает в Александрию. Как тут не возомнить себя Одиссеем? Стихи, написанные чуть позже и вошедшие в сборник «Жемчуга», проникнуты чувствами, которые автор испытал именно тогда.

Царское Село, вокзал. Открытка,1900-е гг
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!