Текст книги "Ночь, когда мы исчезли"
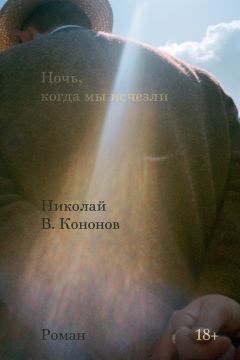
Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Сдерживая гнев, я молчала, но своими взглядами и нависшим ожиданием ответа вопрошатели давили так сильно, что мои мышцы предательски среагировали и я выдавила из себя, что женщины солидарны с позицией священства. Немцы засмеялись, и с ними, о ужас, заулыбались Гримм и мой муж.
Рост смотрел на меня всю дорогу домой со значением и с сожалением, но я продолжала молчать и вошла в квартиру с настолько опрокинутым лицом, что он тут же поставил чайник греметь и осторожно обнял меня за плечи. Выслушав мою гневную речь, он не стал возражать и расставил шахматы. Играя сразу за белых и чёрных, он произнёс следующее.
– Мы не понимаем, как неожиданно и чудесно мы счастливы. Наша вера – это униформа, одежда роскошного качества, которая позволяет нам в миру одеваться в лохмотья – то есть, если без иносказаний, мы можем не игнорировать оскорбляющих нас, а наоборот, питаться их пренебрежением и ненавистью. Ведь невозможно же уязвить нас, христиан, растоптав нашу гордость, потому что мы сами сражаемся с гордостью и охотно ставим себя ниже других – как грешников, конечно. Как «от них же первый есмь аз». Такова наша тайная свобода самоуничижения, которая делает нас неуязвимыми для чьих-либо оскорблений.
Я поняла, что все они имеют в виду под смирением, успокоилась и несколько месяцев пользовалась этой уловкой для самооправдания. Чем тяжелее я истязала себя покаянными канонами, кафизмами, шестьюдесятью «господи, помилуй» и другими упражнениями, тем острее переживалось мною наслаждение быть особенной и одновременно любить тех несмысшлёных, кто ещё не уяснил, что мир безнадёжно пал.
Обо всех повешенных и запытанных мы молились, зная, что им уготована лучшая доля и единственное, что мы можем сделать, это проводить отлетающие души молитвой. «Нет, – говорил Рост, – солидаризм лишь идейная оболочка, а Россия лишь приложение наших стремлений. На самом же деле мы подпольщики Господа на Земле».
Я принялась проповедовать со всей горячностью, даже в своей семилетке. Сразу несколько учеников отправились к отцу Александру под епитрахиль. У меня копились вопросы о сути нашего подпольщического труда и ожидании чуда – точнее, приближения к нему, – но я откладывала их, наставляемая, что всякая душевная работа должна происходить медленно.
Тем временем экзархия предложила устроить меня в отдел образования, где требовался секретарь по делам школ, который отвечает за учебные планы. Преподавать по большевистским учебникам запрещалось, а новые только-только появлялись. Что ж, я взялась.
Кончался второй год войны, когда к нам на квартиру пришёл господин с меховым воротником и в шляпе с ложбинкой. Стянув перчатки, он протянул руку дружелюбно и покровительственно. Спросил, где Рост, получил ответ, что того не будет до позднего вечера, собрался уже уходить, но задержал взгляд на мне. Господину было около пятидесяти лет.
«А что, девочка, – молвил он с сочувствием, – верно, так же лучше, чем большевистские бредни людям в голову вкладывать?» – «Вы о чём говорите? Вы по какому поводу?» – «Ты же… педагогический институт… три курса… учительствуешь, так?» Он развернул удостоверение с фамилией Завалишин и должностью «корреспондент, газета „За Родину“».
О, это была газета для самых простых читателей. Её редакторы выдумали старушку Домну Евстигнеевну, которая раз в неделю в специальной рубрике растолковывала народу, какие мерзавцы большевики. Немцы почему-то считали, что на захваченных землях остался хоть кто-то, кому это надо доказывать…
Я слушала корреспондента и понимала, что так и не научилась сбивать тех, кто мне что-то указывает с превосходством, потому что росла в мире, настаивавшем, что старшие знают нечто такое, что можно понять, лишь прожив столько, сколько они, и за одно это их следует уважать. Детство как бы состояло в услужении у опыта, я не могла сломать это правило в себе и не стала требовать от Завалишина переходить на «вы».
«Как же хорошо, какая удача, – продолжал он. – Наверняка у Ростислава Игоревича есть чему поучиться не только в благородных манерах. О его стиле преподавания рассказывают превосходно, будто о страстной проповеди».
Меня за горло схватило чувство, которого я испугалась и о котором исповедовалась как об ущемлённой гордости и зависти, подступившей, несмотря на всю глубину моего растворения в муже. Учтиво опустив подбородок, я спросила, что всё-таки угодно газете «За Родину». «Редактор очень хотел бы статью о семье, – ответил Завалишин, – которая знаменует союз старой и новой России, непрерывность связи между потомком воинов, сопротивлявшихся большевикам, и вами, бывшей подсоветской, а ныне начавшей новую жизнь девушкой».
Всё ещё уязвлённая, я решила-таки задавить гордыню (да, я уже выучила это слово) и подчинить свою волю замыслу, предназначению – то есть распространению веры, замене материализма на религиозное, мистическое чувство Божьей любви. Я не стала ни о чём спорить и позвала газетчика на вечер понедельника.
В субботу же я пришла на всенощную и услышала раздражённые голоса, бубнившие поперёк службы. Приблизившись, я увидела растерянные глаза свечницы, а затем, справа, у иконы Рождества, троих: офицера, старика в очках и великана в штатском. Ничуть не стараясь приглушить го́лоса, они спорили на немецком. Старик доказывал что-то касаемо иконы и вдруг тронул ногтём слой краски у ножки младенца Христа и чуть надрезал его.
Что-то взорвалось во мне, я подлетела к ним и сказала на недоученном немецком: «Это церковь. Здесь идёт служба. Снимите, пожалуйста, шапки и не говорите так громко». Старик не обратил на меня никакого внимания и продолжал объяснять, тыкая ногтем уже в лик Богородицы. Я протянула руку, чтобы постучать его по плечу, но офицер ударил меня по руке сверху и крикнул: «Стоять! Пошла!»
Окрик всё расставил по местам. Кто была я, до какой степени простиралась моя свобода воли и где проходила – вернее, почему отсутствовала – граница между насилием в одном только голосе офицера и насилием, которое совершается действием.
Моё смирение, моё послушание и защита верой рассыпались. Я хотела было вежливо разъяснить что-то хамам, но голос пропал и выяснилось истинное положение дел – беспомощность. В окрике офицера было что-то, что прекращало моё существование как человека.
Завалишин явился на полчаса раньше назначенного, но мы были уже дома. Вместе с собой он привёл фотографа. «Наденьте самое красивое, что у вас есть, нам предстоит съёмка», – сказал тот, осмотревшись в нашей комнате. Я передёрнулась, но достала платье.
«Это достаточно нарядное». Фотограф пригляделся с сомнением и указал на стол. «Накройте скатертью и, если у вас есть сервиз, расставьте». Рост направился к шкафу за скатертью. Завалишин добавил: «Господин фотограф очень строгий, я сам слушаюсь его с величайшим почтением, а пока он настраивает аппаратуру, давайте поговорим».
Втроём мы сели за стол, и Завалишин стал спрашивать Роста. Он, конечно, мигом вцепился в сараевское детство и ловко выскреб из Роста разные живописные подробности. Тот рассказывал, не скупясь, и газетчик наконец сказал: «А знаете, я вам очень, конечно, завидую. Предложили быть мне сжечь всю подсоветскую жизнь и прожить, трудясь где-нибудь на заводе или подметая улицы в свободной стране, – согласился бы не думая!» Рост покивал, но больше откровенничать не стал.
«Что ж, – сказал Завалишин, – а Вера… как ваше отчество? Степановна?.. Как вы её увидели, какой вам показалась девушка, выросшая в большевистской клетке?» Рост смутился и начал рассуждать издалека, приравнивая имя Вера к православной вере и так далее. Закончил тем, что ему показалось чудом, что в душе у студентки, родившейся после революции, выжила тяга к чудесному.
Мне надоело ждать, когда газетчик спросит меня хоть о чём-нибудь, – да и было противно, уже ничего не хотелось. Я встала и сказала: «Мне нужно в управление». «Подождите, – вскочил Завалишин, – я хотел спросить об идеале семьи! Немцы любят читать о перенятых традициях. Муж – глава семьи, жена – его уважаемый помощник. Как вам нравится такое после большевистского приравнивания женщины к орудию труда?»
Тут вмешался Рост. «Знаете, – сказал он, – нам важны именно русские традиции. Они могут, конечно, совпадать с немецкими, но мы давно дошли до взаимного почитания и уважения к традиции, когда мужчина строит, созидает, обеспечивает кров и достаток, а женщина наделяет всё это гармонией, создаёт эдакий купол дома, под которым всем хорошо и покойно».
Я заговорила об учебниках, о том, как важно рассказывать детям о русской истории иначе, показывая её связь с европейской, но Завалишин, поглядев на часы, свернул разговор и откланялся. Фотограф воскликнул: «Наконец-то! Вы усаживайтесь сюда, а вы вставайте справа. Пожалуйста, руку на плечо мужа». Я положила, но после нескольких кадров сняла и отодвинулась. «Прекрасно! Теперь наливайте чай в чашку». Стараясь улыбаться, я выполнила указание. Рост привлёк меня за талию, и затвор клацнул ещё несколько раз.
Захлопнув за ним дверь, Рост выждал минуту и раздражённо заговорил: «Газетчики, они везде одинаковы. Германские, видишь ли, у них традиции…»
Всё скопившееся и бурлившее во мне поднялось, и впервые я захотела говорить о том, что раньше казалось стыдной, пошлой перед лицом вечности темой, о чём никто из нашего окружения не говорил.
«При чём здесь германские ли, русские? Унижение одно, и ты его поддержал. Есть господин, а есть раб. Я дважды раб: перед немцами и перед тобой». – «Что?!» – «Да вот что: ты сам не очень-то человек со своим нансеновым паспортом, но я вообще – и для газетчика, и для фотографа, и для тебя – вроде прислуги или питомца». – «Как ты можешь так говорить? Я не ставлю себя выше!» – «Ты не замечаешь ничего. Ни того, что я не хочу разыгрывать из себя служанку благочестивого эмигранта, который женился на подсоветской простушке. Ни того, что я не хочу разыгрывать из себя матушку, как Елена. Ни того, что меня коробит твоя забота и попечительство…»
Рост опешил настолько, что даже не стал зажигать чайник, как делал всегда во время чувствительных бесед. «Да, теперь я понимаю, что действительно ничего не понимаю! Мы же, кажется, уяснили, что для христианина оскорбление – это почесть, и мы благодарим поносящих нас, а не обижаемся, как на этого корреспондента. Но это ладно, это в сторону… Главное другое: неужели тебе не нравится, что я тебя всегда защищаю, уважаю?» – «Я не знаю, в чём дело, но я уже не верю в эту почесть. И да, мне нужна забота, только когда я о ней прошу. Понимаешь, то, как немцы и этот газетчик со мной обращаются, просто уничтожает во мне личность, данную Богом… Впрочем, они – пусть! Но почему ты поддерживаешь?» – «Что я поддерживаю?! Господь сказал: „Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью…“»
Я споткнулась. Впервые за много месяцев я почувствовала рядом мать. Никогда у меня не получалось вместить, что одной рукой мать передала мне ту часть своей души, которая умела жить без обмана, а другой таскала за волосы. И теперь одна моя половина ясно видела, что рабовладельческим отношением к женщинам поражены самые разные мужчины, даже такие необычные, как Рост, а другая половина боялась ссоры с кем бы то ни было, даже с близким человеком. Само тело восставало: я вновь ощущала холод и чуть тряслась, как от озноба, хотя было прилично натоплено.
Рост всего это не понимал и смотрел на меня обиженно, как ребёнок. Было бесполезно объяснять ему что-то сейчас. Мы глядели друг на друга, как куклы из вертепа. Я поняла, что его страсть к проповеди и учению, осторожность и упрямство в подпольной работе существуют в нём за счёт блаженности и наивности во всём остальном.
После визита газетчика мы не разговаривали с неделю. Потом нам принесли номер «За Родину». Статья оказалась крошечной и сдержанной, зато фотография – отчётливой и широкой. Редактор выбрал снимок, где Рост сидит, а я стою за его плечом. Он спрятал газету с глаз долой, и мы помирились, но не только жизнь наша, но и личная моя вера дала трещину, и эта трещина только росла.
Полтора года я проживала каждую литургию как настоящие страсти Христа, посланного пострадать за людей. Я донимала отца Александра богословскими вопросами вроде того, почему у животных нет души и они лишены бытия с Богом и откуда вообще взялась идея о душе. Но глаза мои привыкали к полутьме храма, и, всматриваясь, я постепенно понимала, что чудес ни в каком смысле не происходит. Я догадалась, отчего отец Александр служит театрально и формалистически – потому что невозможно имитировать горение на каждой литургии.
Как я себя ни убеждала, мне было слишком трудно принять идею посмертной жизни и Бога-творца просто так: нерассуждающе, некритично, на веру.
Хуже того, я чувствовала, что моя религиозная страсть перерождается во что-то другое. Я теряла смысл, и каждый новый день в церкви становился всё более скучным и наполненным действиями, о которых никто не понимал, зачем они нужны и что значат.
А после того как меня стали посылать на заседания экзархата, я и вовсе будто сняла купол с крестами, как крышку часов, заглянула в недра вертящихся внутри шестерёнок и обнаружила там нечто противоположное замыслу.
6. …c5
Асте ВороновойРю де ля Монтань, Сент-Женевьев, 20, 75005, Париж, ФранцияВера ЕльчаниноваБекстер-авеню, 18, Нью-Йорк, 11040, США
Из Риги всё чаще являлись чиновники. Псковская миссия была чем-то вроде наблюдательного поста для экзархата. Чаще других наведывался Гримм. Немного последив за ним, я убедилась, что этот скучный остзейский немец был хитрым и изобретательным бюрократом. Не имея никакого сана, он прибрал нас всех – и священников, и учителей – к своим рукам и обделывал за митрополита Сергия самые важные дела.
Дело было в том, что священники не любили Сергия за его советскую карьеру от семинариста до архиепископа. Сергий всегда стремился всех уверить, что большевики его арестовывали за веру и попечение о клире, – но всё равно многое в его историях вызывало сомнение. Например, чекисты никогда не держали его в тюрьме подолгу. Возможно, запугивали, а потом вербовали себе на службу или, наоборот, подготавливали репутацию мученика.
Когда Красная армия отступала, Сергий спрятался от особистов в подвале и дождался немцев. Он понравился службе политической безопасности, нуждавшейся в агентах, которым бы доверял православный народ. К тому же Сергий был оратором. То, с каким чувством он управлял диспутом, выдавало страсть повелевать. Ему выпал шанс стать владыкой православной церкви на всех поднемецких территориях, но ожидания не спешили сбываться: немцы обещали владычество не сразу, а после победы над коммунизмом. Что ж, Сергий готовился: сдвигал брови, укреплял голос и читал проповеди, обращаясь ко всему народу, а не к прихожанам.
На одном из собраний заспорили, следует ли поминать на общей молитве патриарха Московского, чтобы показывать людям преемственность и единство с русской церковью. Гримм настаивал, что необходимо как можно деликатнее преподнести немцам, что русских оттолкнёт необходимость молиться о епископе Берлинском. «Можно подумать, большая разница, если вслед за патриархом молятся за Гитлера», – шепнула я Росту чуть громче, чем следовало, и встретила осуждающий взгляд его глаз. Они приобрели неизвестный доселе оттенок. «Ты стала какой-то враждебной. Церковь действует в имеющихся обстоятельствах, и поминание патриарха – важный вопрос…»
Экзархат приободрился, когда пришли известия, что вермахт захватил в плен советского генерала по фамилии Власов и надеется собрать вокруг него освободительное движение. Ожидалось, что, поверив авторитету генерала, красноармейцы повернут оружие против Сталина.
Вблизи Пскова уже месяц стояли части освободительной армии, которые были набраны из пленных, доведённых до крайнего истощения. Сергий велел ещё одному священнику-солидаристу, отцу Бенигсену, окормлять их, но тот не спешил связываться с вермахтом и отчитался Сергию, что сначала выгоднее оценить шансы Власова на личной встрече. Генерал должен был приехать во Псков и выступать перед народом.
Тридцатого апреля городской театр, который разрешалось посещать только немцам, украсили еловыми ветками и бело-сине-красными полотнищами. «Бело-лазорево-алыми», – уточнил Рост. От единственной опознанной мной солидаристки я узнала, что освободительную армию наводнили члены Союза, и надеялась на Власова. Пропуск на встречу выписали, конечно, только Росту.
За полночь он ворвался домой вдохновлённым. Власов – семинарист, попросил благословения перед речью и саму речь держал крепко. Большевиков обличал, но не превозносил Гитлера и немцев упоминал лишь как опору национального возрождения, успех которого зависит от самих русских и помощи Господней. Народ рукоплескал. Некоторые офицеры вермахта аплодировали дольше публики. Я спросила, обещал ли Власов что-нибудь, но Рост отмахнулся: куда там, надо высказываться осторожно, иначе можно подорвать доверие.
Вскоре по городу прокатился парад в честь двухлетия войны. За вермахтом шла колонна с бело-лазорево-алыми значками и таким же флагом, который нёс высокий, невиданно прямой для наших ссутуленных земель полковник. Весь проспект и тротуары зашлись в овации. Рост пребывал в восторге и крестился, а я искала в себе зачатки радости от преображения родины, но не находила.
Вскоре нас пригласили на заседание экзархата с Сергием. Это была гулкая трапезная с остатками фресок и новодельной росписью, только замогильный холод исчез. Участников встречал Гримм. Мне, разумеется, он даже не протянул руки, но я, стараясь добавить строгости, подала первой: «Отдел образования, по согласованию с пропагандой».
Обсуждали претензии к священникам, которые посмели, не отчитываясь экзархату, сноситься с военной разведкой. Склонившись ко мне, Рост прошептал: «Ничего о генерале». И верно, о добровольцах вспомнили лишь на второй час.
Сергий посетовал, что Власов произвёл впечатление, но его будущее пока туманно. Генерала проталкивает вермахт, которому свойственна бюрократическая наивность, поэтому заключать власовских солдат в свои объятья вредно. Надо выждать. К тому же с Власовым во Псков прибыл священник той самой эмигрантской церкви и заявил, что пред лицом катастрофы всем церквям нужно сплотиться. Это значило, что либо он проходимец, либо правда готовится смена Сергия на епископа Серафима.
Иереи молчали. Тогда Рост вытянул руку и поднялся. Он заговорил о возрождении традиции, о воодушевлении граждан и о том, как важно быть вместе с воинством, которое станет армией новой России. Гримм возражал, но это было всё равно что с ведром идти против пожара. Вся боль и отчаяние изверглись из Роста, он жестикулировал так, будто руководил оркестром.
Гримм прервал его. Вы знаете, сказал он, мы хотели обсудить ваш личный вопрос после заседания, но раз вам угодно было дать повод своим пламенным выступлением, обсудим прямо сейчас. Рост застыл и изобразил непонимающую гримасу.
Пришлось нам узнать, продолжал Гримм, что вы, Ростислав Игоревич, ведёте себя неосмотрительно, высказываетесь опасно и смущаете коллег. Сведения о том поступили ещё год назад, но мы надеялись, что ваша энергичность всё-таки найдёт успокоение.
Я догадалась, к чему он клонит. «Вот в специальном детдоме вы, выгнав педагога, дискутировали с воспитанниками и утверждали, что немецкая власть не нуждается в возрождении всего русского…» – «Но разве это не так? Я должен был солгать детям?» – «Почти что так. И я не сказал, что вы не правы. Я сказал: вы неосторожны, неаккуратны – а это опасно. Посему мы хотели бы предложить вам преподавать в школе при Дмитриевской церкви, а о связях экзархата со школами не заботиться. Этот вопрос мы возложим на отца Заеца».
Онемевший Рост перевёл взгляд на архиепископа. Сергий воздел руки, намекая на беспристрастность решения.
В тот же вечер Роста навестил отец Бенигсен. Наш чайник гремел особенно яростно. Солидаристы считали, что своими людьми надо наводнять все немецкие органы, но насчёт освободительной армии решили выждать – как и экзархат. Союз подозревал, что генерала Власова используют как символ и не собираются наделять военной властью.
«Возможно, это справедливо, – сказала я Росту, когда Бенигсен ушёл, – но больно смотреть, как экзарх с секретарём бегают от одного немца к другому и боятся чихнуть без спросу, лишь бы не лишиться власти». Рост промолчал.
Утром я взяла бидон и пошла менять хлебные талоны на молоко. Ночью шумел дождь, но потом облака растянулись, и, едва засветлело, я сбежала вниз по прохладной лестнице. В переулках старалась не касаться разросшейся травы, чтобы не вымокнуть. Доярки, которые меняли карточки на молоко, ждали меня за воротами с вывеской «Диктатура» – совхозу не стали менять название. Мы перелили молоко в бидон, распрощались, и я поспешила обратно.
Рассветная сырость, глина, змеящиеся косы песка. Кроны сосен растворяются в тумане, воздух пахнет полынью. Я увидела на дороге приближающиеся пятна – далёкие, ещё расплывчатые.
Скрип колёс. Мокрая крапива вдоль канавы – как частокол. Крышка бидона чуть задребезжала. Я различила, что впереди катятся тележки.
Вместо лошадей их тащили землистого цвета, будто выкопанные из почвы, а перед этим схороненные заживо люди. Они были истощены так же, как те, чьи сизые руки и ступни покачивались у их лиц. Казалось, мертвецы, сваленные в повозки как хворост или стволы выкорчеванных деревьев, вздрагивали во сне. Я поняла, что это.
Когда я перебралась к Росту, фронт отодвинулся и шталаг при совхозе, где держали пленных, опустел. Ещё в начале зимы горожане, у кого оставалось хоть немного еды, заворачивали хлеб в тряпки, подбирались к забору и бросали исхудавшим солдатам с чёрными ртами. Но немцы ужесточили охрану, и нас стали отгонять. Затем газеты написали, что большинство пленных увезли на заводы, а оставшиеся строят дороги…
Сбоку от тележек, оставлявших в песке узорчатые колеи, шли охранники с хлыстами из колючей проволоки. Их подняли на рассвете из тёплых постелей, заставили тащиться с мертвецами до ямы, и они злились. Один из запряжённых пленников изнемог, завалился на соседа, и тут же его ударили хлыстом. Лица конвоиров не были искажены, как лики бесов на иконах. Угрюмые, но довольно розовые и сытые лица.
Ком кровавых скул и серых рук катился на меня, и я догадалась, что идут не немцы. Свои вели своих. Низенький конвоир уставился на бидон, шевельнул губами и полез в карман брюк. Свирепый страх окатил меня ледяной водой. Конвоир вытащил гармонику, приблизил её к губам и выдул первую фразу из «Элизы».
Когда колёса проскрипели мимо, ноги мои подкосились, я села в мокрую траву, забыв про молоко и куда иду, потому что всё сочлось в одном мгновении. Остро и трезво я почувствовала, что эти тележки отменяют Бога. Не потому, что Он смог такое попустить, – Он дал человеку свободу выбора, и человек сам выбрал зло, или, может, Он вовсе не был всемогущ, – а оттого, что стыдно размышлять о самой Его идее, когда рядом творится такое. Да, мерзко уживаться с тьмой, ничего не совершая, чтобы её уничтожить, но ещё хуже обманываться: мол, ради некоей непознаваемой сущности ты проповедуешь безоглядную веру и ведёшь для этого благонамеренную жизнь! Как это лживо и преступно! Как далеко я ушла от прямоты и ясности, что поселились во мне в междуцарствии, когда красные исчезли, а чёрные подступали.
И как же права была мать. Теперь я понимала, что в ней, во мне, в любом может сосуществовать – что – угодно. И никакие великие посты и мистические упражнения это не отменят. Так в Сергии с Гриммом плескалось желание властвовать – и одновременно искренняя вера в то, что материалистический взгляд на мир не учитывает чего-то важного, внечеловеческого.
Но, так или иначе, теперь тележки на резиновом ходу перечеркнули всю метафизику, и невозможно притворяться смиренницей и нести в душе огонёк веры, проповедуя наслаждение мучеников в посмертной жизни – успокоительные пилюли от страха небытия… Пока человек не сделал всё, чтобы спасти подобное себе существо здесь, на размытой ливнем глине, среди тающих сосен, не должно ему мечтать об инобытии и существах неведомых.
Я рыдала, а потом встала и поплелась с наполовину расплескавшимся молоком к шоссе. Затем остановилась и вылила молоко в канаву. Тела мертвецов колыхались у меня перед глазами, и с тех пор туман взял меня и не отпускал. Он вьётся у моих ног и сейчас, когда я пишу это.
Рост увидел моё лицо и стал дознаваться, что случилось. Бессловесная, я закрылась руками и легла на подушку. Все мысли, как помочь несчастным из лагеря пленных, были наивными, но, может, хотя бы умолить экзарха вмешаться?!
Я вскочила и всё рассказала. Выслушав, Рост молча снял с вешалки плащ и бросился в двери.
Солнце осветило нашу сторону дома. Я задёрнула шторы и несколько часов лежала, вдыхая диванную пыль и рассматривая ворсинки и катышки обивки. Я думала, что не знаю, доказано или нет, что людям невозможно договориться до справедливости – и справедливости этой держаться, – но что уж точно не доказано ни чувствами, ни размышлением, так это Бог: есть ли он и в чём его суть. Возможно, вот эта ворсинка – он. Идея о Боге оказалась пилюлей, которую подсовывал инстинкт в минуту страха.
Ещё, Аста, меня оцарапало новое, обидное знание: Бог был частью того мира, где всегда требовался поводырь – во всём, от конторы и парты до империи и земного шара. Мать говорила: начальник не всегда нужен – а коли нужен, то как лицо, с которого втрое спросят и в котором коллектив выражает свою волю. То есть не властитель, а электропроводник, к которому с нескольких сторон бегут волны тока.
И что же? Я ненавидела окрики и слежку матери, а теперь, избавившись от желания обманываться, пришла к тому же, что и она, и коммунисты, которых недавно я так ненавидела…
Забытье. Ходики. Поворот замка. Шуршание плаща, шаги на кухне, звук льющейся воды. Дребезжание и гул чайника: значит, Рост готов высказывать тайное.
Что ж, и Гримм, и Зайц с Бенигсеном клялись, что ничего не знали о бедствиях в лагерях. Они тут же отправили телефонограмму в Ригу, но без надежды. Рига, однако, ответила быстро и секретно: фронт уже месяц как угрожающе двигается на восток, и шталаги должны ликвидировать за неделю.
Я качала головой, как игрушечная собака, отказываясь верить. Несмотря на то что чайник перестал греметь, я пересказала Росту всё, о чём успела подумать в связи с тележками на резиновом ходу. Он положил голову на руки и уставился на рукомойник. Он был умён: понимал, что миссионерские уловки здесь бессмысленны, и злился.
Затем я впервые услышала, как он кричит: «Твоя честность – это роскошь, которую ещё надо позволить! Нельзя отнимать у людей утешение, им нужны подпорки и вера в лучшее – пусть не в этом мире, а в будущем, с Господом, которые обнимет их, как отец. Это нужно, особенно сейчас!»
Подумалось, что плакат «Религия – опиум для народа» не так уж лжив и даже, наоборот, его стоит понимать буквально. Внутри что-то рухнуло, и стало понятно, что надо уйти. Схватив пальто, я вспомнила, что должна занести детям учебники истории, и сказала: договорим потом, мне надо успеть к Антону и Денису до комендантского часа.
И вот я бежала через сады и лихорадочно думала, сколько бед происходит из желания властвовать, рождённого страхом и неуверенностью, которые были посеяны в нас в детстве. Сколько же лжи – во мне и вокруг меня.
На город обрушилась гроза. Вода неслась с неба с таким остервенением, что одежда тут же вымокла. Нагретая солнцем одноколейка пахла можжевельником, и я бежала вдоль неё, пряча книги под пальто. Спуск в ложбину, по которой петлял переулок, где жил Антон. Различив тропу, я свернула на неё и побежала через дорогу. Переулок затопило, и, достигнув его середины, я поняла, что вода уже у бёдер. Ступая наугад и опасаясь попасть в яму, я всё же перебралась, стащила сапоги и побежала дальше.
Открыв дверь, мать Антона ахнула. С меня текли кофейного цвета потоки. Прижав палец к губам, она показала мне, чтобы я раздевалась, и повлекла в чулан. Я сопротивлялась, но она сняла с вешалки пуховый платок и принесла шерстяное платье.
Переодевшись, я указала на пакет с учебниками и прошептала: «Спят?» Она не ответила и поманила за собой по коридору. В кухне над тарелкой склонились кудри сестры Антона, дверь в детскую была приоткрыта, там что-то бубнил голос Антона. Вслушавшись, она жестом позвала меня заглянуть.
За дверью была тьма. Свет мерцал только над столом, где колыхалось зёрнышко свечи, впаянной в блюдце. Антон стоял спиной к нам, лицом к окну. Расстелив на столе платок, он водрузил на него фужер с тёмной жидкостью и положил несколько сушек. Протянув к потолку руки – в правой был учебник математики, – он прислушивался к чьим-то голосам. Его собственный ломкий голос я опознала не сразу: показалось, что говорит игрушка, спрятавшаяся за шкафом.
«Побе-едную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаго-олюще…» Тишина. Ровно столько, сколько нужно, чтобы хор ответил, как обычно на литургии. Руки было трудно держать воздетыми, и Антон встряхнул их и поднял вновь.
«Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Опять молчание. Грохот ливня, сумерки, мечущиеся за окном ветви. Та же вечность, то же прикосновение всей теплоты мира объяли меня.
Меня тронули за плечо, я, не дыша, обернулась и увидела перепуганные глаза матери Антона. Я успокаивающе погладила ей руку. И вновь тонкий голос: «Пи-ийте от нея все, сия есть Кровь Моя Нового-о Заве-ета, яже за вы и за мно-оги изливаемая во оставле-ение грехов».
Выждав и отдав тишине столько, сколько нужно, Антон взял свои дары и, скрещивая, как священник, руки, вознёс их к потолку. «Твоях от твоих… Тебе приносяще… За всех и за вся».
Темнота. Тени. Антон поставил дары на платок, выждал и поднял ладони.
«Еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, ниспошли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие Дары сии».
Потолок вспыхнул жёлтым светом, и комната озарилась. По стенам покатились лучи. У сидящей в креслице куклы зажглись волосы. Свет нёсся по мебели и портретам на стене и наконец метнулся прочь, сквозь ставни, точно всасывая за собой рёв проезжавшего по улице грузовика.
Рука вцепилась мне в предплечье. Антон стоял недвижно, склонив голову.
В коридоре я шепнула ей: «Тише, не волнуйтесь». Она замотала головой: «Кто знает, что дальше будет с ним». Я зажмурилась, будто порезалась опасным лезвием, и переодевалась молча.
Дорогой я тоже молчала, поскольку было важно очистить себя от любых суждений. Вместо того чтобы идти теперь к Денису или домой, я бродила по скверу. После грозы он был усеян сломанными ветками и выпотрошенной сиренью. Увиденное в этот день ещё долго срасталось во мне и кое-как срослось.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































