Текст книги "Ночь, когда мы исчезли"
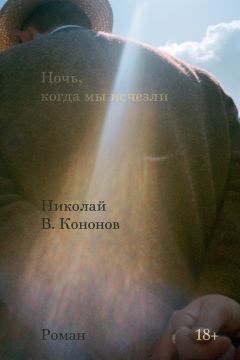
Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я приняла возможность других людей верить безоглядно и сказала Росту, что он прав. Верование есть допущение. Наших чувств никогда не хватит, чтобы объять мир, который огромен и имеет другие измерения, и как змеи не наделены чутким зрением, так мы не наделены иными способами чувствовать. Помнить об этом и смотреть на всё вокруг из этой точки – необходимо.
Рост помрачнел. Я знала, как сильно ему хочется схватить меня за плечи, потрясти и вернуться в гораздо более понятное и однозначное состояние, в каком мы были два года назад. О, как было бы просто приказать мне умолкнуть и жить, как жили раньше. Но он справился и ответил с той же, хотя и поистёршейся молодцеватостью: «Мне надо подумать».
Я предложила сойтись на том, что растить веру в такое время и в таком месте, где мы сейчас, – это благо. Являть собой христианскую семью как способ инакомыслия и сохранения рассудка на пустошах тоски и горя – тоже благо. Я это признаю, и такова будет моя честная игра, не обман. И он согласился.
Кассета 1, сторона B…Самый первый парень был каролингцем, и вообще-то их не любили. Изо всех студенческих союзов каролингский считался наиболее тупым и высокомерным. Его члены наряжались на церковные праздники в белые панталоны и голубые мундиры, вычисляли первокурсников из богатых семей и затаскивали к себе. В таверне «У снопов» каролингцы оккупировали самый длинный стол с видом на кущи ботанического сада.
Коридоры таверны пролегали мимо стойки и укромных залов в глубине, где всегда висел дым и стучали кружками люди попроще, и были очень узки. Двое мужчин расходились с трудом. В таких случаях все улыбались и перебрасывались извинениями, но парень в фуражке каролингцев пошёл на таран. Может, не отошёл от драки…
Каролингцы праздновали день Трёх Королей и, как всегда, устраивали потасовку между собой вроде боксёрского матча. За отдельным столом ужинал врач с чемоданчиком, вызванный потому, что дело на таких игрищах никогда не обходилось без выбитых зубов и переломов.
Парень в фуражке не извинился передо мной и не убрал плечо, а напротив, подставил так, чтобы треснуть меня. А треснув, осведомился: сортир ищешь?
Невиданный жар прокатился от желудка до кончиков волос. Горячая эта волна умножила ярость от обидного прикосновения, и через меня пробежала вспышка. Я успел удивиться, но тут же подумал: когда, если не сейчас? И в ту же секунду потерял способность думать. Однако я оставался в сознании и видел происходящее вокруг ясно, как в безветреный вечер на плинингенских холмах, – но при этом тело моё оторвалось от разума и более не слушалось его.
Никогда не упражнявшийся в силе, я с изумлением смотрел, как кулаки налились железом и остервенело молотили по затылку и ушам заслонявшегося каролингца. Парень был крупнее меня, но сгорбился и сел, закрываясь руками от моей взбесившейся оболочки, которую я не смог бы остановить, даже если бы пожелал. Душу захлёстывали восторг и ужас, и под рёв ангельских труб перед глазами рухнул тот же занавес, который опустился перед бегством из Розенфельда.
Когда меня оттаскивали и пытались бить набежавшие каролингцы, безупречность ума пребывала со мной – как и полная его неспособность управлять мускулами. Глаза сами фокусировались на следующем враге, и, пока кто-то не крикнул: «Боже, да он сумасшедший, отойдите!», я лупил чью-то рожу с приподнятыми кверху усиками и сбрасывал руки её товарищей, не чувствуя ударов по собственному телу.
Драка случилась в конце второго курса. Эти два года были разными. Надо всё же по порядку…
Мой дядя Ханс сбежал из Одессы от красных сразу после революции. Когда я нагрянул в его дом на окраине Штутгарта, тёзка находился почти что при смерти. Опухоль съедала изощрённый мозг и, как ни бились врачи, продолжала разрастаться. Левая часть обритого черепа Ханса надувалась. Морфий на время снимал боль, и в один из таких периодов спокойствия его печальный сын пригласил меня в кабинет.
Несмотря на полузабытье, Ханс вспомнил письмо Хильды обо мне, выслушал мою речь насчёт любви к ботанике и экзаменах на химическое отделение и остановил, когда я начал рассказывать о штурме колонии. Он молча написал записку дальнему родственнику, который преподавал агрохимию в высшей школе Хоэнхайм.
Я отнёс записку родственнику и облился потом, когда услышал, как он что-то рычит мне на вюртембергском диалекте, и ничего не понял. Переспросив, я различил слово «экзамен» и дату. Все предметы удалось сдать на приемлемые оценки, и протежёр подтолкнул мою папку к стопке, куда складывали дела будущих студентов.
На первом курсе я провалился в науку, как в полынью. Хильда написала, что (здесь она употребила фамилию, которую мы договорились употреблять вместо «Бейтельсбахер») переехали далеко на восток и пока не сообщали ей о планах. Письмо это ещё глубже вогнало меня в органическую химию и почвоведение. Кристаллические решётки, фосфорные и калийные удобрения чуть-чуть отодвигали стыд и горе, которые сплелись и замерли под селезёнкой.
Хоэнхайм захватывал дух. Институт сельского хозяйства разместили во дворце герцога Вюртембергского, точнее, в длинных двухэтажных крыльях. Усадьбу построили на холме, с пологих склонов которого спускались плодовые сады и поля. И с вершины, и стоя по грудь в травах, я всегда видел окрестные горы и крыши деревень. Штутгарт был незаметен и ничем не напоминал о себе, и в этом заключалось величайшее счастье.
Орущий город с его зазывалами, суетой авто, всепроникающими сенсациями газетчиков, соревнующихся в скорости добычи фактов о всё более зверских преступлениях, с кинематографами, предлагающими каждый день проживать чужие жизни, с магазинами готового платья вместо портных, с забирающимся ввысь домами, с круговертью вывесок, которые вмешиваются в твоё сознание и заполняют его мельтешением, – короче, это скопище криков и разодранного на куски времени, этот комок чуждой мне материи располагался вдалеке и более не напоминал о себе.
Живя на горе и вдыхая медовый запах орхидей и бегоний, я будто и не девался никуда из степи. Нет, конечно, горы и леса поразили меня буйством рельефа, и я ещё долго чувствовал тревогу, пробираясь через бурелом и обматываясь паутиной, но всё же здесь хранились шёпот трав и закатная светопись. Я прижимался к земле и забывался на долгие часы.
Через поля, заставленные теплицами и утыканные измерительными приборами, к Штутгарту тянулась ниточка трамвая. Трамвай катился сквозь поля кукурузы и врывался в дубраву, надрывно звеня. Так вожатый предупреждал велосипедистов, которые выскакивали сбоку с незаметных тропинок и прямо под трамвайным носом.
Впрочем, обманывать себя долго было невозможно. Даже плинингенские пасторали не награждали меня покоем. Даже лёжа в траве с учебником, я не мог изгнать тревогу. Как фотоплёнка в кровавом свете лаборатории, предо мной проявлялись картины предательства. Брат вываливается с дверцей на пол чердака – пол некрашеный, между досок торчит сено, слева ветхий верстак, справа зияет провал лестницы. Фридрих скрывается в нём, и я припадаю к окну. На отце шинель с выглядывающей из рукава подкладкой и измазанные грязью сапоги. Левая его кисть висит, не двигаясь, правая закрывает тело и принимает каждый удар, но у него не получается защищать сломанные рёбра, от боли отец теряет сознание и роняет голову в пыль.
Над отцом двое: азиат, невесть откуда появившийся в степи. Его плоское лицо напоминает полумесяц, а удлинённый подбородок – лопатку для пересаживания цветов. Под шлемом у него какие-то бинты, и он наносит удары, подскакивая на хромой ноге. Второй маленький, какой-то северянин, светлый и ловкий – привыкший к расправе, злобный. Он хватает мать за щёку, и я вижу, что рука его огромна и темна, как морковь, вытащенная из смоченного дождями чернозёма, с рубцами от лопаты.
Из сарая выходит вразвалку тот, кого я запомнил хуже других, но память всё равно подсовывала его вздыбленный воротник и самокрутку, которую он, видимо, только что раскурил. Он перевернул винтовку так, чтобы использовать приклад для битья, – и это было последнее, что я заметил. Вместо того чтобы скатиться вниз по лестнице и схватить приклад или впиться зубами в морковную руку, я убежал.
Момент… Я не хотел рассказывать об этом долго…
Чтобы заглушить свой стыд, я вытворял разное: и купался зимой в замерзающем озере, и спускался на трамвае в чашу города, чтобы перепиться у первой попавшейся лавки бургундером и вытеснить из памяти яд, сгущавшийся у самого её дна.
Тогда, в Розенфельде, я повёл себя как посторонний, как будто был наблюдателем, а не сыном и братом. Эту внешнесть должен был перебить зов крови, но почему-то не перебил.
От этого стыдное воспоминание расцвело, подобно хищному цветку, в моём сердце, и я признал, что был не просто трусом, а выбрал бегство, потому что на самом деле не любил родителей, Фридриха, Катарину. В этом признании было много правдивого: ни к кому из них у меня не было особенных чувств, кроме младшей Анны, ещё безгрешной и открытой степи, её я любил. Впрочем, теперь я не чувствовал и не помнил даже её голоса и кожи.
Когда я стоял у соседского забора, любовь могла бы схватить меня за хлястик и удержать, но нет, я не любил. Колонистская строгость и отстранённость родителей, нарожавших много детей из-за суеверных соображений и не знавших, что с ними делать, кроме неловкой муштры, оставили меня один на один с моралью. А мораль без любви слаба. И всё-таки я уповал, что час-полтора, через которые могла бы прибыть подмога, их спасут.
Впрочем, эти оправдания не годились для заговора от боли и стыда, к которым примешивалась гаденькая догадка, что я просто-напросто трус, вот и всё. Ведь правда же: даже в гимназии я замечал, что-то всегда ёкало внутри меня, когда рядом начиналась драка. И давайте я признаю, хотя тяжело это произносить вслух даже сейчас: типичным поведением Ханса Бейтельсбахера было бегство от любой драки.
Поэтому в Хоэнхайме я решил, что начну избывать стыд и учиться драться, а научившись, буду навязывать потасовки самыми свирепым подонкам, пока не затопчу трусость, которая не позволила мне умереть вместе с родными.
Итак, в «Снопах» меня скрутили агрономы, по счастью оказавшиеся в ближнем зале. Какой-то старшекурсник сел мне на грудь и нажимал моими же руками мне на рёбра, почти как утопленнику. Горны, трубившие охоту, стихли. Я разжал зубы и сказал: «Хватит». Один из каролингцев крикнул, что вызывает меня на бой. Я кивнул. Уроки Мартина пошли на пользу.
День за днём я приходил к Шпильхаусу, за которым начиналось густолесье с мягким слоем еловых иголок. На них можно было падать без страха вывихнуть или сломать что-нибудь. Мартин, мой сосед по комнате в западном крыле, куда селили студентов, дрался на турнирах по боксу. Он быстро научил меня всему необходимому: каким шагом наступать и отступать, как подбираться близко, скручивать торс и распрямляться в ударе, нырять под руку врага и молниеносно разить наверняка. Дальше требовалась практика, и я выжидал момент, чтобы обрушиться на по-настоящему опасного врага.
«Есть запрещённый приём, – сказал Мартин, стаскивая с моих рук перчатки, – ты должен захотеть убить соперника и драться, по-настоящему этого желая. Чистоплюи запрещают такое, потому что вроде как неблагородно, да и за излишний пыл судья снимет очки. Но поверь мне, подпольные бои может выиграть только тот, кто стал убийцей».
Возвращаясь из «Снопов», пошатываясь от свободы и наслаждения, не выветрившихся ещё из тела, я видел впереди огни дворца и предвкушал исповедь Мартину-учителю. Сзади зашуршали листья. Я обернулся и увидел парня без студенческой униформы. Он был старше меня, скорее всего, выпускник или магистрант, иначе зачем бы он шлялся ночью у дворца. «Подожди, – сказал парень, вытянув вперёд ладони. – Я Вилли. Я из союза студентов-колонистов. Ты ведь из наших?»
Замявшись, я молчал. Мне было известно о союзе – ещё от попутчиков, с которыми мы тряслись в фургоне по бессарабским шляхам. Колонистам союз помогал поступать и даже платил стипендию в качестве поддержки «народа в пути», которого путь привёл к краю пропасти. Но поскольку я воспользовался протекцией дяди, то предпочитал молчать о своём происхождении, а квакающий акцент выдавал за эльзасский. Все наши родственники оттуда, и все они фермеры, говорил отец.
Однако ночной прохожий уже что-то знал о моём происхождении. Наверное, видел документы или навёл справки в канцелярии. Отрицать тот факт, что я ношу степь под сердцем, было глупо. «Из ваших», – ответил я.
Выяснилось, что колонистов в Хоэнхайме всего трое, а в Техническом университете Штутгарта – десятки. Союз собирал пожертвования в помощь всем украинским немцам, кроме меннонитов, и хлопотал насчёт гражданства. Последнее мало кто получал, поскольку убедительные документы от предков имелись далеко не у всех. У меня не было вообще никаких, поэтому я получил паспорт бесподданного, за которым пришлось коротко съездить в нансеновский комитет в Берлине.
Вернуться же в степь из бывших колонистов не мечтал никто. Многие скучали и развлекались тем, что шатались по пивным и публичным домам, задирали другие студенческие клубы и дрались с ними.
Вилли рассказывал об этом снисходительно, но было видно, что он тоже любит занимательно провести время. Его звали философом, так как из него сыпались афоризмы Ницше и новомодных авторов вроде Дёблина. Само собой, мы сдружились. Почти все в Хоэнхайме разбирались в удобрениях и сеялках, но поговорить о других книгах было не с кем.
Новый мой товарищ расправлялся с учёбой как можно быстрее и устремлялся прочь к городским наслаждениям. «Через неделю мы хотим размяться, – сказал он, идучи со мной как секундант на матч-реванш с каролингцем, – и, если тебе сейчас не снесут череп, поедем вместе, познакомишься с братьями. Большинство из-под Аккермана, но есть кое-кто и из ваших краёв. Мы нашли пивную, где собирается одна новая партия, которая хочет восстановить довоенную славу Германии, – ну вот мы и посмотрим, как они дерутся, ха-ха».
Череп мне, конечно, не снесли. Я увидел страх в глазах дылды, который вызвался мстить за мою жертву из таверны. Повернув внутри себя ручку спиртовки, которая гнала огонь выше и выше, я наблюдал, как медленно, словно под рычание церковного органа, опускается занавес и тело отделяется от разума. Дылда врезал мне так, что тут же заплыл глаз, но бешенство и желание убить его воодушевили мою правую руку на такой прямой в подбородок, что парень замер и повалился на землю почти по стойке смирно.
Его облили водой и вернули в сознание, но больше драться ни он, ни кто-то другой не захотел. И даже больше: через день в нашу с Мартином келью постучался гонец с приглашением вступить в «Каролингов».
Гонец получил отказ. Мы с Вилли сговорились, что в пятницу я приму участие в кулачной битве на стороне колонистов. Опускаясь на трамвае в чашу Штутгарта, я видел, как чернели пустоты на склонах, где жилые кварталы были разрезаны виноградниками. Внизу пузырилось ненавистное варево из орущих толп, смердящих автомобилей и утомительных реклам морских круизов.
Встретившись с «техниками» у колонны с золотой богиней согласия, мы слушали, что им удалось разнюхать. В ближайшей пивной веселились атлеты, у заведений на Канальштрассе искали себе пары гомосексуалисты, а вот в таверне на Торштрассе уже пировали главные кандидаты на драку – городской отряд национал-социалистов. Все называли их наци, потому что «наци» означало «тупой», объяснил Вилли.
Я слушал возбуждённый спор «техников» о тактике боя и наконец догадался, почему мне так хотелось уничтожить этот город, эту опухоль, выжигающую небо электрическим светом. Оттого, что именно из этого бешеного колеса событий явились те, кто хотел отобрать у колонистов хлеб и жизнь. Те силы, что послали отряд за зерном, хотели сломать мир, где можно было прижаться щекой к земле, гладить воду и рисовать узоры ветра. Они выманивали людей в города, чтобы люди поклонялись богам толп, металлов и скорости, а оставшихся превращали в рабов…
Устроившись в пивной напротив наци, мы стали громко потешаться над ними. Долго ждать не пришлось, и вот уже в нас полетели кружки и мы ринулись на врага. Я бил простецких парней с окраин так же остервенело, как каролингца, и посреди этого мрачного действа почувствовал, что страх и стыд улетучились, как газ, раздражавший лёгкие и не позволявший вдохнуть полную грудь воздуха. От этой внезапной свободы тело обрело пружинистость и страсть, и я окончательно потерял себя.
Одного из попавшихся мне под руку наци долго не могли привести в чувство. Самый старший из «техников» взял меня за рукав, шепнул: «Проваливай», – но тут павший, слава богу, зашевелился.
Обратно мы с Вилли ехали на последнем трамвае. Было зябко, но мы разгорячились и к тому же перехватили немного вишнёвого шнапса. Ну а что? Поздний вечер, глушь, пассажиров нет. Вилли закинул ноги на сиденье. Я заметил, что он вроде бы рвался в драку, однако, выбрав соперника, отступал и делал вид, что ищет момент поудачнее. «Ты чего такой яростный? – спросил он. – Вцепился в парня, как собака, которой челюсти свело».
Я был пьян и не стал ничего не скрывать. Вилли пересел ко мне, выслушал и обнял. Обычно я не помню разговоры, но некоторые диалоги впечатались в меня навсегда. «Понимаю твоё горе, – заговорил Вилли, – и ты, разумеется, ни секунды не виноват, потому что колонии можно на самом деле было помочь, и ты бы спас всех, если бы эти ваши соседи не оказались такими трусами. Но вообще-то вот что я хочу тебе сказать. Самое важное – уметь забывать. Нужно выбираться из плена ошибок. Если ты не смог что-то изменить – забудь. Не будь рабом своих промахов. Тем более в твоём случае это никакой не промах».
Я ответил бы, что не хочу забывать, потому что иначе придётся забыть себя, но молчал, смежив веки. Ничто не могло остановить пьяную карусель, вращавшуюся в моей голове. Я спросил Вилли заплетающимся языком: «Что останется от нас, если мы всё забудем?»
Вилли взбеленился: «Я и не говорю, что надо забывать всё! Но ты можешь выбирать нужные воспоминания, чтобы дальше строить свою жизнь. Скажи спасибо, время сейчас сменилось и ты больше не обязан жить так, как жили предки, ты можешь быть кем угодно. Но нет, ты живёшь страданиями по когдатошним событиям, ну что это такое, пф-ф…»
Если бы перед конечной не полил дождь, я бы разразился тирадой о мерзости нашего времени и потерял бы друга, но нам пришлось бежать, и уже под крышей павильона, где пахло сгнившими досками и грибами, я понял, что Вилли прав. Я был рабом своей памяти, и, хотя уже перестал винить себя, всё равно рана по-прежнему саднила и память раз за разом бросала меня на розенфельдский чердак. Иногда это происходило некстати.
Например, я осмелился пойти с колонистами в публичный дом, чтобы научиться хоть какой-то практической премудрости и испытать любовную сладость. Девушка в фальшивом жемчужном колье разделась и зашептала мне что-то непристойное. Это происходило немного механически, будто в её комнатке за ширмой прятался суфлёр. Я растерялся, она догадалась, что к ней явился девственник, и сменила тон. Это помогло, но стоило мне увидеть изголовье кровати с голубями, целующимися клювами, – такое, как у родителей, – и комнатка растаяла. Я очутился всё там же, у забора – изодрался о крыжовник, бегу, когда меня останавливает нечеловеческий вопль матери. Я ослабел и, не слушая лепетания жемчужной девушки, выбежал.
Вилли болтал с хозяюшкой и курил сигару. Добившись ответа, почему я так быстро, он с сожалением оглядел меня и посоветовал обратиться к трудам одного из проповедников любви, психиатра Фрейда. Мне следует зайти в комнатку к даме постарше, интимно склонившись к моему уху, сказал Вилли, и вышибить, так сказать, клин клином. Меня затошнило, и я бросился в клозет. Вилли долго извинялся, однако ещё месяц я не подавал ему руки.
Так я и существовал четыре года, забываясь в драках и отправляя письма в Одессу, на которые Хильда отвечала, что новостей нет. Колонисты выбирали всё новые и новые заведения для драк, чтобы не примелькаться, но однажды наказание всё-таки настигло меня. Как всегда, оно явилось совершенно не в том обличье, в каком его ждёт грешник.
Колонистов стала задирать какая-то шваль в пивной у канала, и мы сразу, без бранных ритуалов, бросились вперёд. Всё шло как обычно, пока я не получил оглушительный удар в нос. Мне и раньше приходилось несколько недель ходить с заплывшим глазом и вправлять вывихи у лекаря, но в этот раз дело оказалось серьёзным.
Сначала я показал нос Мартину, и тот лишь пожал плечами: обычное дело, ну, синяк, сместили перегородку – подожди несколько дней, она сама встанет обратно или, кто знает, вдруг тебе понравится новая форма. Через неделю нос распух и напоминал две сросшиеся сливы. Лекарь направил меня в клинику, где, пренебрегая наркозом и не слушая мои крики, хирург вернул перегородку на место. Но сама слива никуда не делась.
Я попробовал не обращать внимания, но ничего не проходило, опухоль выросла, и ещё через месяц любое прикосновение к носу стало отзываться болью. Времени разбираться с этим не было, так как я готовился защищать дипломную работу о почвах сухих степей Причерноморья. И я удачно защитился, но после дискуссии секретарша отвела меня в сторону и приказала немедленно бежать в университетскую клинику.
Там я долго ждал доктора. Явившись, он тотчас отрезал от моего носа кусочек и объявил, что опухоль злокачественная и, если я не хочу, чтобы она выросла и пустила щупальца в другие ткани, надо срочно оперироваться. Сумму освобождения от щупалец доктор не назвал, но особенной разницы не было – у меня и так не оставалось ни копейки.
Что ж, тогда я пришёл к Вилли. Он перестал развлекаться боксом и успел подружиться с теми наци, которых мы вместе колотили в пивной. Большинство их было туповатыми сынками филистёров, которым не хватало умного злого вожака. Я ничуть не удивился, узнав, что Вилли, совершенно равнодушный к сельскохозяйственным наукам, увидел во мстителях с окраин благодарную паству, которая станет слушать его с раскрытым ртом.
Задумавшись на минуту, Вилли вспомнил, что одного из ветеранов войны, которых опекали наци, прооперировал доктор из штутгартской клиники. Он удалил ветерану разросшуюся опухоль с лица за полцены. Так что, Ханс, сказал Вилли, я могу похлопотать за тебя, а ты давай, доставай деньги и радуйся, что избавишься от старого носа!
Придавленный чертовщиной с опухолью, я в тот же день получил последнее письмо от Хильды. Её рукой словно водили эринии, задумавшие отправить меня на тот свет.
Хильда писала: отца и Фридриха расстреляли через неделю после ареста, и она это знала, но не хотела доводить меня до самоубийства, а мать и Катарина высланы в Сибирь, но неизвестно куда – весточек от них нет. Анна живёт у Фишеров. Колонисты в опале, и их арестовывают всё чаще. Несколько сотен немцев поехали в Москву протестовать, чтобы им разрешили уехать на родину, но их разогнали и заставили вернуться в колонии. Она, Хильда, устала перевязывать раненых и отправляет это письмо из Маяков с тем, чтобы ночью пересечь Днестр и навсегда исчезнуть из страны, где ей удавалось жить как хотелось.
Следующий день я провёл на кладбище. Община Биркаха определила место для погоста прямо на вершине холма, откуда было удобно кричать. Вопли растворялись в ветре, как будто ничего и не было и никто ничего не слышал. Ночи стояли тёплые и светлые, близилось солнцестояние. Рассвет рассёк мне душу надвое, и я встретил его на траве меж надгробий, вцепившись ногтями в землю и подставив ей левую щёку, поскольку, если лежать на правой, болел нос.
Утром вместе с чудовищным голодом явился Вилли. Мартин рассказал ему об эриниях. Бестактность Вилли превосходила глубиной мировой океан, но иногда он всё же обнаруживал способность сопереживать. Он не стал ничего говорить и просто вытащил из кармана смявшийся листок: «Вот имя и адрес. Я уговорил его сделать операцию за полцены».
Погодите… Слышите шуршание? Плёнка кончается. Я хотел разделаться с Хоэнхаймом быстрее, но, как видите, влип.
Если коротко, то хирург слегка усёк мой нос и подровнял его левое крыло. Доктор оказался мыслителем и резонёром.
«Великолепно, – бормотал он, накрывая ноздрю саркофагом из марли, – великолепно, что вы не довели дело до риноэктомии. Протезирование носа – искусство, которое приводит к успеху только при определённом везении. Хотя, глядя на скорость, с которой развивается медицина, я предположу, что через двадцать лет можно будет протезировать любую часть тела. На нашем веку мы увидим протезирование чего угодно, почти что любой живой и неживой материи… Ну-ка покрутите головой». Я покрутил, саркофаг держался.
«Если бы всё было так просто, – прогугнил я, – то люди протезировали бы бога и исправили всё, что он попускает. Но мы не способны избавиться даже от поноса или кошмаров, которые нас преследуют. Если человек страдает от навязчивых картин из прошлого, то не сможет от них избавиться, даже если протезирует самого себя».
Доктор стащил с ушей маску. «Это вы верно подметили. Будущее приближается как солдат: то перебежкой, то по-пластунски. Физики назвали бы такое движение зигзагообразным. Но с чего вы взяли, что невозможно протезировать память?»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































