Текст книги "Ночь, когда мы исчезли"
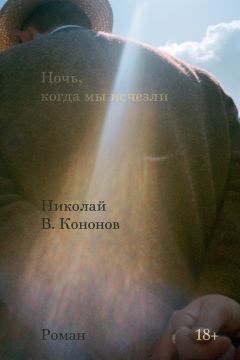
Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я вспомнил, как во дворе лежит ком грязной одежды, ещё несколько минут назад бывший отцом. Раздался крик матери. Перед глазами всё расплылось, и я задрожал, хотя у Хильды было густо натоплено. Она погладила меня по голове. Раньше я боялся её рук, потому что желал их вовсе не невинного прикосновения, но теперь мои нервы отключились и не реагировали на них.
Бег событий не замедлился. Хильда вызнала, что всех бунтовавших против продотрядов судят без снисхождения и высылают в Сибирь. Комитет, с которым хотел сноситься Нольд, был беспомощен. Противостоять моему розыску Хильда не могла, так как с судьями дел не имела и милиции сторонилась. Для колонистов настали худшие времена: хлеба не хватало, нам припоминали войну, большевики были жестоки. И поскольку меня вот-вот должны были начать искать, следовало решаться: бежать, сдаваться или жить в Одессе нелегально.
Незадолго до того Хильда, пользуясь связями директора порта, выправляла право на выезд студентам Новороссийского университета. Она считала, что, раз случилась беда, мне умнее было бы смириться и выучиться в Штутгарте на химика – а потом можно и вернуться, если красные исчезнут и всё станет по-прежнему.
Метаясь ночью в горячке, я понял, что на самом деле выбора нет. Взорвать стены тюрьмы и извлечь родных я не могу. Неизвестно, когда в следующий раз поедут в Германию студенты-колонисты и поедут ли вообще. И что остаётся: жить под вечным страхом ареста с липовыми документами, сжимаясь от грохота шагов на лестнице, – но зачем? Особенно если можно отучиться в университете, а затем по знаку Хильды вернуться. Или, может, наоборот, мне удастся вызвать в Вюртемберг родных – хотя бы кого-то из них.
О Германии я кое-что знал из книг и рассказов учителя географии. Что такое Сибирь, он также рассказывал, но Бейтельсбахеры в меховых шубах, стреляющие в глаз белке или отпиливающие оленю рога, мне категорически не представлялись – даже если я принуждал свою фантазию изобрести такой вариант их будущего, от которого не хотелось сразу удавиться…
Согласно подложному пропуску я стал Матвеем, то есть Маттиасом, и через несколько дней мучительного прощания сам не свой приближался к Днестру, за которым лаяли собаки и колыхалась бессарабская тьма. В тюрьме не давали посещения, судебные заседания велись закрыто, поэтому Хильда смогла лишь передать родителям за взятку весточку с намёком, что я цел.
Сторожка, жёлтый фонарь, трепет, скольжение взглядов проверяющих по бумаге и печатям, немота попутчиков, столь же перепуганных и отрешённых, как и я, потому что они тоже впервые и навсегда отбывают в мир, где их никто не ждёт в натопленной штубе с чистой постелью и взбитыми подушками, – прочь из степи-безмолвия, степи-беспомощности, степи-чрева.
Часть II
Леонид Ира прыгает за мячом
Вера Ельчанинова попадает в раёк
Ханс Бейтельсбахер бьёт первым
Показания господина Иры
3 ноября, Лондон
Галлиполийский лагерь был бесконечной пыткой: оружие получаешь редко, упражняться не в чем, климат безумен, а выезжать не разрешается. Вернуться на родину уже никто не надеялся. Одни сходили с ума буквально, другие обнаруживали в себе спиритические способности и вызывали духов прямо в палатке, третьи грабили госпитальный склад и опаивались медицинским спиртом.
Кирасирам поручили сопровождать церемонии. Мы охраняли самодельный театр – у каждого выхода на сцену стояли по два офицера. Впервые я ликовал, что так и не был произведён из корнетов в лейтенанты, иначе пришлось бы и мне охранять оперетку. Генерал Врангель сидел под арестом на яхте «Лукулл» и, вооружившись коробкой из-под сигар, бил тараканов. Я снялся на портрет в местном фотосалоне: с кирасирским жетоном, в парадном мундире и вожделенной каске с орлом, которую одолжил у поручика Головина, поскольку своей у меня так и не появилось.
Спустя год мучений нам наконец разрешили ехать куда глаза глядят. О новой войне с красными речи не шло – Версальский мир лишил нас всякой поддержки. Зато русских тепло принимали в Чехословакии. Отец снёсся с дальними родственниками в Мукачеве и направился туда, а меня заманили в Прагу практической выгодой. Молодёжи субсидировали учёбу в университете для русских, который опекал президент Масарик.
Я сшил у портного костюм из тёмной шерсти, сунул в петлицу галлиполийский железный крестик и сел на поезд. По приезде получил в нансеновском комиссариате паспорт бесподданного и ютился в общежитии на Либене. Крошечные двухместные комнатки населяли четвёрки таких же, как я, беглецов. Из зеркала на меня смотрело потерянное лицо без гражданства.
Преподаватели юридического факультета при Карловом университете, куда я поступил, занимали чуть более просторные квартиры в «профессорском коридоре». На имматрикуляционном собрании всем студентам вручили кожаные свитки, признак учёности, и наконец-то я почувствовал себя хоть частью хоть какого-нибудь тела.
Но долго я не проучился. Коротко говоря, профессура была вдохновлена разработкой конституции для будущей России без большевиков, а также идеей панславизма. Всё это было любопытно – ради идей общественного развития я и поступал. Однако, пока сторонники естественного права сражались с петербургской школой, работу для юриста в Праге становилось искать всё труднее. И когда отец написал, что подыскал мне место для практики в адвокатской конторе, которую держали русские, я отправился к нему без всяких сомнений. Понравится – останусь, нет – вернусь и переведусь на инженерный. Инженеров не хватало.
Летом 1924 года я собрал чемодан и поехал по холмам, мимо Высоких Татр, мимо Прешова и Ужгорода и сразу в Мукачево, или, как его называли венгры, Мункач…
Мало кто знает, что такое Подкарпатская Русь, или, проще говоря, Подкарпатье. Между тем могу смело заявить, что это независимая, отдельная страна. Она как бы глядит в Европу с западных склонов Карпат. Пейзажи там такие: куполовидные холмы, буковые леса, глиняные дома крестьян со скошенными крышами и хутора фермеров – чуть наряднее, но такие же бедные. Ну а ниже, у подножья гор, в долинах – там будто кто-то отдёргивает занавесочку, и за ней города Мукачево, Ужгород, Прешов, их университеты, фабрики и гимназии, чей вид не слишком отличается от Праги и Будапешта.
Я боялся, что не разберу русинский язык, но он оказался не столь страшен. Скажу так: украинец поймёт русина, чех и словак разберут кое-что, хотя и приложат к тому силы, а русский сначала рукой махнёт с досады, а потом прислушается и заговорит быстрее многих. Когда-то в этих краях народ был православным, но Габсбурги постепенно переманили русинов в униатство. Австрияки с мадьярами долго бились за господство на этой земле, и кончилась драка только после распада Австро-Венгерской империи и присоединения Подкарпатья к Чехословакии.
При этом русины пугали своих детей именно москалями и казаками. Причина была в том, что во время «Весны народов» русский царь послал генерала Паскевича на помощь императору Йозефу, чтобы подавлять восставших венгров и их сторонников. Паскевич так люто махал своей саблей, что на всех, кто сочувствовал русскому или панславянскому движению, здесь долго смотрели со враждебностью. Отец не соврал, написав, что русским да ещё и бесподданным здесь трудно пробиться на верха службы и коммерции и поэтому они заводят своё дело – как те адвокаты, к которым я ехал практиковаться.
Впрочем, отец умолчал о другом: о нехватке специалистов. За двадцать лет до моего прибытия в Подкарпатье многих русинов заманили в Америку. Переселилось едва не полмиллиона человек. Желающих собирали перед отплытием в Новый Свет у городка Освенцима, чьё название я недавно слышал в трансляциях из Нюрнберга – тоже в связи с лагерем, но другого свойства…
Так вот, русины присоединились к Чехословакии как автономный народ, живущий на издавна принадлежащей им земле. Спустя несколько лет после этого присоединения я и явился в Мукачево и, к удивлению своему, обнаружил там совсем другое местечко, нежели мне представлялось.
Полгорода занимали еврейские дома и предприятия, по улицам курсировали хасиды и важные ребе, согбенные студенты хедера, портные, механики и прочая, прочая. Почти все вывески были, как правило, трёхъязычны: идиш, чешский и русский или украинский. Тут был центр талмудической мудрости.
Помню тамошние зимы как сейчас, помню зёрна снега, хрустящие шаги по нему, испачканному подошвами и перемешанному с глиной и навозом. Даже смазанные ваксой ботинки здесь сразу промокали. Зато запах был везде горный, невыносимо свежий.
Ещё я помню вывески на доме у велостадиона: «Предпечатная подготовка», «Ахилл», текстильный дом Менделевича и веломастерская. Над воротами стадиона висел транспарант на идиш «Через эти врата придут праведники». Я слышал от Каудера, что с войной в город пришли совсем не праведники и на стадионе евреев собирали, чтобы расстреливать, но точно утверждать не берусь…
Рядом со стадионом гудел рынок – на вытоптанном пыльном пустыре. Зимой на снегу расстилали покрывала, и на них стояли вазы, кувшины, утварь. Торговцы перетаптывались, поскольку из-за горных ветров всегда было зябко. Мимо по снегу гоняли гусей.
Совсем дальние наши родственники встретили отца с любопытством, но дали понять, что помогать не смогут. Они были очень бедны и богобоязненны, и мой единственный визит к ним стал последним, так как я неаккуратно рассуждал о религиозной подкладке панславизма. Когда же я понял, что в Прагу не вернусь, остался жить у отца на улице Розовой, и там, казалось, наступил покой. Под нами пылали печи булочной, источавшие тепло и непоколебимый запах прозиаков – содового хлеба.
Но беды не кончились: отец долго не прожил. После бегства в Галлиполи он стал медленным и задумчивым и более не терзал меня, как в те редкие мгновения детства, когда ему всё же было до меня дело. «Учи то – не учи это», «читай учебник – не читай книги» – думаю, вы знаете, как вреден этот нажим. Ревматизм, скитания и бесприютность довели отца до апоплексического удара в 1926 году. Сбережений у него почти не было, и, чтобы не пойти по миру, я окончательно бросил университет и погрузился в адвокатские дела.
Хозяин бюро Вальницкий нуждался пока лишь только в помощнике, печатавшем и оформлявшем различные договоры, жалобы и петиции. Вознаграждение было крошечным. Но Вальницкий помог мне в другом – свёл с начальством русского союза «Сокола», который действовал отдельно от чешского и украинского.
«Сокол» искал учителя физкультуры, который мог бы учить отроков ножному мячу, ставшему к тому времени чрезвычайно популярным. Я вступил в общество, сфотографировался на членский билет с соколиным пером, приколотым к шапочке розеткой с монограммой «So», и получил в своё распоряжение команду.
Правда, это не помогло. Доход мой вырос на куриный шаг. И поэтому, будучи в конторе, я всегда слушал, о чём говорят и с чем приходят просители.
Однажды явился фермер-русин, отутюживший ради такого визита свой единственный сюртук, и долго что-то выторговывал у Вальницкого. В конце концов он разгневался и ушёл. Я поинтересовался, в чём состоял вопрос.
Оказалось, фермер надеялся, что мы поможем отсудить землю у графа Шенборна, винодела, чья семья была самой могущественной в Подкарпатье. Более ста лет назад предок Шенборна забрал угодья у прадеда фермера против его воли. Вальницкий и другие адвокаты опасались портить отношения с Шенборнами такой тяжбой. К тому же требовалось доказательство связи истца и его прадеда, а церковные книги сгорели.
Что же, я покивал Вальницкому, но душой вскинулся. Мой знакомец, сокольский учитель гимнастики, работал в городском архиве. Я спросил его, остались ли где-либо записи о переходе местной земли из рук в руки около 1800 года. Тот подтвердил, что таковые книги имеются, и пустил меня в архив за обещание: если дело выгорит, я поделюсь с ним гонораром. Месяц я листал в полутьме ветхие страницы и всё-таки нашёл запись, что такой-то надел стал собственностью Шенборнов, а прежний владелец потерял право на него претендовать. Рядом указывалась фамилия и адрес владельца. Осталось понять, живёт ли правнук на том же хуторе, и если на том, то в руках у меня находилось солидное доказательство. Я навёл справки: казусы возврата земель с такими документами уже случались.
В одно из воскресений я встретил фермера на рынке. Он был беден и жил именно в дедовском доме. Фермер выслушал моё предложение и сказал, что сможет расплатиться только после перехода земли к нему. Я спросил: нет ли ещё таких обиженных Шенборном, как он? Тогда я бы снизил цену своих услуг.
Фермер смекнул, и в следующее воскресенье явилось уже около двадцати его соседей, что тут же придало иску вес, тем более что мы вовремя рассказали о нём газетчикам. Несколько месяцев я всматривался в ветхую бумагу с лисьими пятнами и нашёл пращуров большинства потерпевших. Процесс начался. Под руководством Вальницкого я защитил почти сотню фермеров и вернул им землю.
Такова история капитала, в происхождение которого вы и ваши коллеги из CIC всматривались столь пристально…
Обучая новичков-соколов, я, разумеется, скучал по настоящему, высокому футболу. Однако примкнуть было не к кому: в городе играла одна команда, и та венгерская, а венгры не принимали чужаков. Я часто сидел на трибунах, но потом отказался от этого занятия, поскольку тоска только нарастала. «Мункач Спорт Эгешулет» играл не хуже «Ахиллеса», и непонятно было, что мешает мне выбежать на поле, натянуть перчатки и утвердиться в прямоугольнике ворот, приносящем одновременно покой и азарт.
Желаниям моим помогло то, что Мукачево было небольшим, едва ли там набиралось более тридцати тысяч горожан. Около русских обществ и соколов вращалась одна и та же публика, и по чуть-чуть набралась славянская команда. Основой были мои старшие ученики. Мы взяли сразу два состава и назвались «Слованом».
Поскольку теперь я имел на счету кое-какие деньги, то отдал часть гонорара на мячи, а себе выписал из Праги бутсы и перчатки. Сетки для ворот венгры берегли и снимали после каждой тренировки, поэтому нам пришлось заказать свои собственные на текстильной фабрике. Не буду долго на этом останавливаться и расскажу лишь о двух фактах, важных для дальнейшего.
Во-первых, моё тело вспомнило, выпустило из себя, как из клетки, необходимые движения – будто проснулся некий тигр, потянулся и вырвался на свободу. Ликуя и не обращая внимания на ссадины и кровь, я прыгал за мячом по углам ворот. Большинство «слован» играли неумело, но некоторые всё же исполняли удары на высоком уровне. Отбивать их кручёные и запущенные парашютом мячи было сложно и чудесно.
А во-вторых, вратарский взгляд влиял на то, как я стал думать и чувствовать. Если сидишь на трибуне, тебе неминуемо покажется, что к вратарю предъявляют маловато требований. Несчастные полевые игроки мечутся как оголтелые и валятся с ног от усталости, а он… Но в том-то и дело, что, раз требований к вратарю немного, они крайне высоки.
Раз вратарь не скачет, задыхаясь, по всему полю, значит, в те редкие мгновения, когда игра докатывается до него, он должен спасать всегда. Такова его последняя ответственность. Подлость же заключается в том, что игры проходят в любую погоду и даже на снегу и вратарь часто мёрзнет, стоя без дела, – даже когда машет руками и ногами, чтобы не околеть совсем. И часто бывает так, что, когда наступает решающий момент, в который следует выручать, скованные мышцы вратаря подчиняются недолжным образом.
Впрочем, я смирился с этим и часто прыгал в самые глубокие лужи, забирая в ногах у чужого нападающего мяч и не позволяя ему ударить по голу. Когда игра укатывалась на противоположную половину поля, я бегал и прыгал, чтобы согреться на злом ветру, и напевал, стуча зубами, что-нибудь победительное или, наоборот, сентиментальное.
Против нас согласился сыграть второй состав венгров из «Эгешулета». Когда игра началась, я чуть не разрыдался. Душа моя вернулась на наше с Аракеловым гимназическое поле. «Эгешулет» оказался силён и выиграл, но тем слаще были моменты, в которых мне удавалось спасать команду. Например, когда мадьярский хавбек обманул защитника и, бросив взгляд на диспозицию в моей площадке, подал мяч на набегающего форварда.
Следуя за полётом мяча, я сделал несколько шагов вдоль ворот в сторону форварда, чтобы закрыть для его удара чрезмерно раззявленный угол. Но тот оказался хитрее и, кратко мотнув головой, ударил против направления моего движения – в тот угол, который я только что оставил.
Положение моё осложнялось тем, что мяч летел по восходящей траектории и грозил дугой опуститься в ворота прямо за моей спиной. Я успел оценить скорость его полёта, остановился и попятился чуть назад, чтобы мяч не смог перелететь меня. Вратарским чувством я знал, что он запущен под самую перекладину и слишком далеко пятиться нельзя, иначе я, как неловкая рыба, запутаюсь в сетке ворот.
Поэтому я подождал, когда мяч чуть снизится, оттолкнулся от земли и потянулся к нему в воздухе кончиками пальцев. Чтобы достать его, пришлось вытянуться и в прыжке задрать ноги едва ли не выше головы, подобно коту, прыгнувшему за бантиком.
Так я застыл и, казалось, висел в воздухе дольше обыкновенного. Это был один из острейших эпизодов, к которым я возвращаюсь, – редкая, чисто спетая песнь тела.
А когда я падал из этой высочайшей точки, перебросив мяч через перекладину и спасши товарищей от гола, сюртуки, кепки, пояса, сапоги, лица на трибунах смазались и понеслись вниз. Одна лишь чёрная фигура, прямая как единица, в скупом, без оборок и чего бы то ни было платье, не смазалась и никуда не уехала, будто сама покоилась в воздухе.
Грянувшись о землю и едва не сломав рёбра, я вскочил и, замирая, осторожно посмотрел на трибуну: не привиделось ли.
Не привиделось. Меня разглядывали в бинокль.
5. …d5
Асте ВороновойРю де ля Монтань, Сент-Женевьев, 20, 75005, Париж, ФранцияВера ЕльчаниноваБекстер-авеню, 18, Нью-Йорк, 11040, США
На Рождество после ночной службы мы съели несколько дымящихся картошин, выпили вина с отцом Александром и Еленой и легли спать у них на лавках. Через три часа задребезжал будильник. Налив чай в термос и взяв по мешочку сухарей с солью, мы побрели по скрипучим чёрным улицам к комендатуре. Автобус уже стоял там.
Темень, звёзды, щиплющийся мороз, лай собак. К автобусу брели незнакомые дети – прогоняя сон, поднявшись с матрасов в холодном физкультурном зале, съев остатки вчерашней каши и пайку хлеба, ворочаясь, зевая и боясь выгнать из-под одежды то скудное тепло, что осталось. Рост пожимал каждому руку и старался говорить какие-то особенные слова. Я тоже старалась хоть немного создать ожидание праздника. Морозный воздух схватывал горло, и мы обходились краткими приветствиями.
В автобусе тоже было холодно, но, когда мы заехали ещё в несколько приютов, дети набились почти на все сиденья и стало теплее. К водителю прикомандировали двух жандармов. Сквозь лобовое стекло пробивался рассвет.
Эта молчаливая дорога, это преодолённое предательское чувство, что не надо было никого никуда тащить и что лучше бы лежать у печки недвижимо, пока зима не кончится, – и вот: нагретый детским дыханием автобус-ковчег. Сироты едут туда, где их ждут, и чертят пальцем на стекле вензель «Рома жопа».
Наконец небо посветлело, мы въехали в Остров и, чуть поплутав, нашли Свято-Троицкую церковь. Высадив всех, мы взяли за руки особенно неспокойных и, следя, чтобы никто не матерился, вошли в притвор. Запахло ладаном и мокрой одеждой, старики расступались и отдавали то скудное место, что оставалось на проходах. У стен спали, привалившись к фрескам, крестьяне, которые после ночной потеряли всякие силы. Сияли жаркие свечи, и я чувствовала, как подступают слёзы: ближе, ближе к Тебе, Господи, веду бессчастных отроков сиих и иду сама…
Служили особенно ярко. Отец Александр, обычно невнятный и заплетающийся, очень старался. Я подпевала так, что перехватывало дыхание. Стоявшая рядом Елена взяла меня за плечо и подержала так чуть-чуть. Я удивлённо воззрилась на неё, но Елена сделала жест – мол, воздуху мало, голова закружилась – и отошла к колонне со старой фреской. На ней склонялись перед костром пророки с крошечными ступнями и бросали в пламя исписанные свитки пергамента.
Причащались все, и, обозрев толпу у чаши, отец Александр сократил литургию. Пассажиры автобуса всё равно быстро устали и расселись на полу, толкая и щипая друг друга. Сколько Рост ни курсировал с умоляющими глазами по их рядам, сироты не утихали. Но чем больше они чудили, тем острее я знала, что среди нас был Христос – незримый, но ощущаемый среди грязи и усталости, – и наконец, придвинувшись к чаше с многоногой очередью, опустилась на колени и зажмурилась: «Господи, пребуди со мною всегда и прими меня, грешницу».
После службы староста повёл гостей на склад, переделанный в трапезную. Здесь пахло стружкой и было натоплено. На столах, сколоченных из грубых занозистых досок, сирот ожидали свёртки. Отец Александр взял те, что кто-то положил прямо на гигантский самовар, и протянул нам. Мы склонились, показывая детям, как выражать благодарность – после причастия мало кто поцеловал чашу, не говоря уж о руке иерея. В бумаге из-под гильз покоились только что испечённые жаворонки. «Как будто уже Пасха?» – шепнула я Росту. «Как будто да».
Все расселись, и к самовару вышел островской отец Алексей, который сослужил Александру. Он благословил трапезу, сказал коротко о празднике, о Марии и Иосифе и их бегстве в Иерусалим и объявил, что прихожане подготовили для гостей вертепное действо. Тут же откинулся полог, и мы увидели трёхэтажную кукольную сцену, сколоченную из ящиков и обтянутую золочёной бумагой.
Верхний этаж – это небо, сказал отец Алексей, средний – это наша грешная земля, а нижний – ад. Мария шествует на небо. Христос, рождённый ею, остаётся терпеть страсти на Земле. А Ирода с двойным лицом – сначала самодовольным, потом опрокинутым – черти утаскивают в ад. Обычный театр с артистами, добавил он, родился тысячи лет назад из обряда, когда греки поклонялись богу плодородия Дионису, а вертеп наследует кукольному театру, чьё главное божество женское – у нас, христиан, это Мария, богоматерь…
Отроки устали, начали чесаться и шуметь, и отец Алексей спрятался за ящиками.
Представление началось. За Ирода читал певчий, громоподобным басом. «Во всей земле я так богат и славен. И нет, никто мне силою не равен». В зале засвистели, и мне пришлось нашикать.
Дело спасли черти, которые подковыляли и схватили Ирода за тряпичные руки. «Ах, вот беда, беда! Пришла до меня череда! Боюсь я Страшного суда!» – забасил певчий, и действо покатилось далее.
Когда автобус развозил их, осоловевших от горячего чая на дорогу, Денис лежал у меня на плече. Я ерошила его немытые волосы, вспоминая, как в последний раз так же лежала сама у матери на коленях. Где она сейчас? В сводках упоминали о боях под Торжком, но среди освобождённых городов он не числился. Как бы мать рассвирепела, увидев меня сейчас… Какими бы словами я объяснила ей, что живу свою вторую, новую жизнь и не хочу быть атеисткой?
Многие заснули, а с теми, кто держался, Рост пел безобидные советские песни, которые солидаристы учили, надеясь на них как на мостик между прошлым и настоящим. И вот мостик держал, не обваливался. Темнело, водитель поджигал одну папиросу за другой. Прощаясь, сироты смотрели на нас так, будто уже забыли храм, но ещё не вспомнили, куда вернулись.
Солнце закатилось, жандармы нервничали. Мы приближались ко Пскову, в автобусе оставались только свои, из прихода. Денис уснул, и я осторожно переложила его на сиденье, а сама перебралась к Елене.
Вы так увлечены, сказала она после недолгого молчания, тронув пальцами горжетку. Такой огонь в ваших глазах, так вы смотрите на него и на службу, что я даже завидую. Я смотрела так же, мне хотелось посвятить жизнь чему-то великому и такому нужному… Погодите, не перебивайте. Такие люди, как Ростислав, однажды рукополагаются, и вы, конечно, захотите стать матушкой, но… Я просто должна сказать: даже если вы боевая, если выносливая и одной рукой пелёнки готовы стирать, а другой – дела обделывать, всё равно, когда вам самой понадобится помощь – любая, самая примитивная, просто внимание, такое нужное, – её не будет. Потому что у него будет другая семья – прихожане, и им всё в первую очередь. А если ещё и богословие – совсем пропадёте. В прямом смысле: вы перестанете существовать, вас не будет. И вас ещё станут наставлять, что надо терпеть и таков путь к спасению. У других мужья хотя бы присутственные часы имеют, а вы как обоз при дивизии, которую среди ночи поднимают в атаку… Бессмысленно об этом говорить, потому что сила, которая вас влечёт, могущественнее любых доводов, но я просто вспомнила, когда увидела, как вы с ним друг на друга смотрите…
И что думаешь, Аста, за какое из её предсказаний я ухватилась всей своей мыслью? Конечно, за священство и за то, как явно, безусловно она видела меня рядом с Ростом. Я же сомневалась: он ого-го, он другой и потусторонний, и бабка его, между прочим, из рода Бравуров – на их гербе рука рыцаря бросает бомбу с запалённым фитилём, – а я Вера из Торжка. Что касается прочего, то я сочла Елену избалованной материалисткой, лишённой тех тонких чувств, которые позволяют улавливать колебания чудес в простом быте.
Нас обвенчал отец Александр, и загремела посудой повседневная жизнь. Квартира, которую отдали Росту, была крошечной – прежняя комната прислуги, отделённая от господских комнат хлипкой стеной. Через эту стену проникал дым от соседа-курильщика. Впрочем, нам много места не требовалось. У меня никогда не было какого-то особого гардероба. Я любила внезапно во что-нибудь нарядиться, любила платья, но стеснялась этого.
Впервые я жила будто бы в облаке заботы. Рост выспрашивал, что творится у меня в семилетке, и советовал, как поступать. После распущенности Глеба такое обращение – не наигранное, врождённое – показалось мне незаслуженным подарком. Рост был неприхотлив и не требовал от меня всего, что обычно требовали от женщин: следить за его одеждой, зашивать, подшивать, безупречно убираться, изобретательно стряпать обеды. «Вот что бы я точно не перенесла, – подумала я тогда я, – да он и не может быть таким».
Обычаи Роста простирались в другие стороны. Он привык спать только на глаженых простынях, и раз в несколько дней я растапливала угольный утюг и возила им по новой простыни. Также он любил субординацию (часто употребляемое слово). Это означало, что он, глава семьи, обращается с женой как с драгоценным сосудом, а жене следует не то чтобы испрашивать разрешения, чтобы вступить в разговор, – нет, просто следует вести себя на полтона ниже. Субординация, сказал он как-то, показывает всем – и в первую голову детям – идеал семейной красоты, сломанный большевиками. Мол, все нарядились в штаны, потеряли пол, и разница между твёрдым мужским и податливым женским стёрлась…
Не буду много о твёрдом и податливом, но скажу, что как мы были слепцами, так до приезда в Америку ими и оставались. Простейшая мысль, что супружеская любовь есть предмет наслаждения, а не долга, оказалась для нас сложноватой. Освободясь от предрассудков теперь, я просто не понимаю, как терпела в первые годы, что Рост считает меня сопротивляющейся крепостью, которую надлежит брать штурмом, а после непременно сокрушаться, поскольку слишком поддаваться телесному – это низменно и бездуховно.
Я, впрочем, тоже была хороша. После того как мы стали мужем и женой, я сочла, что чрезмерные телесные ласки отвлекают от дороги горней, которой все мы идём ко Христу. Тем более Рост проповедовал, что много размышлять о любовных удовольствиях – это дьявольская уловка и наслаждаться супружескими сладостями грешно, когда вокруг творятся лютейшие беды.
В этом была доля правды: вокруг творилось безумие, и вообще никакие удовольствия не приносили удовлетворения. При новой власти женщинам стало ещё тяжелее. Прошли первые месяцы, когда эта власть старалась не пугать горожан, и вот уже мне и другим девушкам приходилось наряжаться едва ли не в рубища, чтобы избегать назойливого внимания полицейских и военных. Те поняли, что осели во Пскове надолго, и стали искать любовниц.
Некоторые горожанки тут же устремились на поиск немецкого «мужа», который охранял бы их от посягательств иных самцов, но быстро выяснилось, что даже самые достойные «мужья» отводят им роль рабыни. Рядом гремела война, и электромагнитное поле насилия и уничтожения искажало любовь всё резче: за жалостью и превосходством скрывались битьё и изнасилования.
С церковью тоже не церемонились. Офицеры входили в храм в фуражках, словно в музей, и наблюдали за литургией как за спектаклем. Отец Александр просил их выйти, и они, улыбаясь, подчинялись, но в улыбках этих читалось господство и ничего более. Из разговора между Ростом и Гриммом, начальником канцелярии экзархата, я узнала, что православная церковь в эмиграции сблизилась с рейхскомиссариатом и министерством религий и теперь экзархат опасается, что рижского митрополита Сергия сменят на берлинского епископа Серафима. Гримм запретил рассказывать это отцу Александру, поскольку подозревал парижанина в сношениях с эмигрантской церковью…
Осознав, что горожанки разработали тактику уклонения от ухаживаний немцев, отдел пропаганды запросил мнение церкви: какие настроения встретит открытие публичных домов? Рост попросил меня присутствовать на заседании по этому поводу как представительницу женской общественности. Я едва не умерла, представив, каково работать в таком доме. Тело отозвалось болью, а от необходимости спорить по этому поводу просто затошнило.
В начале заседания выступил Гримм и растолковал, что открытие публичных домов приведёт к волнениям, поскольку и православный народ, и оставшиеся советскими в душе своей люди воспримут таковые дома как пошлость и угнетение. Один из офицеров удивился: но мы же легализуем удовлетворение естественных желаний, тем более всех девушек будет осматривать врач, у них будут трудовые часы, такие же продовольственные карточки и право на отпуск?
«Что скажет фрау от женской общественности?» – спросил один из офицеров, повернувшись ко мне. Я онемела от гнева и жгущего как раскалённый камень унижения. Требовалось отставить себя в сторону и выбрать позицию между «советская женщина, не желающая расставаться с предрассудками» и «русская женщина, какой она должна стать, по мнению немцев». При этом у меня самой достойного ответа на вопрос о публичных домах не было. И с ними было бы ужасно, и без них насилие бы никуда не делось, а то и удвоилось…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































