Текст книги "Ночь, когда мы исчезли"
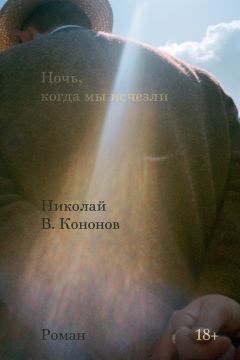
Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я подвизалась петь в хоре и впитывала в себя каждый кусочек службы и слабый запах ладана, которого всегда не хватало. На литургии перед Рождеством разрыдалась, потому что тусклые огни свечей освещали вместо приходских лиц – старушек и детей из воскресной школы – совсем незнакомых мне людей. Я вглядывалась в их черты и понимала, каковы были общины первохристиан, прятавшиеся в пещерах.
А ещё вера давала мне то, чего хотелось всегда, – быть особенной. Я видела то, чего не видели другие, мне открылись такие бездны инакости, о каких я и помыслить не могла, когда дремала на лекциях по педагогике. Теперь мне казалось, что, уже когда мать растолковывала мне марксизм, я догадывалась, что всё не то. Мне было жаль всех, кто не мог верить с такою же силой, как я.
Во время крещения казалось, что под куполом мелькают тени ангелов, и приумноженная моя особость с тех пор стала противоядием против унизительного превосходства, с каким немцы относились к нам. Относились, ты знаешь, как ко второму сорту.
Я трактовала это как наказание за отпадение от веры, а также уговаривала себя, что новая власть была не во всём безобразна – ведь это она отдала нам церкви, изгаженные большевиками, разрешила печатать библии и новые учебники…
Однажды я стояла на обедне рядом с Ростом и поражалась, как истово он молится, и каждое соприкосновение с ним плечами возбуждало мечтания о нас двоих в разных милых ситуациях. Тут же я стала винить себя за эту неглубину, за то, что перед таинством воскресения Бога думаю о человеческом и любовном. Ещё я испугалась, что Рост разглядит меня настоящую, и поймёт, какая я земная, и найдёт кого-то получше.
Первые месяцы я, казалось, жила в другой вселенной. Будто кто-то разрезал воздух ножом, отогнул холст с сырым снегом, огоньками и чернеющими берёзами – и сквозь эту брешь ворвался Рост. То, как он двигался, как носил костюм, как завязывал галстук и жестикулировал – во всём этом имелась элегантность, но ничего общего с жеманством.
Во Псков его занесло так. Война сломала балканский мир: югославское войско попробовало сопротивляться немцам, но те подавили восстание, и вот уже хорваты-усташи пели на каждом углу: «Стоит гора Требевич, на ней сидит Павелич, пьёт вино, жарит ягнят, режет сербов». Рост узнал, что бесподданные могут работать на освобождённых землях, и написал в Рижский экзархат митрополиту Сергию, что хочет учить детей Закону Божьему. В ответ пришёл конверт с пропуском через польское генерал-губернаторство во Псков.
Правда, на родине его тут же арестовали – прямо на вокзале. Нансеновский паспорт насторожил полицию, и пришлось телефонировать секретарю митрополита, чтобы тот подтвердил: свой, в миссию. Затем Рост, оглушённый густейшей речью, поплыл по площади через толпу. Сон изгнания кончился, и сквозь него проступила явь родины. Он заметил, что понимает говорящих с трудом. Он как слепой всматривался в прохожих, читая их лица, и наконец сел на скамейку и выдохнул: дома! дома!
Иная картина открылась позже, когда он свернул в Запсковье. Дома ссутулились и обветшали, слякоть изгваздала сапоги, и замаячили дырявые заборы. Тут же хлынули нищета и заколоченные окна и вырвали Роста из его сна: если это центр большого города, то что я увижу, если пойду к окраине? А если за её пределы?
Разыскивая Дмитриевскую церковь, Рост держался, но, когда увидел погост с хаосом наползающих друг на друга оградок и звёзд на могилах, не выдержал и зарыдал. Таким его нашёл отец Александр и увёл в дом причта. Знакомиться времени не было – ночи стояли лютые, и они долго кололи дрова для печи.
Прижимаясь к её обжигающему боку, Рост не мог заснуть. Он вскакивал, кружил по комнате, раз за разом прижимался лицом к стеклу, будто приворожённый, и всматривался в черноту улицы с единственным фонарём. Чернота разворачивалась как ковёр, застила звёзды и проглатывала дом с трубой, и дымом, и Ростом.
Спустя месяцы он привык, а тогда, в первое утро, отец Александр погрузил его во все мерзости быта, как котёнка. Миссионерам давали те же хлебные карточки, что горожанам. Дров не было. Из деревень ехали гонцы с просьбами прислать им священника. Немцы иереев уважали, но это отзывалось непредсказуемыми последствиями. Например, к отцу Ионову в Острове пришли эсэсовцы за советом: следует ли вешать комсомольцев на базарной площади или настроения таковы, что лучше сделать это без собрания, за складом?
Много такого рассказывал отец Александр, что слушать было невыносимо, будто режешь кожу бритвой. Сам он был немногословным, погружённым в богословие. С прихожанами обходился кротко. Его жена регентовала в хоре и показалась мне закрытой, но это быстро разъяснилось. Оба приехали из Парижа, куда были вывезены родителями после революции, и чувствовали себя чужеземцами.
Причина недостатка священства была в том, что местных иереев большей частью пересажали. Архиепископ Сергий прислал рижских, и они рассеялись по Псковщине. Священников всё равно не хватало, и пришлось всеми правдами и неправдами устраивать маршфебели таким, как отец Александр, эмигрантам. А вообще-то он был богослов и составлял диссертацию о Послании апостола Павла к римлянам; Елена была полковничьей дочерью и институткой.
Первые месяцы они выходили только в церковь и во двор. Сотни приезжих набивались в наш храм, многие спали на лестнице и в притворе. Исповедь была только общей. Отец Александр едва успевал освящать нательные кресты, выпиленные из монет. Пока не появился диакон, его возгласы на литургиях исполняла тайная монахиня Юлия, при большевиках работавшая лаборанткой в больнице.
Отец Александр быстро устал. Как выразилась Елена, мечта о тихих вечерах с гулом метели и разбором Воззваний к римлянам скукожилась, как падалица. Всё больше миссионерских дел он поручал Росту, и тот лишь чуть склонялся: благословите, батюшка. И когда отдел пропаганды велел священнику посетить спецдетдом, отец Александр попросил Роста помочь…
Там нас ждали двадцать сирот-диверсантов. Большевики не жалели детдомовцев: раз родителей нет, пусть служат родине, как могут. Тринадцатилеток забрасывали на вражескую сторону фронта с шифровками и грузом, указывая, где ждать связи с агентом. Многие попадались раньше, их допрашивали и прятали в спецдетдом. Разведка, кажется, хотела перевербовывать сирот и отправлять обратно – Росту велели узнать настроения.
«А что, учитель, правда, монахи друг друга охаживают?» Стены в подтёках, чёрные зубы, заломленные картузы, хохот. Воспитатель хлестнул плетью по столу, чтобы рты закрылись. «Я приехал не шутить, а рассказывать, что такое Бог, – сложив руки на груди, молвил им Рост, – и я расскажу недолго, а вы сами решайте…»
Он развернулся к нам с воспитателем и попросил выйти. Мы послушались, но тут же припали к двери. Рост начал сразу со страстей Христовых, понимая, что долго говорить ему не дадут. Впрочем, изгнание свидетелей подействовало, и диверсанты слушали, не перебивая, до сцены с распятием.
После секундной тишины злой тихий голосок сказал: «Бог-то твой легко отделался. На кресте два часа повисел, и всё. В хлеву его не жгли, дымом не блевал, ямы сёстрам не копал и сам на краю ямы под дулом не стоял. Что он может знать? И что ты знаешь?» – «Бог везде и во всяком, кто стоит у ямы… А я знаю только то, что мы как свиньи в грязи и лишь чудо нас может спасти». – «Что ж такое чудо? Чтобы ужин с маслом?» – «Чудо – это просвет. Я в сны не верю, но мне снится один сон… Я стою на краю поля, распаханного, а над ним сиреневые такие облака висят, как в грозу, но грозы нет, ни капли. За полем полоска леса, а что за ней, то скрыто, но оттуда какой-то свет неземной сквозит. И вот между пашней и рвом к этой полосе бежит тропинка. Я по ней, значит, иду, а навстречу люди, отрешённые, смотрят в сторону и сами черны. Я всё ближе и ближе к перелеску, и видно, что за ним новое, светлое поле, но облака всё ниже, ниже и подбираются вот так вот, и я уже бегу, чтобы успеть, падаю на четвереньки, ползу, опускаюсь ещё ниже, рожу измазала земля, но всё-таки я вжимаюсь в пашню и проползаю туда, к просвету. А там грозы уже и нет, и пустое поле, и дышится легко, и светло всюду».
Помолчали, а затем кто-то произнёс: «Красивые ты, учитель, сны видишь, да только этим служишь». Рост вздохнул. «Нет никаких этих. Есть Бог. Есть Россия, и это мы с вами. С двух сторон нас терзают, но одна сторона нас хоть чуть-чуть уважает, потому что сами крестятся, только слева направо, а другая сторона хочет, чтобы мы с вами всё позабыли, кто мы и откуда взялись». Последовало молчание, и кто-то сплюнул: «Откуда-откуда… Нигде мы, и сторон у нас тут никаких нет». – «Я ещё приеду», – сказал Рост.
Он попрощался и пошёл к двери, но остановился. «Погодите, я вспомнил чудо. Вчера служил наш священник обедню и в конце, как заведено, всем ложечкой давал каплю вина и кусочек просфоры, то есть хлеба – будто бы тела Христова. В очереди стояла женщина, непраздная, то есть с ребёнком в животе, который скоро родится, и, когда она подошла к чаше, ложечка сама вынула ей две частички просфоры… Не огонь там с неба, не ангел с мечом, не вот этот бородатый и грозный, которого рисуют на потолке… Нет! Чудо – это вот так. Это как внезапная забота, когда мы отчаялись и жить уже не хотим».
Опять молчание. Я вслушивалась в него с надеждой, что тишину не нарушит присвист или смешок, и у Роста получилось. Они чуть-чуть задумались. После прощания с воспитателем на крыльце мне захотелось обнять его, и я обняла. «Я слышал, что вы за дверью», – шепнул Рост.
На обратной дороге мы взялись за руки. Душа моя летала, вспоминая всё, что случалось со мною за всю жизнь, и отшелушивая чудеса от плевел будней.
Повесив моё пальто, Рост прошёл на кухню, отвинтил вентиль у газового баллона и зажёг огонь. Потом налил половину мятого жестяного чайника, дождался, когда он загремит и заклокочет, и сказал тихо, что хочет, чтобы я стала его женой, и, если я согласна об этом хотя бы подумать, он должен открыть мне тайное. Я, не раздумывая, как в прорубь, согласилась, и он рассказал мне о «зелёных романах».
Они с сараевскими скаутами отшатнулись от верований своих отцов-монархистов и решили, что в новой России надо строить демократию на основе солидарности и защиты интересов каждого класса. Разумеется, они придумали это не сами, а наткнувшись на брошюру о принципах Народно-трудового союза русских солидаристов с зелёной обложкой. Такие брошюры назывались романами. Рост написал по адресу в конце брошюры, и они встретились в Белграде с тамошними скаутами. Выяснилось, что скаутизм был чем-то вроде молодёжной работы для поиска новых солидаристов.
Чтобы ты представила, какие у солидаристов были нравы, перескажу одну сценку. Незадолго до войны мимо Сараево проезжал председатель союза Байдалаков. Он прислал Росту карточку с адресом гостиницы. Тот явился, и они поприветствовали друг друга рукопожатием. Байдалаков сказал: «Позвольте, я научу вас здороваться со старшим». И, не дожидаясь ответа, начал учить: «Когда старший протягивает руку, смотрите сперва на руку, затем слегка сжимайте её и смотрите прямо в глаза, а затем слегка опускайте руку вниз…»
Короче говоря, несмотря на все разговоры о демократии, младшие у них железно подчинялись старшим, и дисциплина была армейской. Не знавший других манер Рост принял этот урок с рукопожатием как должное – вроде как поклон опыту, надо быть благодарным.
Именно через Байдалакова ему удалось получить от архиепископа Сергия пропуск во Псков. Несколько священников миссии знали, что к ним едет солидарист. И в Варшаве Росту помогали, к примеру, посоветовали у вокзала садиться в трамвай, несмотря на то что до нужной квартиры было проще дойти пешком. Оказалось, на привокзальном отрезке улицы проверяют документы у всех мужчин подряд…
Я слушала всё это и страшилась, чувствуя, что в моей жизни начинается что-то такое, что уже нельзя будет отменить, сдать билет. Отогнув фанеру у стенки шкафа, Рост достал «зелёные романы» и оставил меня с их идеями на час. Я прочитала и попросила рассказать, что делают другие солидаристы во Пскове.
Не ведаю, блаженно пожал плечами Рост. Никто из нас не знает более двух соратников. Чтобы опознать друг друга, принято рисовать невзначай на снегу ли, стене ли, бумаге ли трезубец – знак святого Владимира. Пока никто не попался, и мы не знаем, как обойдётся с солидаристами гестапо, но в военное время это наверняка тюрьма. Поэтому, сказал Рост, мы аккуратны даже в сношениях с епархией и священством – пока нет крайней нужды, церковь лучше не втягивать, чтобы не навредить распространению веры. Понимаете?
Ну конечно, я вас люблю, и я хочу быть с вами во всём, оборвала его я. Мы обнялись и простояли так минут десять. Затем расцепились и радостно, с чувством новой жизни прочитали вечернюю молитву и свалились спать.
Кассета 1, сторона А…Процессия остановилась у церкви, и стало тихо. Свет через щели в стенах падал на лица колонистов, сгрудившихся в овине с австрийскими ружьями. Женщины и дети прятались по домам и молились. Мужчины сидели, привалившись к брусу под окном. В окно выглядывал староста с биноклем.
Он следил за патером Рохусом, который вышел из церкви и направился к прибывшим. Чуть переместив окуляры, староста увидел их пыльные гимнастёрки, револьверы и патронташи. Некоторых были в папахах с пятиконечными звёздами. Порожние телеги и фургоны выстроились вдоль улицы. Мы договорились, что, если патер почувствует, что возможен бой, он должен перебирать бусины чёток. Если же Рохус поймёт, что биться придётся не на жизнь, а на смерть, ему следует скрестить пальцы, жест горького отчаяния – колонисты будут стрелять первыми.
Слухи о том, что большевики рассылают отряды, которые должны забирать парней в армию, циркулировали уже год. Болтали также, что красные отбирают зерно, и немцев, конечно, пока не трогали, но наверняка возьмутся и за них. Пока приезжали только переписчики. В случае боя мне наказали мчать за подмогой в Нейфрейденталь – вражеский отряд был не настолько огромен, чтобы перекрыть все тропинки.
Патер смиренно поклонился. Перед ним стояли трое военных и ещё какой-то в чёрном костюме с полевой сумкой. Остальные двадцать бойцов устроились на повозках и курили. Открыв планшет, гражданский перелистнул несколько страниц, начал показывать нечто патеру, и тот учтиво кивал. Списки, просвистел староста сверху.
Наконец планшет закрылся, и патеру что-то приказали. Он дёрнулся и, наклонившись ближе к тройке, переспросил. Человек в папахе гаркнул на него, и мы безо всякого бинокля увидели, как рука Рохуса задрожала и потянулась к чёткам. В овине раздался вздох страха.
Гражданский схватил патера за рукав сутаны и произнёс несколько слов, указывая на колокольню. Рохус подтянулся, выслушал и вновь закивал, а затем чуть поклонился и направился к кирхе. Плечо его подрагивало.
Староста выругался, и стало ясно, что патер скрестил пальцы. Кто-то стал шёпотом молиться, а кто-то уточнил, в своём ли уме святой отец. «Времени нет, – сказал староста, – и если такой трус, как Рохус, осмелился решить, что лучшее, что мы можем сделать, – это драться… Значит, готовимся к залпу и, когда колокол зазвонит, стреляем, как учили! Каждый в своего, слева направо. А если начинается бой, рассеиваемся по садам. Ханс и Гуго, быстро в Нейфрейденталь и вцепитесь в них намертво, чтобы ополчение мчалось как молния!»
К щекам моим прилила нежность. К каждым белёным воротам, к наособицу раскрашенным ставням, к камню с крестом, где висел поновляемый деревянный Христос, и лестничкой, по которой он забирался на крест. Да ко всему, чего уж: к эльзасским люлькам с резными солнцами, которые качались в гулких комнатах, к часам-башням, заставлявшим своим боем дрожать посуду…
Никто не помнил, как эти часы доставляли к Чёрному морю. Говорили, что на кораблях точно никто из колонистов не плыл. Значит, тянулись и тянулись через степь фургоны, влекущие механизмы, которые были закутаны в войлок и покоились в футлярах, как во гробах. Везли время – а остальную утварь, от буфетов-фортеций до кроватей, изготавливали здесь, в мастерских.
Время потрескалось прошлым летом, когда ударила засуха и настал чудовищный голод, и если бы не вюртембергское общество помощи, приславшее муку, то, наверное, мы бы превратились в мумии.
«Детка, кот уснул в снегу. Снег растаял – кот на льду. Дождь прольётся, стопит лёд, завтра утром всё пройдёт». Так, обхватив мою голову и целуя мокрый лоб, мать заговаривала все болезни, и вдруг прямо там, в овине, я понял, что «всё» из заговора – это не болезнь, а наш милый мирок и его невозмутимость, защищённая ходом времени, которое перевезли с родины в это пыльное безлюдье.
Меня толкнули в плечо. «Нечего ждать! – зашипел староста. – Рохус сейчас зазвонит!» Мы с Гуго выбежали в калитку, сговорились по-быстрому, каким путём движемся, и нырнули в тень садов. Гуго бежал впереди и вдруг упал носом в землю. «Смотри!» Выезд из колонии перекрывали всадники. У большой тропы тоже маячили чужие гимнастёрки.
Раздался колокольный звон, обычный, чопорный, не набат – только чаще, чтобы гул между ударами не затихал. После четвёртого удара затрещали нестройные выстрелы. Мы обернулись: всадники на выезде не шевелились, точно знали наперёд, что случится.
Замерев на минуту, мы слушали то крики, то австрийские ружья. Прибывшие не отвечали колонистам, и тут же справа от нас задрожала земля и лязгнуло оружие. Со стороны Нейфрейденталя в колонию ворвалась засада. Раздался слаженный громкий залп чужих винтовок, и ещё один, и ещё. Под прикрытием стрелков кавалеристы рвались к обороняющимся.
Очнувшись и вспомнив, что в овине отец и брат Фридрих, я забыл обо всём и кинулся обратно, но на полдороге свернул к дому. Вдруг всё-таки обойдётся, вдруг всё пройдёт. Я пробрался к дому по садам соседей. Потом прибежал Фридрих и утащил меня на чердак с отодвигающимся щитом, где мы прятались, играя в «чёрного Петера».
Фридрих прошептал, что, заслышав приближение кавалерии, староста всё понял и крикнул разбегаться. Он успел, отец нет. Тем временем выстрелы совсем стихли, и лишь изредка раздавались вопли. Пахло стружкой и птичьим дерьмом. На лестнице раздалось шварканье башмаков сестры Анны. Она постучала к нам: мать встретила соседа, и тот передал, что всех схватили, двоих ранили, а теперь ходят по дворам и отнимают зерно.
Вот так, рекруты им не были нужны. Только зерно, причём всё, а за сокрытие, сказали, будут расстреливать – поэтому патер и отчаялся настолько, что скрестил пальцы. Если в прошлый засушливый год в колонии оставались какие-никакие запасы, то этой осенью без зерна мы бы передохли как мыши.
Во дворе раздались голоса. Судя по топоту, доносившемуся из фордерштубы, мать и сёстры не успели спрятаться и быстро расселись вокруг стола. Русская ругань и крик отца: «Я агроном, у меня ничего нет!» Голос звучал сдавленно, что-то мешало ему говорить. Раздались глухие удары. Отец умолк.
Я посмотрел на Фридриха и встретил его острый, страшный взгляд. Удары, приправленные бранью, возобновились, и брат, сдирая кожу с ладоней, вырвал засов и вывалился на чердак. Его ботинки загрохотали вниз. Я бросился за ним, но замер у оконца.
Отец лежал в пыли, как куча грязной одежды, и едва шевелился. Один приезжий стоял у забора и держал винтовку второго, а этот второй тряс отца за воротник. Остальные уже грохотали бочками в сарае. Фридрих не добежал до отца – тот, что у забора, ударил его прикладом, целясь в ухо. Брат увернулся и хотел выхватить ружьё, но получил удар от второго и упал. Его стали бить сапогами.
Мать бросилась к истязателям и закричала, что хлеба нет. «А если нет, то чего вы, твари, стреляли?!» Мать упала на колени: «Не знали мы, чего вы хотите, вдруг грабить будете». Из сарая вышел ещё один. Я не успел разглядеть его как следует, потому что по лестнице взбежала Анна. Схватив меня за плечо, она показала на окно со стороны сада: прыгай, мама сказала нам уходить к Фишерам, а тебе бежать в Нейфрейденталь, иначе их убьют.
Выглянув, я увидел, что во дворе уже семеро и их мешки пусты. Высоченный и прямой как жердь солдат схватил мать за щёку и проорал в лицо что-то звериное. Фридрих попытался встать, но после ещё одного удара свалился, и его лицо залила кровь.
Мать завизжала так, что лопнули все стёкла, и небо, и яблони, мотнулось солнце, сосуды в моём мозгу взорвались, и я метнулся через комнату, дёрнул рассохшиеся ставни и прыгнул в окно, не думая о том, как приземлюсь, и желая разбиться.
Меня спас крыжовник, я лишь ушиб плечо. Перелезая через изгородь к соседям, я услышал ещё более нечеловеческий вопль, после которого перед глазами рухнула глухая штора. Она напоминала занавес с зияющими прорехами и накрывала, закутывала весь мир. Надо было возвращаться и умирать или всё-таки мчаться за подмогой.
Закрыв ладонями уши и останавливаясь каждые десять метров – дёрнуться обратно к дому, прислушаться, услышать лишь мёртвую тишину, вновь скрутить себя и бежать, – я миновал сады. Оцепление сняли. Рыдая от бессилия и размазывая грязные слёзы, я свалился в пустынную балку и побежал к Нейфрейденталю.
Директор Нольд был, как всегда, при жилете и бабочке. Он велел подождать, но я вцепился в него и закричал. Нольд снял мою руку и отряхнул рукав. Ханс, сказал он, я всё знаю, они нагрянули сюда прежде, чем к вам, и ушли, потому что мы отдали им зерно, а оружие приберегли. Да, они искали зерно, и мы отдали им часть. А где тайник с остальным зерном, знают немногие, и отряд ничего не добился.
Я пересказал сцены с патером, стрельбой и родителями. Староста ваш всегда был забиякой, покачал головой Нольд, а предупредить вас мы не смогли – кавалеристы, которые сидели в засаде, охраняли дороги в Розенфельд до последнего. Наш староста с лекарем поедут сейчас к вам и узнают, что происходит.
Отправив гонцов, Нольд вернулся. Подождём, сказал он, а пока займёмся тобой. Дальше он объяснял, что большевики могут найти мои метрики и послать их в Одессу, чтобы меня разыскали как скрывшегося мужчину из бунтовщиков, поэтому мне безопаснее добраться до Одессы и там решать, как действовать дальше. Тем более отряд наверняка повезёт пленных в одесскую тюрьму, и я смогу похлопотать о родителях.
Я был убит и нем. Не встретив сопротивления, Нольд достал из сюртука ключ, отворил секретер и извлёк мой аттестат. Затем вписал в документ недостающие оценки.
Придвинув аттестат ко мне, Нольд повторил: «Я бы советовал спешить в Одессу. Кажется, твоя тётка имеет связи? Мы свяжемся с комитетом колонистов, и они помогут. Сейчас идём к Штумпфам, переночуешь у них, а я пока узнаю, кто едет в Одессу. А если в Розенфельде всё не так худо, завтра же вернёшься домой…»
Осенние ночи в степи невыносимы. Даже зимние честнее: хотя бы знаешь, чего ждать. В октябре же после полуденного пекла не хочется и думать, что придётся надевать тулуп. Но вот солнце уже скрывается, задувает полынный ветер, и подошвы примерзают к земле.
Штумпфы встретили меня приветливо. Мы с Карлом когда-то делили одну парту и умудрились ни разу не поссориться по причине его болезненной молчаливости.
Староста и лекарь не успели вернуться до заката. Тогда я выскользнул через заднюю калитку в степь, чтобы встретить их и расспросить первым.
Бегая по руслу ручья, чтобы хоть как-то согреться, я вглядывался в чёрный склон холма, по которому змеилась дорога к Розенфельду. Горечь иссушала меня, хотелось упасть и грызть камни, чтобы как-то с нею справиться. Отец, мать, Фридрих, Катарина, Анна – они всего в нескольких километрах от меня, сидят в смрадном хлеву и пытаются согреться. Если, конечно, живы.
В темноте качнулась звезда фонаря, и ко мне приблизился Нольд. Он не стал браниться, что я не сплю, только сказал: «Подождём». Через полчаса прикатилась двуколка. Староста сообщил, что розенфельдский староста при смерти, его ударили саблей и он потерял много крови. Патера мерзавцы лупили впятером. У него и некоторых других сломаны рёбра, спины в кровавых подтёках. Как и предполагал директор, мужчин со следами пороха на руках посадили под замок и увезут на суд. В семьях, где оказывали сопротивление, арестовали ещё и женщин.
Староста посветил фонарём на меня: в твоей семье тоже – мать и брата с женой заперли под охраной в сарае, отец избит, но жив, а сестриц приютили Фишеры. Красные выгребли все документы, добавил он, так что будут искать и тебя. Нольд положил мне руку на плечо. Я смотрел на них снизу вверх, точно из расселины.
«У нас нет причин обманывать тебя, – сказал Нольд. – Утром аптекарь поедет в Одессу за препаратами, и ты с ним. Он скажет, что ты ассистент. Найди тётку и выясни, когда суд и сможет ли она помочь. А затем передашь всё, что узнал, нам».
Расселина расширялась. Из её недр я слышал голос директора и погружался всё ниже – будто там, вдали от света, мог встретить своих и узнать, что случилось на самом деле…
Спустя сутки, в Одессе, склонившись к двери с окуляром – до сих пор помню этот горьковатый запах покрытого лаком дерева, – я вслушивался в происходившее внутри. Тётка моя Хильда обила стены и дверь своей квартиры толстым плюшем и сделала это совсем не для услаждения глаз.
Когда я явился на Старопортофранковскую в первый раз, с нами был брат Хильды, мой дядя, архитектор. Они обо всём договорились, дядя ушёл, и Хильда объявила мне правила. Она сдавала мне, гимназисту, комнатку, считавшуюся библиотекой, и разрешала питаться со стола, наполняемого её кухаркой. Также она требовала моего наличия дома после семи вечера и отчёта о том, где я провожу время после гимназии. Главным же условием было молчание во время визита её гостей, что бы странное или нелепое я ни слышал.
В первые дни ничего нелепого не происходило. Разве что Хильда каждый вечер лежала в ванне с романом. В колонии не принимали ванн. Однако довольно скоро, выходя гулять, я услышал, как тётка поднимается по лестнице не одна. Их голоса шелестели по-немецки: «Каких бы приключений желали господин капитан и его великолепный нос?» – «Мой великолепный нос желал бы, чтобы госпожа на нём прокатилась». – «О-о-о, госпожа обещает попробовать». Оба тихо засмеялись, и я скользнул в свою комнату.
Там хранилась дядина библиотека с «Историей Пелопонесской войны», Гомером и «Реставрацией древних строений» Поуиса. Последняя книга, кстати, произвела на меня особое впечатление, и мне хотелось попробовать методы очистки известняка в катакомбах. Надо объяснить…
Из всей моей нелюбви к Одессе было исключение – брошенные каменоломни. Взрослые пугали нас, что многие лазы проходили прямо под кладбищами и с потолка на нас мог обрушиться мертвец, а однажды в преисподнюю провалилась целая телега. Но на самом деле катакомбы были едва ли не самым безопасным местом в городе.
Я убегал в пещеры после уроков с дружками из гимназии. В одной из каменоломен, состоящей из анфилады залов, мы учредили штаб. Я запомнил Тронный зал – кто-то до нас сложил там из камней неказистый трон. Ещё был зал Аристид, названный так потому, что у входа в него нашли череп и нарекли именем лысого полководца.
Самым же тонким наслаждением было исследовать лазы, настолько узкие, что пролезать приходилось на вдохе. Я вызывался первым. С землёй мне всегда хотелось обняться, и, даже зажатый в толщах влажного песка и нависающей сверху породы, я чувствовал себя уютно. Иногда, отправляясь в извилистый лаз, я брал свечку и спички и, разместившись в скальных теснинах, воображал, что сей мешок есть моя комната. Я зажигал спичку и осматривал подсвеченные ею влажные стены…
В тот вечер, несмотря на многослойную защиту из плюша, я отчётливо слышал за дверью Хильды наполненные сладостью крики и удары тел друг о друга.
Хильда переводила документы и совещания в конторе порта и часто приводила домой то нового капитана, то торгового представителя, то консула. С ней соседствовали буржуа, не страдавшие набожностью, и с их стороны ворчания не доносилось. Я же от прослушивания ударов тел друг о друга ничуть не натерпелся и, напротив, принял утехи как должное и предстоящее в скором времени. (Я ошибался: только мы с друзьями наметили себе амурные приключения, как началась смута и отец забрал меня в Розенфельд.)
Когда аптекарь ссадил меня на углу Старопортофранковской с ветхим чемоданом, куда сострадательные Штумпфы сложили кое-какую одежду, тётка тоже была занята. Прислонив к дверной щели ухо, я понял, что Хильда хлещет гостя чем-то вроде кнута, а тот её умоляет. Пришлось вернуться на улицу.
Жестокий муссон сшибал жёлуди и каштаны. Впервые за день напал голод, и я купил в закрывающейся лавке калач. Город истрепался и сменил вывески. Было ясно: раз большевики отнимают последнее во время засухи и голода, значит, дела их настолько плохи, что они не остановятся вообще ни перед чем.
Не меньше совести меня мучала внезапность происходящего. Ещё вчера утром я проснулся в своей кровати, в своей комнате, в своём доме, чьё тепло ещё хранило моё тело, – а нынче я беглец, и меня скоро начнут искать. Родных же моих, проснувшихся в соседних комнатах, конвоируют в тюрьму. Я спрятался от ветра между парапетом и жимолостью и сидел, прижимая чемодан к груди, пока из подъезда не вышел морской офицер.
Хильда смотрела, как я ем, и пересказывала то, что знала. Бессарабские немцы стали уезжать из колоний ещё год назад. Многие посылали прошение о возвращении в Германию, получали одобрение и уезжали. Дядя-архитектор уехал в Штутгарт, как только понял, что новая власть лютует не хуже прежних бандитов – те и другие лишали господ остатков роскоши. И раньше-то перед частной собственностью в этом городе не слишком трепетали, а теперь все приличные люди стремились устроиться к красным, чтобы иметь хоть какую-нибудь защиту от банды Мишки Япончика и других головорезов.
Я пересказал случившееся в степи. Хильда массировала лоб круговыми движениями, будто втирая туда невидимую мазь, и в конце концов выругалась. «Почему вы сами не уезжаете?» – спросил я. Она уставилась на меня с изумлением. «Ты уже большой мальчик и знаешь мои привычки. Портовый город – это новые люди, новые удовольствия, свободная, хотя и опасная жизнь. И это моя жизнь. Когда идёт война, я не за красных и не за белых, я перевязываю раненых».
О, я её понимал. «Здесь появились „Братья в нужде“ и „Католическое общество помощи“, и знаешь, сколько документов пришлось мне подделать, чтобы они смогли вывезти студентов, таких же как ты, и устроить на учёбу где-то в Вюртемберге? Многие, правда, не отпускают детей и надеются, что колонии оставят в покое…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































