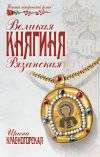Текст книги "Обойдённые"

Автор книги: Николай Лесков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Глава одиннадцатая
Иной путь
Бежали дни за днями. Из них составлялись недели и месяцы – Долинский никуда не показывался. К нему несколько раз заходил Кирилл Онучин; раза три заходила даже Вера Сергеевна, но madame Бюжар, тщательно оберегая своего странного постояльца, никого к нему не допускала. Вера Сергеевна в первый месяц исчезновения Долинского послала ему несколько записок, которыми приглашала его прийти, потому что ей «скучно»; в другой она даже говорила ему, что «хочет его видеть» и, наконец, она писала: «Я очень расстроена. У меня горе, в котором мне не к кому прибегнуть, не с кем посоветоваться, кроме вас! Вас это может удивить, если вы думаете, что я только светская кукла и ничего более. Если вы так думаете, то вы очень ошибаетесь. Но, во всяком случае, что бы вы ни думали обо мне, я вам говорю, что у меня горе, большое горе. Чем я ничтожнее, тем оно для меня тяжелее. Мне приходится бороться с тяжелыми для меня требованиями и мне не с кем обдумать моего положения, не с кем сказать слова. Вы – человек с сердцем и человек любивший; умоляю вас, помогите мне хоть одним теплым словом! Если вы не хотите быть у нас, если не хотите у нас с кем-нибудь встретиться, то завтра попозже в сумерки, как стемнеет, будьте на том месте, где мы с вами гуляли вдвоем утром, и ждите меня – я найду случай уйти из дома.
Надеюсь, что у вас недостанет холодности отказать мне в такой небольшой, но важной для меня услуге, хоть, наконец, из снисхождения к моему полу. Помните, что я буду ждать вас и что мне страшно будет возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».
Трудно поручиться, достало ли бы у Долинского холодности не исполнить просьбу Веры Сергеевны, если бы он прочел это послание; но он не читал ни одного из ее писем. Как только m-me Бюжар подавала ему конверт, надписанный рукою Веры Сергеевны, он судорожно сминал его в своей руке, уходил в угол, тщательно сжигал нераспечатанный конверт, растирал испепелившуюся бумагу и пускал пыль за свою оконную форточку. Он боялся всего, что может хоть на одно мгновение отрывать его от дум, сетований и таинственного мира, создаваемого его мистической фантазией. Наконец все его оставили. Он был очень этому рад. Окончив работу, он с восторженностью начал изучать пророков и жил совершенным затворником. А тем временем настала осень, получилось разрешение перевезти гроб Даши в Россию и пришли деньги за напечатанную повесть Долинского, которая в свое время многих поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечаток душевного настроения автора.
Долинскому приходилось выйти из своего заточения и действовать.
На другой же день, по получении последней возможности отправить тело Даши, он впервые вышел очень рано из дома. Выхлопотав позволение вынуть гроб и перевезя его на железную дорогу, Долинский просидел сам целую ночь на пустом, отдаленном конце длинной платформы, где поставили черный сундук, зловещая фигура которого будила в проходивших тяжелое чувство смерти и заставляла их бежать от этого странного багажа.
Долинский не замечал ничего этого. Он сидел у сундука, облокотясь на него рукою, и, казалось, очень спокойно отдыхал от дневных хлопот и беготни по поводу перевозки. На дворе совсем меркло; мимо платформы торопливо проходили к домам разные рабочие люди; прошло несколько девушек, которые с ужасом и с любопытством взглядывали на мрачный сундук и на одинокую фигуру Долинского, и вдруг сначала шли удвоенным шагом, а потом бежали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь в длинных юбках платьев. Еще позже забежало несколько резвившихся после ужина мальчиков, и эти глянули и, забыв свои крики, как бы по сигналу, молча ударились во всю мочь в сторону. Ночь спустилась; заря совсем погасла, и кругом все окутала темная мгла; на темно-синем небе не было ни звездочки, в тихом воздухе ни звука.
Откуда-то прошла большая лохматая собака с недоглоданною костью и, улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, как зубы стукнули о кость и как треснул оторванный лоскут мяса, но вдруг собака потянула чутьем, глянула на черный сундук, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всех ног бросилась в темное поле, оставив свою недоглоданную кость на платформе.
Когда рано утром тронулся поезд, взявший с собою тело Доры, Долинский спокойно поклонился ему вслед до самой до земли и еще спокойнее побрел домой.
Распорядясь таким образом, Долинский часу в одиннадцатом отправился к Онучиным. Неожиданное появление его всех очень удивило, Долинский также мог бы здесь кое-чему удивиться.
Кирилла Сергеевича он застал за газетами на террасе.
– Батюшки мои! Вы ли это, Нестор Игнатьич? – вскричал добродушный ботаник, подавая ему обе свои руки. – Вера!
– Ну, – послышалось лениво из залы.
– Нестор Игнатьич воскрес и является.
Из залы не было никакого ответа и никто не показывался.
– Я принес вам мой долг, Кирилл Сергеич. Сколько я вам должен? – начал Долинский.
– Позвольте, пожалуйста! Что это в самом деле такое? Год пропадает и чуть перенес ногу, сейчас уж о долге.
– Тороплюсь, Кирилл Сергеич.
– Куда это?
– Я сегодня еду.
– Как едете!
– То есть уезжаю. Совсем уезжаю, Кирилл Сергеич.
– Батюшки светы! Да надеюсь, хоть пообедаете же ведь вы с нами?
– Нет, не могу… у меня еще дела.
Ботаник посмотрел на него удивленными глазами, дескать: «а должно быть, ты, брат, скверно кончишь», и вынул из кармана своего пиджака записную книжечку.
– За вами всего тысяча франков, – сказал он, перечеркивая карандашом страницу.
Долинский достал из бумажника вексель на банкирский дом и несколько наполеондоров[134]134
Наполеондор – французская золотая монета достоинством в 20 франков, чеканившаяся с 1808 г. императором Наполеоном I и с 1852 г. вновь введенная в обращение Наполеоном III.
[Закрыть] и подал их Онучину.
– Большое спасибо вам, – сказал он, сжав при этом его руку.
– Постойте же; ведь все же, думаю, захотите, по крайней мере, проститься с сестрою и с матушкой?
– Да, как же, как же, непременно, – отвечал Долинский.
Онучин пошел с террасы в залу, Долинский за ним.
В зале, в которую они вошли, стоял у окна какой-то пожилой господин с волосами, крашенными в светло-русую краску, и немецким лицом, и с ним Вера Сергеевна. Пожилой господин сиял самою благоприятною улыбкою и, стоя перед m-lle Онучиной лицом к окну, рассказывал ей что-то такое, что, судя по утомленному лицу и рассеянному взгляду Веры Сергеевны, не только нимало ее не интересовало, но, напротив, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь к косяку окна и, сложив руки на груди, безучастно смотрела по комнате. Под глазами Веры Сергеевны были два больших синеватых пятна, и ее живое, задорное личико несколько затуманилось и побледнело.
Она взглянула на Долинского весьма холодно и едва кивнула ему головою в ответ на его приветствие.
– Барон фон Якобовский и господин Долинский, – отрекомендовал Кирилл Сергеевич друг другу пожилого господина и Долинского.
Барон фон Якобовский раскланялся очень в меру и очень в меру улыбнулся.
– Член русского посольства в N., – произнес вполголоса Онучин, проходя с Долинским через гостиную в кабинет матери.
Серафима Григорьевна сидела в большом мягком кресле, с лорнетом в руке, читала новый нумер парижского «L’Union Chretienne»[135]135
«Христианского союза» (франц.).
[Закрыть].
– Ах, Нестор Игнатьич! – воскликнула она очень радушно. – Мы вас совсем было уж и из живых выключили. Садитесь поближе; ну что? Ну, как вы нынче в своем здоровье?
Долинский поблагодарил за внимание, присел около хозяйкиного кресла, и у них пошел обыкновенный полуформенный разговор.
– А у нас есть маленькая новость, – сказала наконец, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна. – С вами, как с нашим добрым другом, мы можем и поделиться, потому что вы уж верно порадуетесь с нами.
Долинский никак не мог понять, каким случаем он попал в добрые друзья к Онучиным; но, глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную весть, довольно низко поклонился и сказал какое-то приличное обстоятельствам слово
– Да, вот, наш добрый Нестор Игнатьич, наша Верушка делает очень хорошую партию, – произнесла Серафима Григорьевна.
– Выходит замуж Вера Сергеевна?
– Да, выходит. Это еще наша семейная тайна, но уж мы дали слово. Вы видели барона фон Якобовского?
– Да, нас сейчас познакомил Кирилл Сергеич.
– Вот это ее жених! Как видите, он еще tres galant, et tout ea…[136]136
Обходительный и все в этом роде (франц.).
[Закрыть] умен, принадлежит к обществу и член посольства. Вера будет иметь в свете очень хорошее положение
– Да, конечно, – отвечал Долинский.
– Вы знаете, он лифляндский барон.
– Гм!
– Да, у него там имение около Риги. Они ведь, эти лифляндцы, знаете, не так, как мы русские; мы все едим друг друга да мараем, а они лесенкой.
– Да, это так.
– Лесенкой, лесенкой, знаете. Один за другим цап-царап, цап-царап – и все наверху.
Долинский, в качестве доброго друга, сколько умел, порадовался семейному счастью Онучиных и стал прощаться со старушкой. Несмотря на все просьбы Серафимы Григорьевны, он отказался от обеда.
– Ну, бог с вами, если не хотите с нами проститься как следует.
– Ей-богу, не могу, тороплюсь, – извинялся Долинский.
Старушка положила на стол нумер «L’Umon Chretienne» и пошла проводить Долинского.
– Вы к нам зимою в Петербурге заходите, – говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинский пожал в зале руку Веры Сергеевны и пробурчал ей какое-то поздравление. – Мы вам всегда будем рады.
– Мы принимаем всех по четвергам, – сухо проговорила Вера Сергеевна.
– Да и так запросто когда-нибудь, – звала Серафима Григорьевна.
Долинский раскланялся, скользнул за двери и на улице вздохнул свободно.
– Очень жалкий человек, – говорила барону фон Якобовскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслед за ушедшим Долинским. – Был у него какой-то роман с довольно простой девушкой, он схоронил ее и вот никак не утешится.
– Он так и смотрит влюбленным в луну, – отвечал, в меру улыбаясь, барон фон Якобовский.
Вера Сергеевна не принимала в этом разговоре никакого участия, лицо ее по-прежнему оставалось холодно и гордо, и только в глазах можно было подметить слабый свет горечи и досады на все ее окружающее.
Вера Сергеевна выходила замуж не то чтобы насильно, но и не своей охотой.
Долинский, возвратясь домой, застал свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, он дружески расцеловал m-me Бюжар и уехал на железную дорогу за два часа до отправления поезда.
– Вы в Петербург? – спрашивала его, совсем прощаясь, madame Бюжар.
Долинский как будто не расслышал и вместо ответа крикнул:
– Adieu, madame.
В ожидании поезда он в тревожном раздумье бегал по пустой платформе амбаркадера, останавливался, брался за лоб и, как только открылась касса для первого очередного поезда, взял место в Париж.
Глава двенадцатая
Батиньольские голубятни
Нестор Игнатьевич в Париже поселился в крошечной комнатке пятого этажа одного большого дома в Батиньоле[137]137
Батиньоль – район Парижа, где предпочитали селиться русские, желавшие предаться усиленным занятиям.
[Закрыть]. Занятое им помещение было далеко не из роскошных и не из комфортабельных. Вся комнатка Долинского имела около четырех аршин в квадрате, с одним небольшим, высоко проделанным окном и неуклюжим дымящим камином, на котором, вместо неизбежных часов с бронзовым пастушком, пренеловко расстегивающим корсет своей бронзовой пастушки, одиноко торчал молящийся гипсовый амур, весь немилосердно засиженный мухами. Меблировка этой комнаты состояла из небольшого круглого столика, кровати с дешевыми ситцевыми занавесами, какого-то исторического комода, на котором было выцарапано: Beuharnais, Oginsky Podwysocky, Ian nalit wody w zban[138]138
Богарне, Огиньский, Подвысоцкий, Ян налил воды в жбан (польск.).
[Закрыть], и многое множество других исторических и неисторических имен, более или менее удачно и тщательно произведенных гвоздем и рукою скучавшего и, вероятно, нищенствовавшего жильца. Кроме этих вещей, в комнате находилось три кресла: одно – времен Людовика XIV (это было самое удобное), другое – времен первой республики и третье – времен нынешней империи. Последнее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять, только будучи приставленным в угол, ибо все его ножки давным-давно шатались и расползались в разные стороны. Зато все это обходилось неимоверно дешево. Целая такая комната, с креслами трех замечательнейших эпох французской государственной жизни, с водой и прислугой (которой, впрочем, de facto[139]139
В действительности (лат.).
[Закрыть] не существовало), отдавалась за пятнадцать франков в месяц. Таких каморок, по сторонам довольно широкого и довольно длинного коридора, едва освещавшегося по концам двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая из них была отделена одна от другой дощатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, через которую, однако, можно было свободно постучать и даже покричать своему соседу. Обитателями этих покоев были люди самые разнокалиберные; но все-таки можно сказать, что преимущественно здесь обитали швеи, цветочницы, вообще молодые, легко смотрящие на тяжелую жизнь девушки и молодые, а иногда и не совсем молодые, даже иногда и совсем старые люди, самых разнообразных профессий. На каждой из серых дверей этих маленьких конурок грязноватою желтою краскою написаны подряд свои нумера, а на некоторых есть и другие надписи, сделанные просто куском мела. Последние надписи бывают постоянные, красующиеся иногда целые месяцы, и временные, появляющиеся и исчезающие в один и тот же день, в который появляются. Очень редко случается, что подобная надпись переживает сутки и никогда двух. К числу первых принадлежат меловые начертания, гласящие: «Cecile», «Pelagie», «Mathilde», la cauturiere, «Psyche», «Nymphe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou – etudiant», «Le petit Mathusalem» или: «Frappez fort s’il vous plait!» и т. п.[140]140
«Сесиль», «Пелагея», «Матильда», портниха, «Психея», «Лесная нимфа», «Поль и Пеполь», «Анаксагу-студент», «Маленький Мафусаил», или «Стучите сильнее, пожалуйста!» (франц.)
[Закрыть]
Временные же, преимущественно однодневные надписи, более все в следующем роде: «Je n’ai point d’habit», «Cela est probable», «J’en suis furieux!!!»[141]141
«Я раздет», «Это возможно», «Я взбешен!!!» (франц.)
[Закрыть] (внизу неимоверный вензель), «Pouvez-vous me dire, ou il demeure?»[142]142
«Не скажете ли, где он?» (франц.)
[Закрыть] (опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenue de bonne heure» и т. п.[143]143
«Боюсь, что поезд сойдет с рельс», «Мы вернемся рано» (франц.).
[Закрыть] Иногда на дверях отсутствующей хозяйки являются надписи и более прямого значения, например, под именем какой-нибудь швеи Клеманс и цветочницы Арно, вдруг в один прекрасный день является вопрос: «Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?»[144]144
«Не пустите ли вы нас на ночь?» (франц.)
[Закрыть] подписано: «F. et R.» или: «Je n’ai presque rien mange depuis deux jours – Que faire?»[145]145
«Два дня я почти ничего не ел. Что делать?» (франц.)
[Закрыть]
На дверях комнаты, занятой Долинским, стояло просто «№ 11», и ничего более. С правой стороны на дверях под № 12 было написано еще: «Marie et Augustine – gantieres»[146]146
«Мари и Огюстина – перчаточницы» (франц.).
[Закрыть], а с левой под № 10 – «Nepomucen Zajonczek – le pretre»[147]147
«Непомуцен Зайончек – священник» (франц.).
[Закрыть].
В жилищах этого рода соседи по комнате имеют для каждого жильца свое, и даже весьма немаловажное, значение. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосед, не успеет водвориться, как снискивает себе доброе расположение своих ближайших соседей и особенно соседок, из которых одна, а иногда и две непременно рассчитывают в самом непродолжительном времени (иногда даже с первого же дня) сделаться его любовницей. Зато плохой, вздорливый и придирчивый сосед – чистое несчастье. Сами гризеты[148]148
Гризеты – молодые девушки (швеи, мастерицы) легких нравов, в изображении французской литературы XIX века подруги бедных студентов, художников (от франц. grisette).
[Закрыть] чаще всего начинают бояться таких господ, избегают с ними встречи и дают им разные ядовитые клички; но выжить строптивого жильца «из коридора» гризеты никак не сумеют. Это удается только тогда, если «весь коридор» обозлится (что бывает довольно редко), или если строптивый человек надоест ближайшим своим соседям из студентов.
Перчаточницы Augustine и Marie были молодые, веселые, беспечные девочки, бегавшие за работой в улицу Loret и распевавшие дома с утра до ночи скабрезные песенки непризнанных поэтов Латинского квартала. Обе эти девочки были очень хорошенькие и очень хорошие особы, с которыми можно было прожить целую жизнь в отношениях самых приятельских, если бы не было очевидной опасности, что приязнь скоро перейдет в чувство более теплое и грешное. Marie и Augustine были тоже очень довольны своим «одиннадцатым нумером», но только с одной стороны. Им очень нравилась его скромность, услужливость, готовность поделиться кофе, сыром, хлебом и т. п. Но что это был за сосед, с которым ни пойти, ни поехать, ни посидеть вместе, который не позовет ни к себе, ни сам не придет поболтать? «Un ours»[149]149
Медведь (франц.).
[Закрыть] прозвали его гризеты и очень часто на него дулись. Но, несмотря на нелюдимость Долинского, и Augustine, и Marie, и даже все другие жилицы коридора со второго же дня появления его здесь положили, что он bon homme[150]150
Добряк (франц.).
[Закрыть] и что его надо приласкать – даже непременно надо.
Зато № 10, m-r le pretre Nepomucen Zajonczek давно стоял поперек горла решительно всем своим ближайшим соседям. Это был несносный, желчный старик с серыми сухими глазами, острым, выдающимся вперед подбородком и загнутыми вниз углами губ. Гризеты называли его «полициймейстером» и отворачивались от него, как только он показывался в коридоре. M-r le pretre Zajonczek обыкновенно сидел дома. Он выходил только два, много три раза в неделю в существующую на Батиньоле польскую школу и раз вечером в воскресенье ездил на омнибусе куда-то к St. Sulpice. Все остальное время он проводил в своей комнатке и постоянно или читал, или делал какие-то выписки. Его посещали здесь довольно странные люди и несколько пышных грандиозных дам, которых он провожал, называя графинями и княгинями. Соседями Zajonczeka было замечено, что все его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положение Зайончека возбуждали внимание и любопытство всех голубей и голубок этой парижской голубятни, но никто не имел этого любопытства настолько, чтобы упорно стремиться к уяснению, что в самом деле за птица этот m-r le pretre Zajonczek и что такое он делает, зачем сидит на этом батиньольском чердаке? Давно, еще вскоре за тем, как Зайончек здесь поселился, кто-то болтнул вдруг, что m-r le pretre Zajonczek гадатель, что он отлично гадает на картах и может предсказать все, за сколько вам угодно лет вперед. Несколько человек повторили эту тонкую догадку и к вечеру того же дня две или три гризеты, трясясь и замирая, собирались идти и попросить сурового Зайончека погадать им о запропавших любовниках. Но вдруг разнеслась весть, что Monsieur le professeur Grelot[151]151
Профессор Грелот (франц.).
[Закрыть], который живет здесь на голубятне уже более трех лет и которого все гризеты называют grand papa[152]152
Дедушка (франц.).
[Закрыть] и считают своим оракулом, выслушав явившееся насчет Зайончека соображение, сомнительно покачал головою. Все тотчас тоже сами покачали головами и с тех пор вовсе оставили добиваться, что такое этот загадочный m-r le pretre, а продолжали называть его по-прежнему «полициймейстером». Это название желчный старик получил потому, что его сварливый характер и привычка повелевать не давали ему покоя и на батиньольском чердаке. Чуть только где-нибудь по соседству к его нумеру после десяти часов вечера слышался откуда-нибудь веселый говор, смех или хотя самый ничтожный шум, m-r le pretre выходил в коридор со свечою в руке неуклонно тек к двери, из-за которой раздавались голоса, и, постучав своими костлявыми пальцами, грозно возглашал: «Ne faites point tant de bruit!»[153]153
Не шумите так! (франц.)
[Закрыть] и затем держал столь же мерное течение к своему нумеру, с полною уверенностью, что обеспокоивший его шум непременно прекратится. И шум, точно, прекращался. С жильцами этой батиньольской вершины m-r le pretre не имел никакого сообщества, и с тех пор, как он тут поселился, от него никто не слыхал более, кроме: «Ne faites point de bruit»[154]154
Не шумите (франц.).
[Закрыть]. В комнате Зайончека тоже никто из здешних жильцов никогда не был, и комната эта была предметом постоянного любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, рассказывала об этой комнате что-то столь заманчивое, что у всех почти одновременно родилось непобедимое желание взглянуть на чудеса этого неприступного покоя. Некоторыми отчаянными смельчаками обоего пола (по преимуществу прекрасного) с тех пор было предпринято несколько очень обдуманных экспедиций с специальною целью осмотреть полициймейстерскую берлогу, но все эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспешными. В присутствии Зайончека об этом невозможно было и думать, потому что нескольких дерзких, являвшихся к нему попросить взаймы свечи или спичек, он, не открывая двери, без всякой церемонии посылал прямо к какому-нибудь крупному черту, или разом ко ста тысячам рядовых дьяволов. А уходя из дому, Зайончек постоянно уносил ключ с собою. Любопытные видали в замочную скважину: дорогой варшавский ковер на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленой тафтяной занавеской, большой черный крест с белым изображением распятого Спасителя и низенький налой красного дерева, с зеленою бархатною подушкой внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доске.
В существе комната Зайончека и не имела ничего необыкновенного. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягким ковром, увешана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладные и пустоватые каморки других бедных жильцов голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженных описаний madame Vache.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.