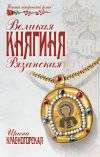Текст книги "Обойдённые"

Автор книги: Николай Лесков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Глава шестнадцатая
Искушения
– Кто там? – тихо спросил Долинский, удивленный таким поздним посещением.
– Мы, ваши соседки, – отвечал ему так же тихо молодой женский голос.
– Что вам угодно, mesdames?
– Спичку, спичку; мы возвратились с бала, и у нас огня нет.
Долинский отворил дверь.
Перед ним стояли обе его соседки, в широких панталончиках из ярко-цветной тафты, обшитых с боков дешевенькими кружевами; в прозрачных рубашечках, с непозволительно спущенными воротниками, и в цветных шелковых колпачках, ухарски заломленных на туго завитых и напудренных головках. В руках у одной была зажженная стеариновая свечка, а у другой – литр красного вина и тонкая, в аршин длинная, итальянская колбаса.
Не успел Долинский выговорить ни одного слова, обе девушки вскочили в его комнату и весело захохотали.
– Мы пришли к вам, любезный сосед, сломать с вами пост. Рады вы нам? – прощебетала m-lle Augustine.
Она поставила на стол высокую бутылку, села верхом на стул республики и, положив локти на его спинку, откусила большой кусок колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.
– Целомудренный Иосиф! – воскликнула Marie, повалившись на постель Долинского и выкинув ногами неимоверный крендель. – Хотите я вам представлю Жоко или бразильскую обезьяну?[189]189
Жоко или бразильскую обезьяну – видимо, намек на персонаж повести французского писателя и ученого Пужана (1755–1833) «Жако, анекдот извлеченный из неизданных писем об интеллекте животных» (1824).
[Закрыть]
Долинский стоял неподвижно посреди своей комнаты. Он заметил, что обе девушки пьяны, и не знал, что ему с ними делать.
Гризеты, смотря на него, помирали со смеху.
– Tiens![190]190
Подумайте! (франц.)
[Закрыть] Вы, кажется, собираетесь нас выбросить? – спрашивала одна.
– Нет, мой друг, он читает молитву от злого духа, – утверждала другая.
– Нет… Я ничего, – отвечал растерянный Долинский, который действительно думал о происках злого духа.
– Ну так садитесь. Мы веселились, плясали, ездили, но все-таки вспомнили: что-то делает наш бедный сосед?
Marie вскочила с постели, взяла Долинского одним пальчиком под бороду, посмотрела ему в глаза и сказала:
– Он, право, еще очень и очень годится.
– Любезен, как белый медведь, – отвечала Augustine, глотая новый кусок колбасы.
– Мы принесли с собой вина и ужин, одним очень скучно, мы пришли к вам. Садитесь, – командовала Marie и, толкнув Долинского в кресло королевства, сама вспрыгнула на его колени и обняла его за шею.
– Позвольте, – просил ее Долинский, стараясь снять ее руку.
– Та-та-та, совсем не нужно, – отвечала девушка, отпихивая локтем его руку, а другою рукою наливая стакан вина и поднося его к губам Долинского.
– Я не пью.
– Не пьешь! Cochon![191]191
Свинья! (франц.)
[Закрыть] Не пьет в demi-careme. Я на голову вылью.
Девушка подняла стакан и слегка наклонила его набок.
Долинский выхватил его у нее из рук и выпил половину. Гризета проглотила остальное и, быстро повернувшись на коленях Долинского, сделала сладострастное движение головой и бровью.
– Посмотрите, какое у нее плечико, – произнесла Augustine, толкнув сзади голое плечо Marie к губам Долинского.
– Tiens! Я думаю, это не так худо в demi-careme! – говорила она, смеясь и глядя, как Marie, весело закусив губки, держит у себя под плечиком голову растерявшегося мистика.
– Пусть будет тьма и любовь! – воскликнула Augustine, дунув на свечу и оставляя комнату при слабейшем освещении дотлевшего камина.
– Пусть будет свет и разум! – произнес другой голос, и на пороге показалась суровая фигура Зайончека.
Он был в белых ночных панталонах, красной вязаной фуфайке и синем спальном колпаке. В одной его руке была зажженная свеча, в другой – толстый красный шнур, которым m-r le pretre обыкновенно подпоясывался по халату.
– Вон, к ста тысячам чертей отсюда, гнилые дочери греха! – крикнул он на девушек, для которых всегда было страшно и ненавистно его появление.
Marie испугалась. Она соскользнула с колен неподвижно сидевшего Долинского, пируэтом перелетела его комнату и исчезла за дверью Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя последнюю, m-r le pretre со злостью очень сильно ударил ее шнурком по тоненьким тафтяным панталончикам
– Vous m`etourdissez![192]192
Вы что? (франц.)
[Закрыть] – подпрыгнув от боли, крикнула гризета и скрылась за подругою в дверь своей комнаты.
– Ne faites plus de bruit![193]193
Больше не шумите! (франц.)
[Закрыть] – проговорил у их запертой двери через минуту Зайончек.
– Pas beaucoup, pas beaucoup![194]194
Мы потихоньку! (франц.)
[Закрыть] – отвечали гризеты.
Зайончек зашел в комнату одинокого Долинского, стоявшего над оставленными гризетами вином и колбасою.
– Я неспокоен был с тех пор, как лег в постель, и мой тревожный дух вовремя послал меня туда, где я был нужен, – проговорил он.
– Благодарю вас, – отвечал Долинский, – я совсем не знал, что мне с ними делать.
Бог знает, чем бы окончил здесь совершенно поглощенный мистицизмом Долинский, если бы судьбе не угодно было подставить Долинскому новую штуку.
Один раз, возвратясь с урока, он застал у себя на столе письмо, доставленное ему по городской почте.
Долинский наморщил лоб. Рука, которою был надписан конверт, на первый взгляд показалась ему незнакомою, и он долго не хотел читать этого письма. Но, наконец, сломал печать, достал листок и остолбенел. Записка была писана, несомненно, Анной Михайловной.
«Я вчера вечером приехала в Париж и пробуду здесь всего около недели, – писала Долинскому Анна Михайловна. – Поэтому, если вы хотите со мною видеться, приходите в Hotel Corneille[195]195
Отель Корнель (франц.).
[Закрыть], против Одеона, № 16. Я дома до одиннадцати часов утра и с семи часов вечера. Во все это время я очень рада буду вас видеть».
Долинский отбросил от себя эту записку, потом схватил ее и перечитал снова. На дворе был седьмой час в исходе. Долинский хотел пойти к Зайончеку, но вместо того только побегал по комнате, схватил свою шляпу и опрометью бросился к месту, где останавливается омнибус, проходящий по Латинскому кварталу.
Долинский бежал по улице с сильно бьющимся сердцем и спирающимся дыханием.
– Жизнь! Жизнь! – говорил он себе. – Как давно я не чувствовал тебя так сильно и так близко!
Как только омнибус тронулся с места, Долинский вдруг посмотрел на Париж, как мы смотрим на места, которые должны скоро покинуть; почувствовал себя вдруг отрезанным от Зайончека, от перечитанных мистических бредней и бледных созданий своего больного духа. Жизнь, жизнь, ее обаятельное очарование снова поманила исстрадавшегося, разбитого мистика, и, завидев на темнеющем вечернем небе серый силуэт Одеона, Долинский вздрогнул и схватился за сердце.
Через две минуты он стоял на лестнице отеля Корнеля и чувствовал, что у него гнутся и дрожат колени.
«Что я скажу ей? Как я взгляну на нее? – думал Долинский, взявшись рукою за ручку звонка у № 16. – Может быть, лучше, если бы теперь ее не было еще дома?» – рассуждал он, чувствуя, что все силы его оставляют, и робко потянул колокольчик.
– Entrez![196]196
Войдите! (франц.)
[Закрыть] – произнес из нумера знакомый голос.
Нестор Игнатьевич приотворил дверь и спотыкнулся.
– Не будет добра, – сказал он себе с досадою, тревожась незабытою с детства приметой.
Глава семнадцатая
Заблудшая овца и ее пастушка
Отворив дверь из коридора, Долинский очутился в крошечной, чистенькой передней, отделенной тяжелою драпировкою от довольно большой, хорошо меблированной и ярко освещенной комнаты. Прямо против приподнятых полос материи, разделявшей нумер, стоял ломберный стол, покрытый чистою, белою салфеткой; на нем весело кипящий самовар и по бокам его две стеариновые свечи в высоких блестящих шандалах, а за столом, в глубине дивана, сидела сама Анна Михайловна. При входе Долинского, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула из-за самовара свою голову и, заслонив ладонью глаза, внимательно смотрела в переднюю.
На Анне Михайловне было черное шелковое платье, с высоким лифом и без всякой отделки да белый воротничок около шеи.
Долинский наконец показался между полами драпировки, закрыл рукою свои глаза и остановился как вкопанный.
Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснела и смотрела на него молча.
– Я не смею глядеть на тебя, – тихо произнес, не отнимая от глаз руки, Долинский.
Анна Михайловна не отвечала ни слова и продолжала с любопытством смотреть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на котором вытертые швы обозначались желто-белыми полосами.
– Прости! – еще тише произнес Долинский.
С этим словом он опустился на колени, поставил перед собою свою шляпу, достал из кармана довольно грязноватый платок и обтер им выступивший на лбу пот.
Анна Михайловна неспокойно поднялась со своего места и молча прошлась два или три раза по комнате.
– Встаньте, пожалуйста, – проговорила она Долинскому.
– Прости, – проговорил он еще тише и не трогаясь с места.
– Встаньте, – сказала опять Анна Михайловна.
Долинский медленно приподнялся и взял в руки свою шляпу, снова стал, опустя голову, на том же самом месте.
Анна Михайловна во все это время не могла оправиться от первого волнения. Пройдясь еще раза два по комнате, она повернула к окну и старалась незаметно утереть слезы.
– Не извинения, а христианской милости, прощения… – начал было снова Долинский.
– Не надо! Не надо! Пожалуйста, ни о чем этом говорить не надо! – нервно перебила его Анна Михайловна и, вынув из кармана платок, вытерла глаза и спокойно села к самовару.
– Что ж вы стоите у двери? – спросила она, не смотря на Долинского.
Тот сделал шаг вперед, поставил себе стул и сел молча.
– Как вы здесь живете? – спросила его через минуту Анна Михайловна, стараясь говорить как можно спокойнее.
– Худо, – отвечал Долинский.
Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.
– И давно вы здесь? – спросила она после новой паузы.
– Скоро полтора года.
– Чем же вы занимаетесь?
Долинский подумал, чем он занимается, и отвечал:
– Даю уроки.
– Мы с Ильей Макарычем о вас долго справлялись; несколько раз писали вам в Ниццу, письма приходили назад.
– Да меня там, верно, уж не было.
– Илья Макарыч кланяется вам, – сказала Анна Михайловна после паузы.
– Спасибо ему, – отвечал Долинский.
– Ваш редактор несколько раз о вас спрашивал Илью Макарыча.
– Бог с ними со всеми.
Анна Михайловна посмотрела на испитое лицо Долинского и, остановив глаза на белом шве его рукава, сказала:
– Как вы бережливы! Это у вас еще петербургское пальто?
– Да, очень прочная материя, – отвечал Долинский. Анна Михайловна посмотрела на него еще пристальнее и спросила:
– Не хотите ли вы стакан вина?
– Нет, благодарю вас, я не пью вина.
– Может быть, рому к чаю? Долинский взглянул на нее и ответил:
– Вы, может быть, подозреваете, что я начал пить?
– Нет, я так просто спросила, – сказала Анна Михайловна и покраснела.
Долинский видел, что он отгадал ее мысль, и спокойно добавил:
– Я ничего не пью.
– Скажи же, пожалуйста, отчего ты так… похудел, постарел… опустился?
– Горе, тоска меня съели.
Анна Михайловна покатала в пальцах хлебный шарик и, повертывая его в двух пальцах перед свечкою, сказала:
– Невозвратимого ни воротить, ни поправить невозможно.
– Я не знаю, что с собой делать. Что мне делать, чтобы примирить себя с собою?
Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарик.
– Я бегу от людей, бегу от мест, которые напоминают мне мое прошлое; я сам чувствую, что я не человек, а так, какая-то могила… труп. Во мне уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносные муки, мои терзания!..
– Что же вас особенно мучит? – спросила не сводя с него глаз Анна Михайловна.
– Все… вы, она… мое собственное ничтожество, и…
– И что?
– И всего мне жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свете… – проговорил Долинский с болезненной гримасой в лице и досадой в голосе.
– Не будем говорить об этом. Прошлого уж не воротишь. Рассказывайте лучше, как вы живете?
Долинский коротко рассказал про свое однообразное житье, умолчал, однако, о Зайончеке и обществе соединенных христиан.
– Ну а вперед?
– Вперед?
Долинский развел руками и проговорил:
– Может быть, то же самое.
– Утешительно!
– Это все равно: хорошего где взять?
Анна Михайловна промолчала.
– Чего ж вы не возвращаетесь в Россию? – спросила она его через несколько минут.
– Зачем?
– Как зачем? Ведь вы, я думаю, русский.
– Да, может быть, я и возвращусь… когда-нибудь.
– Зачем же когда-нибудь! Поедемте вместе.
– С вами? А вы скоро едете?
– Через несколько дней.
– Вы приехали за покупками?
– Да, и за вами, – улыбнувшись, отвечала Анна Михайловна.
Долинский, потупясь, смотрел себе на ногти.
– Пора, пора вам вернуться.
– Дайте подумать, – отвечал он, чувствуя, что сердце его забилось не совсем обыкновенным боем.
– Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хандрою да чудачеством, Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: ведь на вас жаль смотреть.
Долинский вздохнул и сказал:
– Спасибо вам.
– Я завтра, может быть, пришел бы к вам утром, – говорил он прощаясь.
– Разумеется, приходите.
– Часов в восемь… можно?
– Да, конечно, можно, – отвечала Анна Михайловна.
Проводив Долинского до дверей, она вернулась и стала у окна. Через минуту на улице показался Долинский. Он вышел на середину мостовой, сделал шаг и остановился в раздумье; потом перешагнул еще раз и опять остановился и вынул из кармана платок. Ветер рванул у него из рук этот платок и покатил его по улице. Долинский как бы не заметил этого и тихо побрел далее. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнате и говорила себе:
– Бедный! Бедный, как он страдает!
Глава восемнадцатая
Решительный шаг
Долинский провел у Анны Михайловны два дня. Аккуратно он являлся с первым омнибусом в восемь часов утра и уезжал домой с последним в половине двенадцатого. Долинского не оставляла его давнишняя задумчивость, но он стал заметно спокойнее и даже минутами оживлялся. Однако оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, как бы в минуты забвения, и исчезала так же быстро, как будто по мановению какого-то призрака, проносившегося перед тревожными глазами Долинского.
– Когда мы едем? – спрашивал он в волнении на третий день пребывания Анны Михайловны в Париже.
– Дня через два, – отвечала ему спокойно Анна Михайловна.
– Скорей бы!
– Это недалеко, кажется?
Долинский хрустнул пальцами.
– Вы не боитесь ли раздумать? – спросила его Анна Михайловна.
– Я!.. Нет, с какой же стати раздумать?
– То-то.
– Мне здесь нечего делать.
«А что я буду делать там? Какое мое положение? После всего того, что было, чем должна быть для меня эта женщина! – размышлял он, глядя на ходящую по комнате Анну Михайловну. – Чем она для меня может быть?.. Нет, не чем может, а чем она должна быть? А почему же именно должна?.. Опять все какая-то путаница!»
Долинский тревожно встал и простился с Анной Михайловной.
– До утра, – сказала она ему.
– До утра, – отвечал он, холодно и почтительно целуя ее руку.
Войдя в свою комнату, Долинский, не зажигая огня, бросил шляпу и повалился впотьмах совсем одетый в постель.
– Нет! – воскликнул он часа через два, быстро вскочив с постели. – Нет! Нет! Я знаю тебя; я знаю, я знаю тебя, змеиная мысль! – повторял он в ужасе и, выскочив из своей комнаты, постучался в двери Зайончека.
– Помогите мне, спасите меня! – сказал он, бросаясь к патеру.
– Чтобы лечить язвы, прежде надо их видеть, – проговорил Зайончек, торопливо вставая с постели. – Открой мне свою душу.
Долинский рассказал о всем случившемся с ним в эти дни.
– Отец мой! Отец мой! – повторил он, заплакав и ломая руки. – Я не хочу лгать… в моей груди… теперь, когда лежал я один на постели, когда я молился, когда я звал к себе на помощь Бога… Ужасно!.. Мне показалось… я почувствовал, что жить хочу, что мертвое все умерло совсем; что нет его нигде, и эта женщина живая… для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чем мою душу, чем даже…
– Глупец! – резким змеиным придыханием шепнул Зайончек, зажимая рот Долинскому своей рукою.
– Нет сил… страдать… терпеть и ждать… чего? Чего, скажите? Мой ум погиб, и сам я гибну… Неужто ж это жизнь? Ведь дьявол так не мучится, как измучил себя я в этом теле!
– Дрянная персть земная непокорна.
– Нет, я покорен.
– А путь готов давно.
– И где же он?
– Он?.. Пойдем, я покажу его: путь верный примириться с жизнью.
– Нет, убежать от ней…
– И убежать ее.
Долинский только опустил голову.
Через полчаса меркнущие фонари Батиньоля короткими мгновениями освещали две торопливо шедшие фигуры: одна из них, сильная и тяжелая, принадлежала Зайончеку; другая, слабая и колеблющаяся, – Долинскому.
Глава девятнадцатая
Кто с чем остался
Анна Михайловна напрасно ждала Долинского и утром, и к обеду, и к вечеру. Его не было целый день. На другое утро она написала ему записку и ждала к вечеру ответа или, лучше сказать, она ждала самого Долинского. Ожидания были напрасны. Прошел еще целый день – не приходило ни ответа, не бывал и сам Долинский, а по условию, вечером следующего дня, нужно было выезжать в Россию.
Анна Михайловна находилась в большом затруднении. Часу в восьмом вечера она надела бурнус[197]197
Бурнус – верхняя одежда в виде накидки.
[Закрыть] и шляпу, взяла фиакр и велела ехать на Батиньоль.
С большим трудом она отыскала квартиру Долинского и постучалась у его двери. Ответа не было. Анна Михайловна постучала второй раз. В темный коридор отворилась дверь из № 10‐го, и на пороге показался во всю свою нелепую вышину m-r le pretre Zajonczek.
– Что вам здесь нужно? – сердито спросил он Анну Михайловну по-русски, произнося каждое слово с особенным твердым ударением.
– Мне нужно господина Долинского.
– Его нет здесь: он здесь не живет, – отвечал патер.
– Где же он живет?
Патер сделал шаг назад в свою комнату и, ткнув в руки Анне Михайловне какую-то бумажку, сказал:
– Отправляйтесь-ка домой.
Дверь нумера захлопнулась, и Анна Михайловна осталась одна в грязном коридоре, слабо освещенном подслеповатою плошкою. Она разорвала конверт и подошла к огню. При трепетном мерцании плошки нельзя было прочесть ничего, что написано бледными чернилами.
Анна Михайловна нетерпеливо сунула в карман бумажку, села в фиакр и велела ехать домой.
В своем нумере она зажгла свечу и, держа в дрожащих руках бумажку, прочла: «Я не могу ехать с вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францию и буду далеко молиться о вас и о мире».
Анна Михайловна осталась на одном месте, как остолбенелая. На другой день ее уже не было в Париже.
* * *
Прошло более двух лет. Анна Михайловна по-прежнему жила и хозяйничала в Петербурге. О Долинском не было ни слуха ни духа.
За Анной Михайловной многие приударяли самым серьезным образом, и, наконец, один статский советник предлагал ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всем этим исканиям оставалась совершенно равнодушною. Она до сих пор очень хороша и ведет жизнь совершенно уединенную. Ее можно видеть только в магазине или во Владимирской церкви за раннею обеднею.
Анна Анисимовна со своими детьми живет у Анны Михайловны в бывших комнатах Долинского. Отношения их с Анной Михайловной самые дружеские. Анна Анисимовна никогда ничего не говорит хозяйке ни о Дорушке, ни о Долинском, но каждое воскресенье приносит с собою от ранней обедни вынутую заупокойную просфору. Долинского она терпеть не может, и при каждом случайном воспоминании о нем лицо ее судорожно передвигается и принимает выражение суровое, даже мстительное.
M-lle Alexandrine тоже по-прежнему живет у Анны Михайловны, и нынче больше, чем когда-нибудь, считает свою хозяйку совершенною дурою.
Илья Макарович нимало не изменился. Он по-старому льет пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, как она, при всем желании казаться счастливою и спокойною, часто живет ничего не видя и не слыша и по целым часам сидит задумчиво, склонив голову на руку, он часто повторяет себе:
– За что, про что только все это развеялось и пропало?
– Да полюбите вы кого-нибудь! – говорит он иногда, подмечая несносную тоску в глазах Анны Михайловны.
– Погодите еще, седого волоса жду, – отвечает она, стараясь улыбаться.
Жена Долинского живет на Арбате в собственном двухэтажном доме и держит в руках своего седого благодетеля. Викторинушку выдали замуж за вдового квартального. Она пожила год с мужем, овдовела и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной каким-то «человеколюбивым обществом», которое матроска без всякой задней мысли называет обыкновенно «самолюбивым обществом». Сама же матроска состоит у старшей дочери в ключницах; зять-лекарь не пускает ее к себе на порог.
Вырвич и Шпандорчук, благодаря Богу, живы и здоровы. Они теперь служат гайдуками или держимордами при каком-то приставе исполнительных дел по ведомству нигилистической полиции и уже были два раза в деле, а за третьим, слышно, будут отправлены в смирительный дом. Имена их, вероятно, передадутся истории, так как они впервые запротестовали против уничтожения в России телесного наказания и считают его одною из необходимых мер нравственного исправления. Положение этих людей вообще самое нерадостное; Дорушкино предсказание над ними сбывается: они решительно не знают, за что им зацепиться и на какой колокол себя повесить. Взять тягло в толоке житейской – руки их ленивы и слабы; миряне их не замечают; «мыслящие реалисты», к которым они жмутся и которых уверяют в своей с ними солидарности, тоже сторонятся от них и чураются. Стоят эти бедные, «заплаканные» люди в стороне ото всего живого, стоят потерянно, как те иудейские воины, которых вождь покинул у потока и повел вперед только одних лакавших по-песьи[198]198
…повел вперед только одних лакавших по-песьи. – Военный прием ветхозаветного героя-воителя Гедеона, с помощью которого он отобрал наиболее выносливых и сильных, воинов.
[Закрыть]. Стоят они, даже не ожидая, что к ним придет новый Гедеон, который выжмет перед ними руно[199]199
В период жестокой засухи руно Гедеона увлажнилось росой.
[Закрыть] и разобьет водонос свой, а растерявшись, измышляют только, как бы еще что-нибудь почуднее выкинуть в своей старой нигилистической куртке.
Вера Сергеевна Онучина возбуждает всеобщую зависть и удивление. Она нынче одна из блистательнейших дам самого представительного русского посольства. Мужа своего она терпеть не может, но и весьма равнодушно относится ко всем искательствам светских львов и онагров. По столичной хронике, ее теплым вниманием до сих пор пользуется только один primo tenore итальянской оперы. Что будет далее – пока неизвестно. Серафима Григорьевна читает сочинения аббата Гете и проклинает Ренана[200]200
Ренан – историк Жозеф Эрнеста Ренан (1823–1892) автор книги «Жизнь Иисуса Христа» (1863) и других сочинений, посвященных истории христианства.
[Закрыть]. Кирилл Сергеевич сделался туристом. Он объехал западный берег Африки и путешествовал по всей Америке. Недавно он возвратился в Петербург и привез первое и последнее известие о Долинском. Онучин видел Нестора Игнатьича с иезуитскими миссионерами в Парагвае. По словам Кирилла Сергеевича, на все вопросы, которые он делал Долинскому, тот с ненарушимым спокойствием отвечал только: «Memento mori!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.