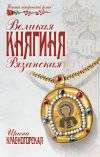Текст книги "Обойдённые"

Автор книги: Николай Лесков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
– Да это у вас живая Аня списана! – вскрикнула по окончании чтения Дора.
Анна Михайловна и Долинский смутились.
Дора посмотрела на них обоих и не заводила об этом более речи; но дня два была как-то задумчивее обыкновенного, а потом опять вошла в свою колею и шутила.
– Вот погоди, скоро его какой-нибудь приятель отваляет за эту повесть, – говорила она Анне Михайловне, когда та в десятый раз просматривала напечатанную в журнале повесть Долинского.
– За что же? – вся вспыхнув и потерявшись, спросила Анна Михайловна.
– Будто ругают за что-нибудь. Так, просто, потому что это ничего не стоит.
Дорушка заметила, что сестра ее поражена мыслью о том, что Нестора Игнатьевича могут разбранить, обидеть и вообще не пожалеть его, когда он сам такой добрый, когда он сам так искренно всех жалеет.
– Гм! Так, видно, этому делу и быть, – произнесла Дора, долго посмотрев на Анну Михайловну и тихонько выходя из комнаты.
– Что ты, Дорушка, сказала? – спросила ее вслед сестра.
– Что так этому и быть.
– Какому, душка, делу?
– Да никакому, мой друг! Я так себе, бог знает что сболтнула, – отвечала Дорушка и, возвратясь, поцеловала сестру в лоб и ласково разгладила ее волосы.
Глава девятая
Мальчик Бобка
Прошло очень немного времени, как Доре представился новый случай наблюдать сестру по отношению к Долинскому.
Один раз, в самый ясный погожий осенний день, поздним утром, так часов около двенадцати, к Анне Михайловне забежал Журавка, а через несколько минут, как по сигналу, явились Шпандорчук и Вырвич, и у Доры с ними, за кофе, к которому они сошлись было в столовую, закипел какой-то ожесточенный спор. Чтобы положить конец этому прению и не потерять редкого в эту пору хорошего дня, Долинский, допив свою чашку, тихонько вышел и возвратился в столовую в пальто и в шляпе: на одной руке его была перекинута драповая тальма[43]43
Тальма – женская длинная накидка без рукавов.
[Закрыть] Доры, а в другой он бережно держал ее серенькую касторовую[44]44
Касторовая – то есть из пуха зайца или бобра.
[Закрыть] шляпу с черными марабу[45]45
Марабу – сенегальская птица с пушистыми перьями; под этим же названием перья птицы использовались в женских нарядах.
[Закрыть]. Заметив Долинского, Дора улыбнулась и сказала:
– Pardon, господа, мой верный паж готов.
– Да-с, готов, – отвечал Долинский, – и полагает, что его благородной госпоже будет гораздо полезнее теперь пройтись по свежему воздуху, чем спорить и кипятиться.
– Кажется, вы правы, – произнесла Дора, оборачиваясь к нему спиной для того, чтобы тот мог надеть ей тальму, которую держал на своей руке.
Долинский раскрыл тальму и уже поднес ее к Дориным плечам, но вдруг остановился и, подняв вверх один палец, тихо произнес:
– Тс-с!
Все посмотрели на него с некоторым удивлением, но никто не сказал ни слова, а между тем Долинский швырнул в сторону тальму, торопливо подошел к двери, которая вела в рабочую комнату, и, притворив ее без всякого шума, схватил Дорушку за руку и, весь дрожа всем телом, сказал ей:
– Вызовите Анну Анисимовну в мои комнаты! Да сейчас! Сейчас вызовите!
– Что такое? – спросила удивленная Дора.
– Зовите ее оттуда! – отвечал Долинский, крепко подернув Дорину руку.
– Да что? Что?
Вместо ответа Долинский взял ее за плечи и показал рукою на фронтон высокого надворного флигеля.
– Ах! – произнесла чуть слышно Дорушка и побежала к комнатам Долинского. – Душенька! Анна Анисимовна! – говорила она идучи. – Подите ко мне, мой дружочек, с иголочкой в Нестор Игнатьевича комнату.
По коридорчику вслед за Дашей прошумело ситцевое платье Анны Анисимовны.
Между тем все столпились у окна, а Долинский, шепнув им: «Видите, Бобка на карнизе!» – выбежал и, снова возвратясь через секунду, проговорил, задыхаясь: «Бога ради, чтоб не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтоб ничто не привлекало его внимания!»
Сказав это, Долинский исчез за дверью, и в это мгновение как-то никому не пришло в голову ни остановить его, ни спросить о том, что он хочет делать, ни подумать даже, что он может сделать в этом случае.
Общее внимание было занято карнизом. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленым листовым железом и отделяющему фронтон флигеля и бельевую сушильню от верха третьего жилого этажа, преспокойным образом, весело и грациозно полз самый маленький, трехлетний сын Анны Анисимовны, всеобщий фаворит Борисушка, или Бобка. Он полз на четвереньках по направлению от слухового окна, из которого он выбрался, к острому углу, под которым крыша соединяется с фронтоном. Перед ним, в нескольких шагах расстояния, подпрыгивал и взмахивал связанными крылышками небольшой сизый голубок, которого ребенок все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубок не делал никакой попытки разом отделаться от своего преследователя; чуть ребенок, подвинувшись на коленочках, распускал над ним свою ручку, голубок встрепенался, взмахивал крылышками, показывая свои беленькие подмышки, припрыгивал два раза, потом делал своими красненькими ножками два вершковых шага, и опять давал Бобке подползать и изловчаться. Голубок отодвигался, и Бобка сейчас же заносил ножонку вперед и осторожно двигался на четвереньках. Тонкие железные листы, которыми был покрыт полусгнивший карниз, гнулись и под маленьким телом Бобки и, гнувшись, шумели; а из-под них на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобке оставалось два шага до соединения карниза с крышею, где он непременно бы поймал своего голубя, и откуда бы еще непременнее полетел с ним вместе с десятисаженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбежна, потому что голубь бы непременно удалялся от него тем же аллюром до самого угла соединения карниза с крышей, где мальчик ни за что не мог ни разогнуться, ни поворотиться; надеяться на то, чтобы ребенок догадался двигаться задом, было довольно трудно, да и всякий, кому в детстве случалось путешествовать по так называемым «кошачьим дорогам», тот, конечно, поймет, что такой фортель был для Бобки совершенно невозможен. Еще две-три минуты или какой-нибудь шум на дворе, который бы заставил его оглянуться вниз, или откуда-нибудь сердобольный совет, или крик ужаса и сострадания – и Бобка бы непременно оборвался и лег бы с разможженным черепом на гладких голышах почти перед самым окном, у которого работала его бедная мать.
Но, на Бобкино счастье, во дворе никто не заметил его воздушного путешествия. И Журавка, выбежавший вслед за Долинским, совершенно напрасно, тревожно стоя под карнизом, грозил пальцем на все внутренние окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо против окна, из которого видно было каждое движение Бобки, преспокойно работала сечкой и распевала:
Полюбила я любовничка,
Канцелярского чиновничка;
По головке его гладила,
Волоса ему помадила.
Долинский, выйдя из комнаты, духом перескочил дворик и в одно мгновение очутился на чердаке за деревянным фронтоном.
– Бобка! – позвал он потихоньку сквозь доску, стараясь говорить как можно спокойнее и как раз у мальчиковой головы.
– А! – отозвался на знакомый голос юный Блонден.
– Гляди-ка сюда! – продолжал Долинский, имея в виду привлечь глаза мальчика к стене, чтобы он далее не трогался и не глянул как-нибудь вниз…
– Говабь повзает, – говорил, весь сияя, Бобка.
– Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, как я его, шельму, сейчас изловлю!
– Ну, ну, ну, лови! – отвечал мальчик, и сам воззрился в одно место на нижней доске фронтона.
– Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчас.
Мальчик от радости оскалил беленькие зубенки и закусил большой палец своей левой руки.
В это же мгновение в слуховом окне показалась прелестная голова Долинского. Красивое, дышащее добротою и кротостью лицо его было оживлено свежею краскою спокойной решимости; волнистые волосы его рассыпались от ветра и легкими, тонкими прядями прилипали к лицу, покрывающемуся от страха крупными каплями пота. Через мгновение вся его стройная фигура обрисовалась на сером фоне выцветшего фронтона, и прежде чем железные листы загромыхали под его ногами, левая рука Долинского ловко и крепко схватила ручонку Бобки. Правою рукою он сильно держался за край слухового окна и в одну секунду бросил в него мальчика, и вслед за ним прыгнул туда сам.
Все это произошло так скоро, что, когда Долинский с Бобкой на руках проходил через кухню, кухарка еще не кончила песню про любовничка – канцелярского чиновничка и рассказывала, как она
Напоила его мятою,
Обложила кругом ватою.
– Ах, скверный ты мальчик! – нервно вскрикнула Анна Михайловна при виде Бобки.
– Насилу поймал, – говорил весело Долинский.
– Боже мой, какой страх был!
Из коридора выбежала бледная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубок, но тотчас же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами в его розовые щеки.
– Миндаль вам за спасение погибавшего, – проговорил шутливо Вырвич, подавая Долинскому выколупнутую с булки поджаренную миндалину.
Анна Михайловна вспыхнула.
– Страшно! У вас голова могла закружиться, – говорила она, обращаясь к Долинскому.
– Нет, это ведь одна минута; не надо только смотреть вниз, – отвечал Долинский, спокойно кладя на стол поданную ему миндалинку, и с этими словами ушел в свою комнату, а оттуда вместе с Дашею прошел через магазин на улицу.
Через часа полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру в ее комнате, сильно встревоженной.
– Что это такое с тобой? – спросила она Анну Михайловну.
– Ах, Дорушка, не можешь себе вообразить, как меня разбесили!
– Ну?
– Да вот эти господа ненавистные. Только что вы ушли, как начали они рассуждать, следовало или не следовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня из терпения.
– Решили, что не следовало?
– Да! Решили, что дворника надо было послать; потом стали уверять меня, что здесь никакого страха нет и никакого риска нет; потом уж опять, как-то опять стало выходить, что риск был и что потому-то именно не следовало рисковать собой.
– Да ведь они ничем и не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала речей умных.
– Уж именно! И что только такое тут говорилось!.. И о развитии, и о том, что от погибели одного мальчика человечеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитие обязывает человека беречь себя для жертв более важных, чем одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто… расстроили меня.
– Что ты даже взялась за гофманские капли?
– Ну да.
– Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалин жив; ни лбом не треснулся о землю, ни затылком, – проговорила Дора, развязывая перед зеркалом ленты своей шляпы.
– И ты тоже! – нетерпеливо сказала Анна Михайловна.
– Господи, да что такое за «не тронь меня» этот Долинский.
– Не Молчалин он, а я не Софья Павловна.
– Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что с тобой на его счет уж и пошутить нельзя, – сухо проговорила, выходя из комнаты, Дора.
Через минуту Анна Михайловна вошла к Дорушке и молча поцеловала ее руку; Дора взяла обе руки сестры и обе их поцеловала также молча.
В очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще более поступком, который прямо не свойственен был ее характеру. Анна Михайловна и Дора как-то случайно знали, что Шпандорчук и Вырвич частенько заимствовались у Долинского небольшими деньжонками и что должки эти частью кое-как отдавались пополам с грехом, а частью не отдавались вовсе и возрастали до цифр, хотя и небольших, но все-таки для рабочего человека кое-что значащих. Было известно также и то, что Долинский иногда сам очень сбивается с копейки и что в одну из таких минут он самым мягким и деликатным образом попросил их, не могут ли они ему отдать что-нибудь; но ответа на это письмо не было, а Долинский перестал даже напоминать приятелям о долге. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбивого Шпандорчука; ему непременно хотелось отомстить за нее Долинскому, хотелось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться с ним в долге и, поссорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплате. Но поссориться с Нестором Игнатьевичем бывало гораздо труднее, чем помириться с глупой женщиной. Шпандорчук пробовал ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмешливо отвечать на его вопросы, но Долинский хорошо знал, сколько все это стоит, и не удостоивал этих проделок никакого внимания. Шпандорчуку даже вид Долинского стал ненавистен.
– Какое это у вас лицо, гляжу я? – говорил один раз, прощаясь с ним, Вырвич.
– Какое лицо? – спросил, не понимая вопроса, Долинский.
– Да я не знаю, что такое, а Шпандорчук что-то уверяет, что у Долинского, говорит, совсем неблагопристойное лицо какое-то делается.
Вырвич откровенно захохотал.
– А это верно господин Шпандорчук не чувствует ли себя перед Нестором Игнатьевичем в чем-нибудь… неисправным? – тихо вмешалась Анна Михайловна. – Все пустые люди, – продолжала она, – у которых очень много самолюбия и есть какие-то следы совести, а нет ни искренности, ни желания поправиться, всегда кончают этим, что их раздражают лица, напоминающие им об их собственной гадости.
Все это Анна Михайловна проговорила с таким холодным спокойствием и с таким достоинством, что Вырвич не нашелся сказать в ответ ни слова, и красненький-раскрасненький молча вышел за двери.
– Вот, брат, отделала тебя! – начал он, являясь домой, и рассказал всю эту историю Шпандорчуку.
– Кто вас просит сообщать мне такие мерзости! – взвизгнул Шпандорчук, неистово вскакивая с постели. – Я ей, негодяйке, просто… уши оболтаю на Невском! – зарешил он, перекрутив и бросив на пол коробочку из-под зажигательных спичек.
С этих пор ни Вырвич, ни Шпандорчук не показывались в доме Анны Михайловны, и последний, встречаясь с нею, всегда поднимал нос как можно выше, по недостатку смелости задорно смотрел в сторону.
Глава десятая
Интересное домино
Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарил семейный билет на маскарады Дворянского собрания. Дорушка во что бы то ни стало хотела быть в этом маскараде, а Анне Михайловне, наоборот, смерть этого не хотелось и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинского было все равно: ехать ли в маскарад или просидеть дома.
– Охота тебе, право, Дора! – отговаривалась Анна Михайловна. – В благородном собрании бывает гораздо веселее – да не ездишь, а тут что? Кого мы знаем?
– Я? Я знаю целый десяток франтих и все их грязные романы, и нынче все их перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая, как взойдет в магазин, сейчас вот так начинает водить носом по потолку? Сегодня она потерпит самое страшное поражение.
– Полно вздоры затевать, Дора!
– Нет, пожалуйста, поедем. И поехали.
О том, как зал сиял, гремели хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоит рассказывать: всему этому есть уж очень давно до подробности верно составленные описания.
Дорушка как только вошла в первую залу, тотчас же впилась в какого-то конногвардейца и исчезла с ним в густой толпе. Анна Михайловна прошлась раза два с Долинским по залам и стала искать укромного уголка, где бы можно было усесться поспокойнее.
– Душно мне – уже устала; терпеть я не могу этих маскарадов, – жаловалась она Долинскому, который отыскал два свободных кресла в одном из менее освещенных углов.
– Я тоже не большой их почитатель, – отвечал Нестор Игнатьевич.
– Духота, давка и всякого вздора наслушаешься – только и хорошего.
– Ну, ведь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно, и ездят.
– Не понимаю этого удовольствия. Я, знаете, просто… боюсь масок.
– Боитесь?
– Да, дерзкие они… им все нипочем… Не люблю.
– Зато можно многое сказать, чего не скажешь без маски.
– Тоже не люблю и говорить с незнакомыми.
– Да, и со знакомыми так как-то совсем иначе говорится.
– Да это в самом деле. Отчего бы это?
Рассуждая, почему и отчего под маскою говорится совсем не так, как без маски, они сами незаметно заговорили иначе, чем говаривали вне маскарада.
Прошел час-другой, голубой плащ-домино Доры мелькал в толпе; изредка, проносясь мимо сестры и Долинского, ласково кивал им головою и опять исчезал в густой толпе, где ее неотступно преследовали разные фешенебельные господа и грандиозные черные домино. Дора была в ударе и бросала на все стороны самые едкие шпильки, постоянно увеличивавшие гонявшийся за нею хвост. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замечала времени. Несмотря на то, что они виделись с Долинским каждый день и, кажется, могли бы затрудняться в выборе темы для разговора, особенно занимательного, у них шла самая оживленная беседа. По поводу некоторых припомненных ими здесь известных маскарадных интриг они незаметно перешли к разговору об интриге вообще. Анна Михайловна возмущалась против всякой любовной интриги и относилась к ней презрительно, Долинский еще презрительнее.
– Уж если случится такое несчастье, то лучше нести его прямо, – рассуждала Анна Михайловна. Долинский был с нею согласен во всех положениях и на эту тему.
– Или бороться, – говорила Анна Михайловна; Долинский и здесь был снова согласен и не ставил борьбу с долгом, с привычным уважением к известным правилам, ни в вину, ни в порицание. Борьба всегда говорит за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всем как попало, между тем как обман…
– Гадость ужасная! – с омерзением произнесла Анна Михайловна. – Странно это, – говорила она через несколько минут, – как люди мало ценят то, что в любви есть самого лучшего, и спешат падать как можно грязнее.
– Таков уж человек, да, может быть, его в этом даже нельзя слишком и винить.
– Нет, все это очень странно… ни борьбы, ни уверенности, что мы любим друг в друге… что-то все-таки высшее… человеческое… Неужто ж уж это в самом деле только шутовство? Неужто уж так нельзя любить?
Анна Михайловна выговорила это с затруднением, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому без маски.
– Как же нельзя, если мы и в литературе и в жизни встречаем множество примеров такой любви?
– Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что эти волненья крови… интриги…
– Да, мне кажется, что вы совершенно правы.
– Как, Нестор Игнатьич, «кажется»! Я верю в это, – отвечала Анна Михайловна.
– Да, конечно… Борьба… а не выйдешь из этой борьбы победителем, то все-таки знаешь, что я – человек, я спорил, боролся, но не совладал, не устоял.
– Нет, зачем? Чистая, чистая любовь и борьба – вот настоящее наслаждение: «бледнеть и гаснуть… вот блаженство».
– Долинский, здравствуй! – произнесло, остановясь перед ними, какое-то черное, кружевное домино.
Нестор Игнатьевич посмотрел на маску и никак не мог догадаться, кто бы мог его знать на этом аристократическом маскараде.
– Давай свою руку, несчастный страдалец! – звало его пискливым голосом домино.
Долинский отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.
– Лжешь, совсем не интересная, – пищало домино, – я ее знаю – совсем не интересная. Пора уж вам наскучить друг другу.
– Иди, иди себе с Богом, маска, – отвечал Долинский.
– Нет, я хочу идти с тобой, – настаивало домино. Долинский едва-едва мог отделаться от привязчивой маски.
– Вы не знаете, кто это такая? – спросила Анна Михайловна.
– Решительно не знаю.
– Долинский! – опять запищала та же маска, появляясь с другой стороны под руку с другой маской, покрытою звездным покрывалом.
Нестор Игнатьевич оглянулся.
– Оставь же наконец на минутку свое сокровище, – начала, смеясь, маска.
– Оставь меня, пожалуйста, в покое.
– Нет, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь! – решительно отвечала маска. – Ты мне очень дорог, пойми, ты – дорог мне, Долинский.
Маски слегка хихикали.
– Ах, уж оставь его! Он рад бы, видишь ли, и сам идти с тобой, да не может, – картавило звездное покрывало.
– Ты думаешь, что она его причаровала?
– О нет! Она не чаровница. Она его просто пришила, пришила его, – отвечало, громко рассмеявшись, звездное покрывало, и обе маски побежали.
– Пойдемте, пожалуйста, ходить… Где Дора? – говорила несколько смущенная Анна Михайловна еще более смущенному Долинскому.
Они встали и пошли; но не успели сделать двадцати шагов, как снова увидели те же два домино, шедшие навстречу им под руки с очень молодым конногвардейцем.
– Пойдемте от них, – сказала оробевшая Анна Михайловна и, дернув Долинского за руку, повернула назад.
– Чего она нас так боится? – спрашивало, нагоняя их сзади, черное домино у звездного покрывала.
– Она не сшила мне к сроку панталон, – издевалось звездное покрывало, и обе маски вместе с конногвардейцем залились.
– Возьмем его приступом! – продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинского звездное покрывало.
– Возьмем, – соглашалось домино.
Долинский терялся, не зная, что ему делать, и тревожно искал глазами голубого домино Доры. – Вот… Черт знает, что я могу, что я должен сделать? Если б Дора! Ах, если б она! – Он посмотрел в глаза Анне Михайловне – глаза эти были полны слез.
– Ну, бери, – произнесло сквозь смех заднее домино и схватило Долинского за локоть свободной руки.
В то же время звездное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинского.
Нестор Игнатьевич слегка рванулся: маски висели крепко, как хорошо принявшиеся пиявки, и только захохотали.
– Ты не думаешь ли драться? – спросило его покрывало.
Долинский, ничего не отвечая, только оглянулся; конногвардеец, сопровождавший полонивших Долинского масок, рассказывал что-то лейб-казачьему офицеру и старичку самой благонамеренной наружности. Все они трое помирали со смеха и смотрели в ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунцовый бант на капюшоне Анны Михайловны робко жался к стене за колоннадою.
– Пустите меня, Бога ради! – просил Долинский и ворохнул руками тихо, но гораздо серьезнее.
– Послушай, Долинский, будь паинька, не дурачься, а не то, mon cher[46]46
Мой дорогой (франц.).
[Закрыть], сам пожалеешь.
– Делайте что хотите, только отстаньте от меня теперь.
– Ну, хорошо, иди, а мы сделаем скандал твоей маске.
Долинский опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна по-прежнему жалась у стены, но из ближайших дверей показался голубой капюшон Доры. Конногвардеец с лейб-казаком и благонамеренным старичком по-прежнему веселились. Лицо благонамеренного старичка показалось что-то знакомым Долинскому.
– Боже мой! – вспомнил он. – Да это, кажется, благодетель Азовцовых – откупщик. – И, оглянувшись на висевшее у него на правом локте черное домино, Долинский проговорил строго: – Юлия Петровна, это вы мне делаете такие сюрпризы?
Он узнал свою жену.
– Ну, пойдемте же куда вам угодно, и, пожалуйста, говорите скорее, чего хотите вы от меня, бессовестная вы, ненавистная женщина!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.