Текст книги "Письма Н. Лескова (сборник)"
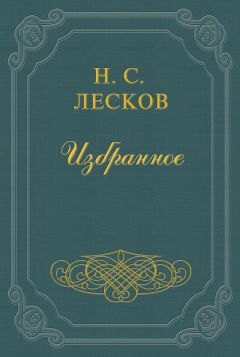
Автор книги: Николай Лесков
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц)
А. С. Суворину
24 декабря 1875 г., Петербург.
Очень благодарен Вам, любезный Алексей Сергеевич, за календарь и еще более того за привет, оказываемый Вами и Вашей дочерью моей Вере. Эго поистине очень хорошее дело, приносящее честь Вашему сердцу и сердцу Александры Сергеевны, а меня обязывающее глубокою Вам признательностью. Эти дети – ровесницы по возрасту, ровесницы по житейским невзгодам, которые они встретили рано, что и должно, мне кажется, быть для них хорошим уроком. Я очень рад, что они сознакомились, и еще раз благодарю Вас за добрый привет, оказанный в Вашем доме моей дочери.
Фельетоны Ваши хороши по-прежнему, силы Ваши, по-видимому, все в сборе: мысль о «досках», что купил гробовщик, мне очень понравилась, она напомнила мне одну превосходную речь пастора Стерна (автора Тристрама). К этому размышлению всегда полезно склонять внимание людей, особенно в эпохи, подобные той, какую мы переживаем, – эпоху пошлой скуки, умаляющей цену жизни и делающей людей «к добру и к злу постыдно равнодушных». Одно скажу: замечаю в Вас уменьшение чуткости в выборе предмета, чем Вы отличались и чем приобрели себе любовь публики. Что такое М. П. Погодин для общества в эту минуту? А Вы его изъясняли очень пространно. Все, писанное об Овсяникове, было очень живо и умно, равно как и о полиции и об адвокатах… Разве мало неправд, вопиющих гораздо громче, чем преувеличение значения личного характера кого-либо из старых людей, «в пределах земли совершивших земное».
До свиданья; желаю Вам всего доброго и, с благодарностью за дочь, жму Вашу руку и руку Вашей дочери.
Н. Лесков.
Письма 1876 года
П. К. Щебальскому
4 января 1876 г., Петербург.
Я замедлил ответом на Ваше последнее письмо, уважаемый Петр Карлович, потому что хотел сообщить Вам ответ превосходнейшего молодого человека, которого хотел завербовать Вам в учители. Ответ этого молодого моего приятеля (человека лет 24–25) таков: он не желает сделать ц<арство> Польское долгим для себя поприщем; но на 1–2 года, в виду нынешнего бездорожья для скромных людей, готов и там поработать. Он очень сведущ в литературе; много начитан; разумен; честен до болезненности; добр бесконечно – до самозабвения; происхождения не громкого, но хорошего (сын одного губернатора); не хорош собою, но добровзгляден, чудаковат, но весьма симпатичен; весьма религиозен в хорошем значении этого слова; классик и кандидат Петербургского университета, но… юридического факультета… Это «ошибка молодости»: он избрал факультет, специальность которого всего менее отвечает его спокойной, доброй, чисто педагогической натуре. Тем не менее он все-таки будет членом суда; а пока не прочь побыть и учителем, если его юридический факультет не будет признан к тому препятствием. Ответьте на это мне, не стесняясь, прямо. По министерству есть примеры, что юристы зачислялись учителями, особенно русской словесности; но не знаю, не было ли это мерою временною? За человека же этого ручаюсь во всех отношениях в самой высшей мере.
О себе не могу сказать ничего утешительного: напротив – вокруг меня все пустеет, и я совсем всеми позабыт. Новый год начался для меня в полной безнадежности, и слово «терпение» даже потеряло для меня всякий смысл. Нигде и ничего не вижу, и нет уже лица, к которому бы я не пытался обратиться, и все это напрасно и напрасно. Не знаю уже, что это за доля такая, – поистине какая-то роковая и неодолимая. И люди, горячо бравшиеся помогать мне, все поостыли: либо их горячность остудилась в столкновении с холодом других, либо… просто опротивело возиться с таким незадачным человеком. Я по опыту знаю, что это противно и Вам, сам не знаю, для чего об этом пишу. Поклон всем Вашим.
Преданный Вам
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
15 января 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Только призадумался о Вас в сумерки, как подали Ваше письмо от 10-го января. Поздравлять, конечно, не с чем, да и я вычитал в «Оракуле», что этого даже не следует делать. Впрочем, я Вас, кажется, поздравлял и пожелал Вам чего-то хорошего; да как из моих желаний почти ни одно никогда не сбывается, так я даже считаю грубым невежеством их иметь и высказывать по отношению к добрым людям, которые уже вволю настрадались и по справедливости (человеческой, конечно) достойны хоть некоторой передышки. Что делать? – а существование наше все-таки не случайность, а школа, воспитательный период, никак не более, и затем состояние, «какого не видел глаз и не слышало ухо». Иначе это уже «ад», – это царство глупого случая и злых прихотей языческого рока: тогда что же надо еще хуже этого для существа, одаренного разумом и ощущениями свойств возвышенных? Но это, конечно, не то, – это не ад, потому что в нас еще живо стремление к высшему идеалу, – в аду, то есть в состоянии полного, неисправимого падения, конечно и этого не будет. Мне кажется, что мы черти, но еще недостаточно злые и благонадежные к некоторому исправлению, окончательным результатом которого будет что-то лучшее. Притом тут и слово Христа и догадки мудрецов древности – все это утешает, что ошибки не будет, и вдруг, таким образом, чувствуешь себя по крайней мере в очень хорошей компании. Однако за сим все-таки нельзя не попищать от впечатлений сегодняшнего дня: тяжело, и до жуткости тяжело, дорогой мой Петр Карлович! Даже, скажу Вам, бывает так тяжело, что не только охотно заснул бы на весь срок моего земного пребывания, но если бы «ради сожаления к людям сократились дни сии», то и спокойно бы лег и вытянулся. Гнетет, знаете, без отдыха и без передышки. Когда бы было что чавкать, так оно бы ничего: не страдая ни славолюбием, ни честолюбием и глядя на жизнь земную как на «переход», наблюдал бы, до чего переход этот особенно труден в России, где ничего не сделать честным трудом и где ни в чем нет последовательности, кроме преследования человека, если не острым терзательством, то тупым измором. Два года, что я уже служу, и служу ревностно – работаю усердно и, по общему замечанию, видно и хорошо, было много случаев меня хоть прикормить, хоть передвинуть с одной тысячи рублей на две, и всякий раз отыскивали для этого «свежего человека» с улицы, а мои труды мне как будто даже мешали. Где тут взять бодрость и энергии? В литературе за мной признают силу и с каким-то сладострастием ее убивают, если уж не убили. Я не пишу ничего – не могу! Я не обижаюсь, как барышня среднего круга, которой не замечают в круге высшем; а во мне пропала вера в себя самого и во все, что я могу делать. Если мне еще суждено быть литератором, то это, конечно, не прежде, как я опомнюсь от долгих и тяжких неудач моих. Повторяю Вам мой вывод: чтобы быть порядочным писателем в России, надо быть вне зависимости от редакторского произвола. Служба в этом случае нашему брату, бедному человеку, пока единственное спасение, и мне нужна служба, которая давала бы хотя 2 т<ысячи> в год, дабы я мог существовать, тогда, может быть, стал бы и писать. Теперь же я способен только грызть себя, чем и занимаюсь со всеусердием, не только наяву, но даже и во сне. Я и внешне постарел, пожелтел и опустился, и упал духом, как только можно. Никого не упрекаю, но и ни на кого более не надеюсь: верю в одно, что тот, кто призвал меня к бытию, разместил и этот путь мне, делали сей жизни едва ли заслуженный, – по крайней мере по «сравнению с сверстниками», которым идет не худо. Талантливый Усов получает 7 т<ысяч>; даровитый Милюков 4 т<ысячи>; честный Маркевич 5 т<ысяч> у Баймакова, и газета все падает, и читать в ней нечего, а у меня работы нет… Что же делать? Вы говорите о «бароне», – барон всегда был пустельга; но и вдохновители его, мои славянофилы, умолкли… Не виню их: хорошо тому помогать, с кем это ладится; но со мною не мудрено, что у всякого отпадает охота. Все ведь хорошо в меру: а это что-то алчное и бесконечное; чтобы возиться с таким незадачником, надо лезть напролом, а не пускать письма только для очищения совести. Надо мной совершено множество ничем мною не заслуженных неправд, и в скромности, с которою я снес и сношу их, лежит корень большого для меня зла: всем кажется, что так и нужно: «люди так, и я так же». Вот что худо! Кора эта все наслоняется и толстеет; а у меня, как у немощной рыбы, уж нет сил пробить и не вздохнуть, чтобы ударить хвостом и перья расправить. Вот где и в чем беда моя! Я не удивляюсь, когда меня считает дурным человеком Островский, когда считает меня чуждым себе Некрасов или Салтыков (хотя никто, как эти два, не выражаются обо мне с похвалою), – но им я досадил; не сержусь на Феоктистова, ничтожество души которого я имел неосторожность изобразить. Я бы не был так мстителен, как он; но все-таки у него есть причины не любить меня и лгать и клеветать на меня. Это дело его сердца и его совести; но причина у него есть. Но Катков, но Георгиевский и tutti frutti[22]22
Все прочие (итал.).
[Закрыть] – им что я сделал? Но все те, которые нынче будто бы стоят за принципы, которым я прежде всех их и самоотверженнее всех их послужил: как в их планы входит изморить меня? При определении меня членом Комитета мне было обещано Деляновым 500 р. прибавки за то, что место чин<овника> особ<ых> пор<учений>, обещанное мне графом, по радению Георгиевского было передано Авсеенке, жена которого умеет вести дела своего мужа. Я и тем был доволен; но для этого стоило Георгиевскому установить эту прибавку, что не стоило ни малейшего труда. Вместо того в прошлом году я ее выпросил уже как пособие, а в нынешнем году мне совестно показалось просить, и мне ничего не дали; а дали по Комитету тому, что получает 2 800 р. и сравнительно ничего не делает. Между тем я почти завален казенною работою, и часто довольно трудною, и мои доклады, без самолюбия говоря, часто обращают на себя внимание, особенно в богословно-историческом роде, в котором едва ли не я один что-нибудь и смыслю. Но и тут чту выходит? – недавно граф, по светским своим связям, пообещал дамам всякую поддержку их вздорному изданию, и издание это, конечно, попало мне, а не другому… Я должен был его браковать, разумеется снискивая себе тем не особенные симпатии. Так идет у меня все. Но я с этим делом справился, и длинный доклад мой прошел среди внимательного молчания и общего одобрения. Комитет единогласно отверг издание дам, и Георгиевский по окончании заседания отнесся ко мне с сочувствием и вниманием к моему видимому нездоровью и расстройству… Однако всучил мне эту щетинку, а не другому. О, как тяжелы все эти мелочи, когда крупного нет ничего, кроме досад, уничижения и горя! Но стыдно и грешно жаловаться! Будем верить, что когда и «священник отвернувшись пройдет и левит мимо идет», то за ними еще может идти самарянин, и тот будет добрее. Думаю теперь о Георгиевском (надо ли пробовать), он ко мне, видимо, стал участливее. Не воспользоваться ли этим: не попробовать ли обратить его в орудие к моему спасению? Он мог бы поговорить и с Брадке, а еще лучше с директором канцелярии по синоду, где я мог бы весьма пригодиться. Мог бы даже, ничем не рискуя, сказать при случае и графу, который два года т<ому> назад определял меня не с тем, чтобы всегда оставить на этом старческом месте. Но я решительно плохой за себя ходок; в меру слабых сил моих я умею выпросить кое-что другим и никогда себе самому. Не найдете ли Вы возможным от себя написать Георгиевскому о моем положении? Было бы достаточным поводом удивиться, что я бьюсь на 2 т<ысячи> в Варшаву, как будто не стою их в П<етер>бурге? Он, конечно, знает наши добрые отношения и не удивится, если Вы трогаетесь моим состоянием, которое даже и он изчужа замечает. Я думаю, что Вы на этом ничего бы не потеряли, а мне, может быть, дали бы некоторый шанс… Но если вздумаете «тронуться жертвою судеб», то, пожалуйста, не дайте Михаилу Никифоровичу превзойти Вас в горячности ко мне, он некогда написал им через меня открытое письмо столь укоризненно сильное, что оно их проняло; а Вы хотя не укоряйте; но скажите же им тепло и от души, что ведь мне только сдохнуть остается за верную службу будто бы чтимых ими интересов. Попытайте еще это для меня сделать, и чем скорее, тем лучше. Протейкинскому я прочел Ваше письмо, и он, вероятно, будет писать Вам. По-моему Вы ему задачу задали, точно он не в учители, а в министры назначается. Какие же он будет выражать общие взгляды на образование? Мне это что-то мудрено кажется; а впрочем, пусть выразится. О делах Ваших, разумеется, порадею и не позабуду сфискалить Вам, когда будет о чем. О Мирре Александровне очень горько скорблю, и всего более сожалею, что она в разлуке с Вами. Много она, бедная, тоже изведала зла человеческого, и я ее никогда так не любил и не уважал, как в приснопамятный вечер залога билетов Леонтьеву. Молю бога ее хранить и для Вас и особенно для дочерей. Поклонитесь ей от меня: она знает, что я ее люблю и уважаю. Затем: мужайтесь и что можете сделайте мне.
Н. Л.
П. К. Щебальскому
18 января 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Вчера кн. Оболенский сказал мне, что в госуд<арственном> совете утвержден проект назначения школьных инспекторов для Кавказского края. Каждая из этих должностей дает вдвое более, чем Комитет, и при этом жаловании уже нельзя сдохнуть с голода. Если Вы согреетесь сочувствием к моему ужасному и незаслуженно постыдному положению и напишете Георгиевскому, то, пожалуйста, укажите на эти места. Конечно, было бы благодеянием дать мне такое место здесь, в Петербурге, чтобы я мог не терять и Комитета, но если этого нельзя, то я пойду всюду. Что делать? Не спросите ли: почему я об этом не говорю? Почему? – потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ни чего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся.
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
24 января 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Я получил от Веры Петровны письмецо, на которое отвечаю Вам. Не знаю хорошо ли писать Марье Ал<ександров>не; а не ее мужу? – по-моему, все нехорошо; но все надо пробовать. Поступите как сочтете за лучшее; но не ошибитесь и не принизьте меня напрасно. Я не стыжусь искать труда; но напрасных унижений все-таки боюсь и избегаю. О порядках кавказских я положительно ничего не знаю, да и узнать не могу; но это не важно: нет нужды указывать именно на это – есть и многое другое, например синод, где я мог бы быть с пользою употреблен при различных делах. Г<еориевско>му, может быть, стоило бы только заговорить обо мне с гр. Т<олсты>м и, так сказать, «извлечь меня из моря забвения»; а потому я думаю, что точность указаний в письме Вашем отнюдь не необходима; а общность ему даже более бы пошла. За что же я один гибну измором? Марья Ал<ександровна> ко мне тоже (кажется) довольно расположена; но я не знаю: не лучше ли писать прямо ему, или, может быть, совсем никому не писать. На сих днях я еще сделал две отчаянных попытки добыть работу и убедился, что мой «катковизм» мне загородил все двери. Более я уже и пытаться не стану. Будь – что будет!
Комаров (38 лет) женился на дочери Григорья Данилевского (16 лет) – она еще не кончила курса гимназии и будет его оканчивать. Мне нравится эта оригинальность. Рекомендую Вашему вниманию начало статьи Щедрина «Культурные люди».
Ваш Лесков.
П. К. Щебальскому
18 февраля 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
О «Дневнике» Вы, конечно, уже всё знаете: я заключаю это потому, что Менгден давно уехал и, вероятно, все сообщил Вам. О сочинении же Вашем узнал только сегодня, оно будет доложено на 3-й неделе поста в комиссии, состоящей из Савваитова, Замысловского, Авсеенки и Бестужева (последний председательствует и от него, как я Вам не раз уже писал, будет многое зависеть). Он и Савваитов, по всем видимостям, на Вашей стороне; о Замысловском не знаю; а об Авс<еенко> имею обычаем никогда ничего не узнавать. Этот человек добра не любит и просить его напрасно, – он гадит с сладострастием, так что вместо пользы можно наделать сугубый вред. Употребляйте возможное давление на Бестужева, – это, по моему мнению, – самое верное и надежное. В моих делах, разумеется, все по-старому: ни «тпру» не едет, ни «но» не везет. На днях Тертий Ив<анович> нападал на Георгиевского за полное обо мне забвение; но, кажется, все это втуне. Отговорок, разумеется, всегда может быть столько, сколько захочется найти их. В России все возможно, если хотят, и ничто невозможно, если не хотят; это мне еще двадцать лет тому назад один старый жид в Киеве открыл, и я это до сих пор постоянно наблюдаю. Хотят же теперь только то, в чем видят выгоду, или необходимость; а в моих делах ни для кого нет ни того, ни другого.
Бедный Виссарион Комаров женился по рассеянности на дочери Данилевского, вместо дочери Каткова, и получил вместо 25 тысяч рублей нейзильберные ложечки работы Александра Кача. Сконфужен ужасно и имеет ныне один ус книзу, а один кверху, а очи червонные, яко у рыбы, глаголемой «окунь».
Поклон мой Вам, Мирре Александровне и барышням. Простите, если чем согрешил, а наипаче надокучил своею пискотнёю: буду говеть и потому каюсь. А не пищать нельзя: во-первых, будто легче, как попищишь; а во-вторых, как пророк Ваалов, хоть и знаешь деревянное сердце своего бога, а все думаешь: авось на диво, возьмет да и услышит! Пусть хоть Мирра Александровна за меня покучится отвращающемуся от просьб моих богу отцов наших; а я за нее покланяюсь, и тако исполним завет Христов.
Новостей хороших только, что на днях двое удавились на одной веревке друг против друга. Если Вы лавливали рыбу, то должны знать, что это выражает так называемую «бешенку». Скука делается просто одуряющею.
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
24 марта 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Я получил Ваше письмо, в котором Вы радуетесь, что в отечестве Вашем много людей более Вас достойных; но за то и Вы, конечно, получили мою сонную цидулку, из которой могли видеть, сколько и сия Ваша радость несовершенна. Ваша рукопись была всех лучше (из пяти), но Б<есту>жев наловил в ней так много фактических ошибок, что надо было признать необходимость их исправления. Были, правда, ошибки, которые, может быть, надо бы считать просто за описки, – например Дмит<рий> Донской, отправляясь на Куликово поле, у Вас берет благословение у м. Алексея, а не у св. Сергия и т. п. Однако доклад был таков, что Комитет оказал Вам много доброжелательства, не согласясь с представлением рецензента об отвержении рукописи, а постановил, что ее желательно бы видеть исправленною по замечаниям. Иного ничего Комитет не мог и сделать. Теперь о возвращении рукописи: я вчера просил об этом Савваитова, но он отклонил это от себя, – говоря, что не может без Г<еоргиев>ского, которого я всячески избегаю о чем бы то ни было просить; но для Вас пересилил себя и попросил и очень усердно и тем дело совсем прихлопнул: он проголосил, что «как же-с это-с можно-с? Это ведь не порядок… и гр<аф> может-с сам пожелать увидеть-с сочинение-с» и т. п. Результат тот, что «нельзя» и ничего нельзя, – ни возвратить, ни домой взять и заказать писарю списать копию, потому что «граф-с может-с спросить-с». Словом, я отошел с носом и, сказав себе «дурака», решился еще крепче не беспокоить сего сановника ничем, даже и для Вас. Чудовищная и противнейшая подозрительность этого человека растет не по дням, а по часам и говорить с ним, поистине, сущее наказание. Они теперь ожесточенно катковствуют: завели особую домашнюю цензуру над всею прессою; назначили к сему Авсеенку и во всем видят подкопы, а посему все строчат жалобы и добиваются предостережений, направо и налево. Теперь идет дело о «Нов<ом> вр<емени>» Суворина, который напечатал корреспонденцию из Новгорода о неудовлетворительных порядках тамошней гимназии. Повод дать предостережение был так недостаточен, что вся тройка с ног сбилась, бегая по сему делу ко «Вн. Дел.», где не хотели давать этому делу хода, – кажется более потому, что они уже очень надоели. Однако они добились, и предостережение завтра будет. До Вас ли тут и вообще до кого бы то ни было, кроме их самих? Поэтому прошу на меня не сетовать, что я Вам ничего доброго сделать не могу. Повидавшись после заседания с Савваитовым, я мог добиться от него в Вашу пользу только того, что рукопись можно будет выдать мне, как только граф подпишет журнал; но для этого Вы должны прислать мне записку в том, что-де рукопись под девизом таким-то прошу выдать такому-то, и подписать это опять не именем, а девизом же. Пришлите такую записку поскорее, но скорого исполнения сей Вашей просьбы не ждите: может быть, возможность удовлетворить ее явится и скоро; а может быть, и не скоро, например в мае месяце: «стяжите душу вашу в терпении» или ищите иных путей. Впрочем, я думаю, ничто не поможет: у нас с Вами на удачи не ходко, и добрых людей, готовых всучить в крестный снурок свиную щетинку, на всяком месте довольно. Не усилить бы без пользы толков, что «этот Щ<ебальский> любит докучать». По моему, лучше не докучайте: зачем? – ведь они, слава богу, сыты… О, дорогой Петр Карлович, когда бы Вы знали: как тяжело жить в этой задухе, которой и конца не видно! И мы же сами, может быть, все это взгромоздили и подпираем… Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительною пошлостью. Зачем они? – нет им места.
Прощайте, поклонитесь Мирре Александровне и барышням.
Ваш Н. Л.
Барона «сладкопевца» я более не видал: это гораздо спокойнее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































