Текст книги "Письма Н. Лескова (сборник)"
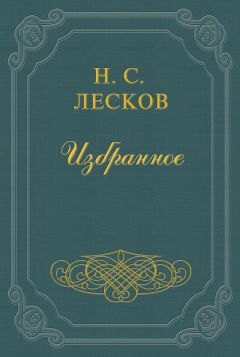
Автор книги: Николай Лесков
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц)
M. H. Каткову
29 ноября 1872 г., Петербург.
Репетиции в «Р<усском> м<ире>» невозможны, – там являются на дело свои воззрения, с которыми ничего не поделаешь. Орган совершенно уходит из рук и, вероятно, пойдет во вред делу, если теперь не устроить его в добрые руки. Сейчас М. Г. Ч<ерняев> имел со мною разговор, в котором передал следующее: пайщики четыре дня тому назад составили протокол о прекращении издания. Ч<ерняев>, желая спасти свои 14 тысяч, а также и сочувствуя делу, вызвался продолжать издание 2 года. Ему это уступили, но с тем, чтобы он принял еще некоторые долги, всего тысяч до 28, из коих 6 тысяч он должен уплатить 2-го дек<абря>. Ч<ерняев> все это принял, и «тонкий – долгий – белый – волокнистый» со всею командою 26-го получили абшид, но 27-го на георгиевском празднике Ч<ерняев> был встречен таким образом, что непременно должен поступить на действительную службу. Это поставлено так, что никакие компромиссы невозможны. Теперь дело с издательством совсем уже спуталось: но Ч<ерняев>, однако, готов скорее рисковать своими деньгами, лишь бы не дать газеты Д., который, как мне достоверно известно от Ю. Б<огушеви>ча, представлял уже двух редакторов: 1. Пыпина и 2. Белозерского (из «Основы»). Получив отказ от этих, он поставит подставное лицо, за которым будет спрятан будто бы Сув<ори>н. Так говорят в Главном управлении по делам печати. Это, кажется, верно. Ч<ерняев>, чтобы не допустить этого, хочет все-таки взять газету за себя и завтра (то есть 30 ноября) непременно подпишет условие, имея заднюю мысль тотчас же передать ее в добрые руки. Кто окажется с этими «добрыми руками» – до сих пор на горизонте не видно. Ч<ерняев>, однако, уполномочил меня написать обо всем этом Вам и, во-первых, просить Вас, не придумаете ли Вы какой-нибудь комбинации, так, чтобы спасти орган, и кому бы его сдать; а во-вторых, просить Вас и о сохранении всего этого в глубочайшей тайне, так как пайщики только ему отдают предпочтение перед Д., а если они прослышат, что он берет газету не для себя, а для передачи, то Д. найдет основания ее перехватить и передать на более выгодных условиях во враждебный лагерь, где идет сильная забота о приобретении старой формы (так как Лонг<инов> новой не дозволит). Ч<ерняев> думает: не пожелаете ли Вы сами взять дело? Он не рассчитывает на это, но только так думает и просит: нельзя ли Вам черкнуть словечко в разрешение его дум? Это Вас ровно ни к чему не обяжет, а у него одна дума будет уже разрешена. Деньги 6 тысяч рублей он вносит 3-го дек<абря>. Затем 8 тысяч нужно уплатить в 2 года. Всего же надо уплатить до 28 тысяч. – Подписка у них сравнительно идет такая, чту и в прошлом году (то есть, конечно, по сие время).
Я не думаю, чтобы Вы сами вошли в это дело и промолчали на этот счет Ч<ерняеву>, но мне кажется, что Вы можете указать путь, как бы устроить это на волоске висящее дело? Нет ли у Вас в виду кого-нибудь? Кратчайший ответ Ваш на это крайне необходим 2-го числа, ибо в этот день уже должны быть приготовлены все диспозиции. Ч<ерняе>ва и я боюсь, как бы он не сплоховал. Если Вам угодно будет написать мне или (еще лучше) дать иносказательную, но внятную депешу тотчас по получении этого письма, то я не промедлю минуты ориентировать Ч<ерняе>ва как надо. – Сделайте милость, не замедлите своим словом: оно теперь может чрезвычайно много.
Преданный Вам
И. Лесков.
М. Н. Каткову
27 декабря 1872 г., Петербург.
Милостивый государь
Михаил Никифорович!
Мне кажется, что я непременно должен сообщить Вам, чту делается в эти минуты с «Русским миром», сконфуженный редактор которого теперь состоит в Москве. Может быть, Вы захотите помочь Вашим словом гибнущей газете. Дело в том, что оба генерала, из коих один полусобственник издания, окончательно недовольны Комаровым и его антуражем и решили его устранить от редакторства, к которому они признают его неспособным. Я говорил Вам об этом слегка и, кажется, говорил тоже, что они предлагали и предлагают это редакторство мне; но я от этого отказался, отказываюсь и всегда откажусь, как потому, что мне неприятно становиться между людьми, которых я люблю и уважаю, так и потому, что это оторвало бы меня от художественной работы, которой я душою предан. В таком положении я оставил дела и, возвратясь, застал у себя экстренные письма генералов с просьбою помочь газете в критические ее минуты. Письмо это пролежало у меня, пока я был в Москве, а встревоженные раз генералы тем временем обратились к Милюкову, который и изъявил согласие принять редакцию (Комаров об этом едва ли знает). Авсеенко, на которого я указывал вместо себя, им, кажется, не по нраву. – Теперь они склонили Комарова немедленно уехать за границу и дают ему за это 3000 р. и ящик устриц. Он согласен и едет. Отъезд его немедленный признается Ч<ерняе>вым необходимым для того, чтобы «сразу выместь весь шпионствующий, нигилистический сор», чего действительно нельзя сделать при страдающем феминизмом Виссарионе. Но я боюсь, и, кажется, не без основания, что немедленный отъезд К<омаро>ва во время подписки (которая идет удовлетворительно) неизбежно породит слухи о прекращении газеты и страшно повредит ей. Они этого не понимают, и я вчера на генеральном совете, на который был вытребован к Ч<ерняе>ву, едва успел преклонить их на следующее: 1) Имя Комарова оставить на газете и оставить за ним внешние сношения по редакции с людьми. Я указал его достоинства: благородство, мягкость, покладливость и уменье держать связи. Это принято. 2) Придать ему в помощь Авсеенку или Милюкова (они склоняются в пользу последнего), по гласно этого не заявлять. И это принято. 3) Не высылать К<омаро>ва немедленно, а удержать его или вовсе и тем сберечь 3 тысячи, или же по крайней мере сберечь его здесь до половины февраля, то есть пока подписка выяснится и, может быть, докажет ненужность высылать. Против этого неодолимые возражения, которые мне удалось поколебать, но опровергнуть не удается. Ф. пристал к моему мнению, что это безопаснее, чем рисков<ать> слухами, которые подхватятся и повторятся на тысячу ладов; но Ч<ерняе>в, видимо боясь за свои деньги, минуты боится оставить К<омаро>ва и 3 тысячи на его поездку считает потерею относительно ничтожною. Значения же слухов он не понимает и думает, что их достаточно будет раз опровергнуть. – Так ли это? – Я просто дрожу за судьбу этого единственного издания в известном духе и, зная Ваше к нему внимание, сообщаю Вам все это на тот конец: не найдете ли Вы нужным и удобным тем или другим путем установить Михаила Григорьевича на настоящую и лучшую точку отправления? – Письмо это, конечно, прошу принять к единственному Вашему ведому. Из двух людей: Авс<еенко> или Милюков, я не знаю, который удобнее? Авс<еенко> гораздо способнее и умнее, но он человек больной и бессонных ночей не переносит, а без них редактору не обойтись. Милюков же человек опытный и ровный, но… я боюсь, не сделалась бы газета в его руках набело перепечатанным «Сыном отечества». Рутинный прием «Голоса» для него образец. «Реалисты они оба, конечно, потаенные», но у Авсеенки больше чутья, больше такта, он лучше пишет и человек вполне самостоятельных взглядов, тогда как М<илюков> был, есть и всегда будет под рукою Андрея, которого «нет продажнее». С другой стороны, М<илюков> покладливее, а А<всеенко> упорен и легко разрывает связи; у М<илюкова> большое литературное знакомство, а от А<всеенко> люди как-то сторонятся, я полагаю, единственно по неприветливости его обычая и его холодной манере. Нехорошо ли бы было вместо того другого дать кого-нибудь совсем иного из людей Вам известных? Ваше слово было бы в этом случае вполне действенно, тем более что на Авсеенку генералы как-то не располагаются; я ни за что в мире за это не возьмусь, а М<илюков>ими еще не усвоен последним словом. – Во всяком случае желаю, чтобы эти передряги были Вам известны, – авось уже и из одного этого делу будет какая-нибудь польза. С глубочайшим к Вам почтением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою
Н. Лесков.
P. S. Письмо запоздало, зато я нечто узнал и приписываю: откуда сильный напор против К<омаро>ва? От ориенталиста Григорьева, у которого Ч<ерняе>ва окружили разные люди и совсем его обескуражили. Я этого Григорьева совсем не знаю, что он такое, но, во-первых, опасаюсь: нет ли там планов посадить своего канцелярского либерала, а во-вторых, о намерении К<омаро>ва ехать знает и рассказывает уже граф Д<анилевски>й, – значит, распространения этого слуха уже бояться нечего, а надо его принять как совершившийся факт.
Письма 1873 года
А. С. Суворину
26 февраля 1873 г., Петербург.
Милостивый государь
Алексей Сергеевич!
Я очень благодарен Вам за Ваше внимание и считаю долгом исполнить Ваше желание, но я не совсем понимаю, чту нужно Вам для Вашего издания: формулярные ли сведения о моем рождении, воспитании и проч. или несколько более живой рассказ о моем прошлом? Я ведь вполне самоучка и всем, чту знаю и что усвоил, обязан себе и двум добрым людям, которых нельзя не вспомянуть, давая сведения обо мне как о литераторе. Удобна ли Вам по этому предмету заметка строк в 50–70? Это о времени долитературном.
Что же касается литературных моих трудов, то я стесняюсь только в одном: я решительно не могу указать, когда именно что было мною написано. Достаточно ли будет для Вас, если я просто перечислю мои беллетристические работы в том порядке, как они одна за другою писались и где помещались?
Равномерно позвольте мне узнать: нужна ли моя записка Вам в окончательной редакции для печати, или Вы предпочли бы иметь об этом мое письмо к Вам, из которого сами могли бы взять то, что найдете нужным?
Ответьте мне, пожалуйста, и я без замедления исполню Ваше желание.
Всегда Вам преданный
Н. Лесков.
А. С. Суворину
7 марта 1873 г., Петербург.
Не посердитесь, пожалуйста, на меня, уважаемый Алексей Сергеевич, что я о сей пору не прислал Вам обещанного письма. Я его составил, но многого не могу припомнить и к тому же несколько дней лежу больной. Однако на днях все это будет сделано, и я отдам мое письмо Гр. Данилевскому, с которым Вы, кажется, видаетесь, а если это и не так, то он имеет возможность доставить его Вам с одним из сорока тысяч курьеров, какие у него есть для всяких посылок. – Благодарю Вас за добрый ответ и выраженные в нем добрые чувства. Благодарю и за искреннее мнение обо мне и моей деятельности. Как быть? Все мы люди, все человеки, – существа плохие и несовершенные перед идеею абсолютного разума и справедливости. Может быть, и я во многом виноват; может, и Вы в чем-нибудь не безгрешны. В виду нарастающих годов и естественно приближающейся смерти порадуемся хотя тому, что мы еще умели всю жизнь оставаться литераторами и, питаясь тощими литературными опресноками, не продавали себя ни за большие деньги, ни за малые, как это начинается у других, похваляющихся своей бесстрастностью… Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам, а с нас, мне кажется, довольно того утешения, что мы любили и (надеюсь) любим свое дело горячо и служил ему по мере сил и умения искренно и не бесстрастно, не ожидая себе за свою деятельность ниоткуда никаких великих и богатых милостей. В заключение скажу Вам: вряд ли многие из нас теперь в существенных вопросах гак противумысленны друг другу, как это кажется. А подумайте, что впереди! Если мы поживем, то, не придется ли нам повоевать заодно против того гадкого врага, который мужает в меркантилизме совести? За что же мы унижаем друг друга? И перед кем? Перед людьми, которые всех нас менее совестливы…
Распря чаша часто держится характера чисто сектаторского… Это худо, но помочь этому могла бы только одна талантливая критика, а ее нет. У нас есть обидчики, но истолкователей нет, а обидчикам, конечно, всегда будет более приятно заботиться о литературной вражде, чем о единодушии и мире. Возможен ли такой мир или он есть утопия, но во всяком случае одна забота о нем сама по себе уже не осталась бы неблаготворною для литературы, и наш лагерь, мне кажется, имеет в этом случае некоторое преимущество перед Вашим. Наши люди как-то более умеют щадить самолюбие и человеческое достоинство своих противников и по крайней мере они едва ли на десять оскорблений отвечают одним, и то всегда гораздо более умеренным. Как хотите, а это несомненный признак порядочности, который нельзя не уважать в самом противумысленном нам человеке.
Вот Вам мой болтливый ответ на Ваше доброжелательное письмо, за которое еще раз благодарю Вас; вполне Вам верю (как и всегда верил) и желаю Вам от души наилучших и во всем успехов и наилучшего счастья.
Преданный Вам
Ник. Лесков.
Крестовский тоже пришлет Вам свою записку.
В. П. Мещерскому
18 марта 1873 г., Петербург.
Милостивый государь
Владимир Петрович!
Почтив меня своим посещением в начале Вашего литературного предприятия, Вы изволили просить меня приготовить для «Гражданина» какую-нибудь небольшую беллетристическую работу. Теперь я располагаю такою вещицею (рассказ листа в 4, размера «Русского вестника») и по ее относительным достоинствам, кажется, могу позволить себе предложить ее Вам. Потрудитесь известить меня: пригодно ли Вам в эту пору такое произведение? Гонорар мой в «Русском вестнике» 150 р. за лист – что я желаю получить и от «Гражданина». Рассказ писан в роде «Смеха и горя», то есть легко делится эпизодически. Прочесть его я готов, если можно, в одну из сред.
Ваш покорный слуга
Н. Лесков.
Письма 1874 года
П. К. Щебальскому
4 января 1874 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Получив Вашу «критическую статью», я устремился в преследование нашего консервативного камергера и, наконец, настиг его сегодня и с его речей начинаю мою Вам отповедь.
Особа, о которой Вы спрашиваете, появлялась сюда для того, чтобы проситься в члены совета м<инист>ра. Граф счел это за несообразность и отказал в этом. Тогда П<отапов> спросил через директора д<епартамен>та: «что ему делать?» (то есть он не ладит с В<итте> и проч.). Граф на этот вопрос отвечал: «ехать на свое место». Граф им очень недоволен и очень бы рад был, чтобы он, приехав на свое место, прислал просьбу об отставке, что здесь и ожидается, так как П<отапо>ву с В<итте> не поладить, а между тем он, кажется, уже выслужил пенсию. Но выслужил ли он наверно, – этого камергер не знает. Далее же, теперь здесь ничего не могут делать для Ваших интересов, а просто Вам осведомиться: что делает в Варшаве П<отапов>? Уселся ли г-н снова или, не стерпев афронта, уходит? Если он уходит, то перевод Ваш на его место – дело решенное в Вашу пользу. Если же он смирится и сядет на свое старое место, то… надо и Вам сидеть и ждать погоды. Перемена эта, «вероятно, состоится» (говорят), «но надо выжидать, а если П<отапов> уходит, то Вы тотчас будете на его месте». Об Одессе М<аркеви>ч говорил с графом, но это невозможно с сохранением выгод, предоставляемых Вам местными привилегиями. Вот Вам отчет о том, что я узнал. Теперь узнавайте сами в Варшаве и пишите сюда кому знаете. Если сочтете нужным вести что-нибудь через меня, то я, конечно, не буду неисправен и по мере сил постараюсь быть толков.
Мое собственное определение, кажется, совсем устоялось. Геор<гиев>ский сказал, что уже есть приказ, но я его еще не читал.
За критику благодарю и «приемлю оную за благо», но не совсем ее разделяю и не вовсе ею убеждаюсь, а почему так? – о том говорить долго. Скажу одно: нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это жанр, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нег? Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит веревка, привязанная к колесу. Потом: почему же лицо самого героя должно непременно стушевываться? Что это за требование? А Дон-Кихот, а Телемак, а Чичиков? Почему не идти рядом и среде и герою? Я знаю и слышу, что «Очар<ованный> стр<анник>» читается живо и производит впечатление хорошее; но в нем, вероятно, менее достоинств, чем в «Ангеле». Конечно, это так, – только вытачивать «Ангелов» по полугода да за 500 р. продавать их – сил не хватает, а условия рынка Вы знаете, как и условия жизни. Обижаться же мне на Вас за придирчивость ко мне я не думаю, так как в самой этой придирчивости вижу Ваше ко мне расположение. И скажу Вам откровенно, если Вы любите мой, так говоря, «талант», то я не только люблю и Вас и Ваше отношение к литературе, но считаю Ваши мнения самыми беспристрастными и основательными и потому чрезвычайно мне дорогими и милыми. На этот раз я с Вами не согласен, но это, конечно, потому, что мы не с одной точки относимся к задаче искусства. Затем о «Захудалом роде». О новом поколении не стоит говорить: я это «вокруг перста обовью», а тут самое трудное: чем изгажены князья Димитрий и Яков? Я хочу сделать так: бабушка навлечет немилость губернатора, и тот ей отомстит доносом. Детей у нее потребуют в казенное заведение… (Это бывало!) Укажите, в какое заведение сдать их поневоле? Учитель будет сослан в отдал<енные> губернии. Нравится ли это Вам? Пожалуйста, пособляйте, пока помощь так важна.
Душевно любящий Вас
Н. Лесков.
Мирре Александровне и всему приветливому семейству Вашему бью челом. Соловьев умер в Москве скоропостижно, от нервного удара.
А. С. Суворину
11 августа 1874 г., Петербург.
Уважаемый Алексей Сергеевич!
Исполняя Ваше желание иметь мои автобиографические заметки, посылаю Вам записочку, в которой включено все, что я помню о своей литературной деятельности. Если это Вам на что-нибудь годится, то я буду очень рад и еще раз благодарю Вас за честь, которую Вы мне оказываете, интересуясь мною.
Всегда Вам преданный
Н. Лесков.
И. С. Аксакову
16 ноября 1874 г., Петербург.
Милостивый государь
Иван Сергеевич!
Александр Николаевич прочел мне сегодня Ваш ответ на его письмо, писанное по моему желанию. Я не знаю, почему я в эти тягчайшие минуты вздумал тревожить Вас, но я был уверен, что Вас моя просьба не обидит и что Вы сделаете все то, что возможно. Все это так и вышло… Примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность и за участие и вообще за доброе слово. У Кокорева я побываю, но прошу Вас, если можно, пришлите мне Вашу карточку, с которою бы я мог к нему приехать, – это облегчает неприятность положения входящего просителя. Вы меня этим много обяжете. О том, что выйдет из нашего свидания, я расскажу Александру Николаевичу, а если это и Вас может сколько-нибудь интересовать, то извещу и Вас. Разочарований же каких, впрочем, не боюсь, – никаких удач ниоткуда давно уже не ожидаю. Чтобы иметь в это время успех и не бояться голодной смерти, надо было идти не тем путем, каким шел я, служа мою посильную службу русской литературе и русской мысли. «Р<усский> в<естник>» был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там значительное стеснение, – теперь и это кончено; а ни плодить материалистов других «Вестников», ни лепить олигархов «Р<усского> мира» я не могу. Поэтому, чтобы не совсем отречься от литературы, остается на время отойти от нее в сторону и стать вне зависимости от всеподавляющего журнализма. При нынешнем тиранстве журналов в них работать невозможно, и мое нынешнее положение лучшее тому доказательство. Вы оказали мне, в письме к Ал<ександру> Н<иколаевичу>, большую любезность; но представьте себе, что мне все говорят такие комплименты и в глаза и за глаза; а между тем… мне некуда деться! И так идет не с одним Некрасовым, а так шло и с Юрьевым, которому первому были предложены и «Соборяне» и «Запечатленный ангел»… Я понимаю, за кого и за что может мстить мне кружок бывшего «Современника» и вся беспочвенная и безнатурная стая петербургских литературщиков; но за что руками предавал меня в единую и нераздельную зависимость от Каткова продолжатель московской «Беседы», – этого я о сию пору не знаю. А все это меня огорчало, томило мой дух, убивало мою энергию и веру в свои силы и в то же время давало надо мною ужасную власть людям, которые, кажется, великодушие знают только по доктрине. Теперь я все покончил и с ними: нет никаких сил сносить то, что я выносил долго. Кроме одного «Запечатл<енного> ангела», который прошел за их недосугом «в тенях», я часто не узнавал своих собственных произведений, и, наконец, 2-я часть «Захудалого рода», явившаяся бог весть в каком виде, исчерпала или, лучше сказать, источила последние капли и моего терпения и всех моих сил душевных. Не ближе ли ко мне теперь станет господь, являющий силу свою в немощи человека?
Заключаю мои строки повторением еще раз моей признательности, как за Вашу готовность просить за меня, так и за доброе слово о моих работах. Вы мне среди всех зол нынешнего дня моего доставили отраднейшую минуту.
Не буду употреблять обычной фразы об уверении Вас в моем почтении, – я чувствую, что Вы знаете, что Вас уважают даже Ваши враги; а мне уж лучше позвольте любить Вас так – как это мне более привычно по отношению к роду Аксаковых.
Преданный Вам
Николай Лесков.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































