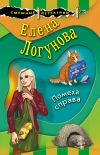Текст книги "Жизнь для вечности"

Автор книги: Николай Пестов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Немного надо было времени, и Коля осознал, что наука не может быть самоцелью, понял ее суетность, и в его глазах рассеялись красивые миражи, в которые верит громадное большинство человечества. Поняв сердцем, что Бог есть действительно наш Отец и не стоит в нашей жизни где-то вдали от нас, он сразу находит закономерности Его отношения к нам. Он пишет: «Наказание следует немедленно – ив той области, в которой мы согрешили» – и приводит ряд примеров из своего опыта и наблюдений жизни окружающих. Понять сердцем этот закон удавалось лишь немногим христианам. И лишь духовно зрелым бывает под силу отказываться в своих делах от человеческой предприимчивости, от суетливости в заботах о себе, от своей инициативы и всецело вверять свою судьбу и свои дела – большие и малые – Промыслу Самого Бога.
Поняв эту истину, Коля начинает смело проводить ее в жизнь. Он пишет: «Когда спрашивают, кто кончил io классов, я молчу… Если решение обо мне придет от Бога, то спросят: „Кто учился в высшей школе?“».
Коля до глубины сердца понял преимущество и мудрость христианского смирения и заповеди – самому занимать лишь последнее место. И Господь на деле показал ему, какое это дает преимущество (случаи, когда Коля не просил у курсантов овощей, но получал их более всех). Пусть христианин держится как можно скромнее, Господь Сам ставит свою «свечу на подсвечнике», чтобы «светила всем в доме» (Мф. 5:15).
25 октября Коля принял военную присягу на верность Родине. Этот день он отметил в своем календарике-дневнике как один из самых знаменательных дней своей жизни. Впоследствии, в Москве, Колюша рассказал нам, что принятие присяги произвело на него очень сильное впечатление. Слова присяги были для него не только словами – это были обеты его души перед лицом Бога, Родины, совести и всего, что было для него святого.
Какой авторитет и уважение приобрел Коля среди товарищей, видно и из следующего письма:
«Сегодня у нас произошел очень печальный случай. В целях осушки во дворе казармы мы рыли канаву (меня сняли с этой работы и послали в помощь редакции стенгазеты, я описываю все со слов очевидцев). Один паренек (спит против меня на нарах) выкопал металлический футлярчик, очевидно, минный запал, и решил сделать из него зажигалку – „Катюшу стал ножом выковыривать толуол. Ему говорили: „Брось“, – предупреждали его. Он не слушался и, к своему счастью, успел выковырять почти весь толуол, когда запал взорвался у него в руке – он дошел до капсюля. Ему оторвало по два пальца на руках, сорвало кожу с других пальцев, местах в десяти поранило лицо, глаза чудом остались невредимы. Пусть Сережа сделает отсюда вывод. В окрестностях Москвы много такой дряни, ребята завозят ее и в Москву.
В связи с этим происшествием появилась необходимость выбрать товарищеский суд. Выбрали пятерых, в том числе и меня. Из 69-ти человек против меня голосовали только 4 человека, против других – 10–15. Я теперь убедился в том, какое доверие ко мне со стороны курсантов. Меня знает вся рота, все ко мне обращаются с просьбами объяснить непонятное, дать листочек бумаги, карандаш на время, ручку и чернила».
В юности часто не умеют понимать значение семьи, не ценят заботливость родителей, их нежность и ласку. Не понимается значение любви – как самого могучего фактора жизни, как света души, того, на чем единственно держится жизнь и чем скрашивается вся ее горечь и тяжесть. Если достаточно глубокого понимания этого ранее не было у Колюши, то теперь оно появилось в полной силе. Вот письмо (от 9 ноября 1942 года), которое Коля пишет сестре, – идущее у него от самого сердца.
«Моя милая, дорогая сестра.
Я вчера прочел твое искреннее, простое письмо; оно так пришлось мне по сердцу, что я прочел его несколько раз без малейшего желания раскритиковать его или придраться к чему-либо. Твои переживания мне были так близки и понятны, так сходны с моими собственными, что и у меня на глаза навернулись слезы.
Бывают такие минуты, когда хочется почувствовать себя в другом мире, вспомнить свою семью, убедиться в том, что где-то с нетерпением ждут твоих писем, беспокоятся о тебе, переживают вместе с тобой все твои невзгоды. Тогда я достаю пачку писем и перечитываю их все, от первого, от 25 сентября, до сегодняшнего. И в простых словах, которые обычно представляют для меня семейную хронику, я чувствую вашу любовь, вашу заботливость, ваши молитвы, я чувствую, что я для кого-то дорог, меня с нетерпением ждут. Тогда мне ужасно хочется попасть в Москву, но это невозможно. Я сажусь и пишу письмо, иногда два, а то и три. Я вижу мою семейку, сидящую вокруг стола (почему-то при свете керосиновой лампы): маму, распечатывающую фиолетовый конвертик или белый треугольник; папу с задумчивым и печальным лицом, облокотившегося на стол; тебя, моя сестричка, мой Тяпик, стоящую коленками на стуле; Сережу, бросившего рисовать миниатюрные танки и слушающего письмо; бабушку, прислонившуюся к двери и стоящую в темноте; я сам нахожусь где-то рядом и слышу ваши голоса. Это похоже на сон, да и во сне я часто вижу то же.
Когда я вспоминаю свою семью, нашу квартиру и прежнюю жизнь, я жалею о потерянном времени и лишних знаниях, которые придется позабыть.
Когда я вернусь домой, я буду совсем другим – дельным, серьезным, очень, очень ценящим любовь и заботливость своей матери и своей сестры.
До свидания. Коля».
В первых числах ноября Коля писал нам:
«Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю вас с наступлением зимы.
Вчера мы, как и всегда, через 3 минуты после „подъема“ в одних рубашках были на дворе. За ночь сильно похолодало, был мороз градусов 5. Мы 15 минут занимались физ. зарядкой, потом, как сумасшедшие, помчались в помещение. Через полчаса мы уже были одеты и с винтовками пошли на строевые занятия. Мы все время были в движении, бегали, терли руки, и кроме рук ничего не мерзло, но руки мерзли ужасно, главным образом от холодного прикосновения ложа винтовки и стального затыльника приклада. И как я ни старался натянуть рукав шинели на пальцы, я их сильно поморозил, и у меня до самой ночи сильно ломило в суставах при движении пальцев.
Утром было 2 часа занятий в поле, остальные в классе, кроме двух последних – тактики. Но тут уже лейтенант сжалился над нами, да и сам замерз, лежа в окопе, и отпустил нас на час раньше; то-то все были рады. Говорят, нам скоро дадут шапки-ушанки и вернут носки и варежки. Ночью я распорол подушку и тюфяк и вытащил шарф, носки и варежки-„лисички“[6]6
Перчатки на лисьем меху, сшитые мамой.
[Закрыть] – все, что осталось после реквизиции[7]7
У курсантов отбирали теплые вещи, присылаемые из дома.
[Закрыть]. Сегодня утром я надел носки под портянки; хорошо, что ботинки я взял на номер больше, теперь они мне будут как раз. Руки сегодня не мерзли совсем – большое-пребольшое спасибо мамочке за „лисички"».
В середине ноября Коля получил извещение, что один из его товарищей – Борис С. был ранен и у него отнята левая рука. Это известие очень огорчило Колю, он сильно переживал несчастье своего товарища. Он пишет своему двоюродному брату:
«Никак не могу забыть об этом, очень сильно переживаю – это первый случай среди наших знакомых. Каждое воспоминание о Борисе повергает меня в печаль. Я даже не могу посылать ему писем: что я могу ему написать? Так его жаль, я страдаю за его судьбу. В цвете лет – и без руки. Какой ужас. Пойдешь к С. – передай мое соболезнование».
В своем первом письме Борису С. Коля старается его ободрить и пишет ему:
«Буду писать тебе чаще, постараюсь не оправдать пословицы, что „друзья существуют до первого несчастья“… Боря, не беспокойся за свою судьбу, таких, как ты, Родина не забудет».
День курсанта
Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь.
(Мф. 7:14)
В конце 1942 года Коля написал хронику своего первого периода жизни в Ярославском военном училище, озаглавив ее «День курсанта». Написана она была и послана Лиде Ч. Копию «Дня курсанта» Коля прислал и семье, с просьбой сохранить до его возвращения.
«Здравствуй, Лида.
В тот день, когда я призывался, я увиделся с Алей, она должна была передать тебе привет. Аля просила меня написать тебе письмо. Я удивился: уполномочена ли она просить за тебя? Ответа ее я не помню, вернее, я его не слышал – так был занят мыслью о будущем письме. Аля взяла с меня обещание, и вот я его выполняю.
Может быть, я пишу еще из желания получить ответ. Зачем он мне – не стоит говорить. Все писатели во главе с Еленой Коконенко пишут о том, что такое для красноармейца письмо, и особенно письмо девушки. А что вернее всего, мне попросту хочется высказать свои впечатления, накопленные за два с половиной месяца в армии.
Домой я пишу почти каждый день – это называется хроникой. Если в хронику и вплетается что-либо эмоциональное, то оно из-за краткости лишено вдохновения. А сейчас мне хочется высказать все сразу, чтобы, увлекшись воспоминаниями, соединить воедино все пережитое в Ярославском пулеметно-минометном училище за полтора месяца. Это не так трудно сделать: здешняя жизнь так однообразна, что для этого достаточно описать один ее день.
Он начинается с протяжной команды „подъем“, от которой одеяла летят куда-то в сторону, все вскакивают, как ужаленные, с быстротой и ловкостью матросов спускаются с нар, чтобы успеть за четыре минуты одеться и выбежать в гимнастерках во двор, на пятнадцатиминутную зарядку на морозе. Кто опоздает, будет „заряжаться“ не 15 минут, а 30, и потому все, толкаясь и застегиваясь на ходу, пулей вылетают с крыльца. А при возвращении – давка в дверях: озябну в, все спешат зайти в казарму. Сонливость, разогнанная сумасшедшим подъемом, пропала совсем. Туалет, утренний осмотр, команда: „Рота, приготовиться к занятиям“.
Первые два часа – строевая подготовка; забрав оружие, идем на стадион. Винтовка на плече, поддерживаемая левой рукой; выбрав момент, когда лейтенант не видит, правой рукой поддерживаешь приклад, даешь отдохнуть утомленной левой. Так каждый день, и ты привыкаешь, забываешь о том, что в согнутой руке – четыре с половиною килограмма, которые ты должен носить во имя будущей победы над фашизмом.
На стадионе мы отрабатываем строевой шаг, повороты в движении строем, подход к командиру. Иногда вместо строевой бывает более веселое занятие – физическая подготовка: „скачок вперед“, „скачок назад“ – „мартышкин труд“, по выражению старшины. Со смехом и с упорством курсанты изучают способы колоть штыком и бить людей прикладом.
Возвращаясь в казарму, думаешь о бестолково и бесцельно проведенном времени, потраченном на усовершенствование в деле истребления людей. Так каждый день, и эта мысль учит меня ценить время. Правда, я немного научился ценить его, когда зимой 1941-42 г. работал истопником и электромонтером. Придя с работы, я старался употреблять оставшиеся несколько часов для работы над собой. Я прочел много книг, из-за предубеждения отвергаемых раньше, я полюбил хороший роман. Я научился играть на рояле и полюбил музыку, незнанием которой раньше бравировал. Я окончил переводческие курсы и использовал свое знание немецкого языка, которое я раньше не ценил. Но если бы я увидел себя марширующим сегодня на стадионе, я бы использовал время втрое лучше.

9 часов. „Рота, выходи строиться на завтрак!“ Роту, выстроенную в колонну по 4, ведет старшина. „Рота, стой“. Старшина скрывается в здании: надо доложить о прибытии роты, которая, ежась от холода, стоит по стойке „смирно“ перед крыльцом. Наконец команда: „Справа по два, шагом марш“, – и через минуту все стоят вдоль столов. „Снять головные уборы“, „Садись“, „Приступить к еде“.
Я делю хлеб и масло. Не всякий сумеет точно и честно разделить между сидящими за столом несколько обкромсанных буханок и кусок масла. Мне эта работа доверяется как математику и честному человеку. Сахар и суп делят другие, потому что уже через 15 минут: „Рота, кончай кушатъ“, „Встатъ“, „Выходи строиться".
Курильщики задерживаются в дверях покурить, а некурящие, ожидая их, мерзнут на улице в строю. Старшину ругают за нераспорядительность, а курящих за несочувствие товарищам. Те укоряют – надо же учитывать людские слабости. „Шагом марш“. „Рота – стой".
Старшина снова бежит докладывать о прибытии роты, мерзнущей на улице в ожидании команды „Разойдись“ Следующие два часа по расписанию – изучение материальной части оружия, огневую подготовку – проводят командиры взводов. Но наш лейтенант перекладывает эту работу на мои плечи. Что стоит для меня, изучавшего в институте теорию машин и механизмов, понять принцип работы пулемета? 10 минут. А тем, кто окончил у классов, нужны часы, и я разжевываю им работу замка пулемета при стрельбе. Вот куда уходят еще два часа, вот куда я применяю мое знание механики.
Так каждый день. Я думаю о том, на что мне понадобится после войны мое знание всех этих орудий истребления людей. Я учился в Энергетическом институте, изучал марксизм, ленинизм, высшую математику и английский язык… Но если бы я увидел тогда себя объясняющим курсантам убойное действие пули, я бы занялся изучением более гуманных наук, я бы пошел в Медицинский институт. Когда кончится война, я так и сделаю, если не найду к тому времени более подходящего поприща для служения человечеству.
В следующие два часа бывает какой-нибудь из теоретических предметов: политическая подготовка, инженерное дело, санитарное дело, связь, топография, баллистика. Все программы рассчитаны на семилетнее образование, и мне часто приходится скучать. На уроке топографии деревенские ребята, только что впервые увидевшие компас, с раскрытым ртом слушают о Большой Медведице. Наконец до них доходит, что весь мир вертится вокруг Полярной звезды. В перерыве я опровергаю это положение, а на следующем занятии ребята начинают спорить с преподавателем, ссылаясь на мой авторитет. Конечно, все кончается как нельзя лучше: я знакомлюсь с преподавателем, он спрашивает меня о моем образовании, и я обеспечил себе „отлично“ на все 6 месяцев.
Недавно воронежские ребята поспорили, войдет ли гривенник в электрический патрон. Сказано – сделано. Яркая вспышка, брызги расплавленного металла, все от испуга разбегаются, оставив гривенник в патроне. Два дня казарма была без света: монтер не мог найти повреждения, пробки вылетали, как только их ставили на место.
И вот эти ребята, побоявшиеся после короткого замыкания подойти к патрону, изучают полевой телефон УНАФ на уроке связи. Никто не может понять назначение трансформатора и микрофона, дело идет так туго, что сам преподаватель получает прозвище Унаэф.
Политподготовка похожа на изучение катехизиса. „Что сказал т. Сталин о дисциплине?“ – „Дрмия без дисциплины превращается в сброд“.
„Что сказал Суворов о боевой учебе?“…„Тяжело в ученье – легко в бою".
„С каких пор военная присяга дается индивидуально?“…„С 1939 года".
Доходит очередь и до меня, и мне задается вопрос: „На чем зиждется дисциплина в капиталистических армиях?“ Ответ должен быть простой: „На страхе и на обмане“, – а я начинаю распространяться о классовых противоречиях, цитирую Бисмарка: „Солдат должен бояться своего командира больше, чем пушек неприятеля“, – и Вильгельма II: „Если бы солдаты знали истинные цели войны, они никогда не пошли бы воевать“, – и я зарекомендовал себя как образованный человек.
На санитарном деле я скучаю еще больше, зато баллистику я слушаю с любопытством: чтобы довести до своих слушателей какие-то крохи знаний, преподаватель прибегает к примитивному объяснению отдачи, выстрела, взрыва, а когда дело доходит до такого сложного явления, как деривация, он начинает говорить буквально глупости. Тем не менее никто ничего не понял, а на вопрос: „Ясно?“ – все хором ответили: „Ясно“, – в надежде, что П-в (то есть я) все объяснит. Мои объяснения даже кажутся ребятам более простыми и понятными. Все „проясняется“: и масштабы, и действия отравляющих веществ, и работа пороховых газов.
Возвратившись из классов в казарму, все обступают дневального, который раздает почту; в несколько секунд пачки писем расходятся по рукам, и не получившие писем осаждают дневального вопросами: „А мне?“ „А мне не было письма?“ Сколько разговоров, сколько радости, сколько завистливых взглядов. Этот небольшой исписанный листик бумаги, сложенный треугольником, – драгоценная весточка из другого мира, от которого мы все оторваны войной и о возвращении в который мечтает каждый. Все, все: получившие хорошие известия и скучающие по дому, не получившие писем совсем, получившие плохие известия о бедствиях эвакуированных семей, о ранении товарищей, – все сознают, что причиной всех бед и зол является фашизм. И чем дальше, тем больше в сердце накапливается обиды и злобы, тем больше нетерпения проявляет каждый, тем ближе и страшнее час расплаты.
Больше всех завидуют мне: я получаю ежедневно несколько писем. Позавчера ребята вручили мне сразу 6 писем, одно было от Лиды. Через 10 минут они с усмешкою спросили: „Ну, что тебе пишет твоя любезная?“ А мне было не до шуток, я сказал им, что мой первый школьный товарищ, Борис С., в боях под Сталинградом лишился левой руки. После непродолжительного молчания кто-то сказал: „Ничего, ты отомстишь".
Новая пауза была нарушена командой: „Одеться“. Последние и самые трудные часы занятий – тактика, в поле в 6 км от города. Мы забираем все оружие, в том числе и пулемет, который разбирается на две части, по 32 кг каждая; все несут их по очереди, по полтора-два километра. Когда я раньше носил такие грузы, я приравнивал это к героизму, а ведь сейчас я несу эти два пуда без отдыха и в строю, и это не кажется ничем особенным.
Придя на место, мы принимаем боевые порядки: окапываемся, ползаем по-пластунски, кричим „ура“ стреляем холостыми патронами. Если сегодня оборона – мы возвращаемся в казармы замерзшими после продолжительного лежания в окопах; если сегодня наступление – мы возвращаемся мокрыми после подползания и стремительной атаки. Домой мы идем веселые, поем марши и песни, потому что…
В 5 часов – обед. Роту ведет лейтенант К-в. Он хороший, не заставит всех зря мерзнуть на улице. И правда, не останавливая роту, он подает команду: „Самолет“, – и все разбегаются.
Но вот веселое ожидание обеда сменяется вполне нормальным чувством между голодом и сытостью, настроение у всех падает. Даже шутливая команда лейтенанта у входа в казарму – „Справа по два, слева кучей“ – не может развеселить тех, кому предстоит чистка оружия. Хорошо, у кого винтовка, а за другими закреплен пулемет, с ним возни вдесятеро больше.
После чистки оружия 2 часа самоподготовки – это почти те же обязательные занятия. В организованном порядке взвод занимается тем, в чем он считает себя слабым. Руководить занятиями должен командир взвода. Но я гораздо лучше разбираюсь во всех военных науках, чем наш лейтенант, и он поручает эту работу мне. Два часа я беседую с курсантами о масштабах, о воинской дисциплине, о правилах маскировки, о порядке сборки и разборки пулемета.
Иногда, пользуясь отсутствием начальников, я беседую с курсантами о Суворове и Кутузове, о планетах, о звездах, об особенностях иностранных языков, о Ростане и Ибсене, о всем, что их интересует. Когда политрук спросил ребят, кого бы они хотели выбрать ему в помощники проводить систематический опрос курсантов по политподготовке, все единогласно выбрали меня. Им понравилась моя система преподавания и опроса, товарищеская и простая, без крика и дисциплинарных взысканий за сонливость. На днях курсанты выбирали товарищеский суд, они не упустили возможности самим выбрать себе хоть одно должностное лицо, и меня единогласно утвердили председателем суда.
Вчера, когда я у карты объяснял ребятам положение в Африке, командир взвода лейтенант… спросил меня: „Ты это дело (он показал на карту полушарий) хорошо знаешь? Завтра объясни мне кое-что, а то иногда курсанты спрашивают, а я и не знаю, неудобно получается“.
Стоило мне написать одну заметку в стенгазету, и мне пришлось фактически редактировать ее. Мне поручили оформление ленкомнаты к празднику, меня назначили агитатором во взводе, несмотря на то, что я не комсомолец. Так, против моего желания, мое образование делает мне карьеру. И вот я вчера был назначен командиром отделения, вместо паренька неумного, но крикливого. Это налагает на меня массу обязанностей и ответственность за 7 человек – и в то же время освобождает от мойки полов, чистки оружия и др.
„Рота, выходи строиться на ужин“. Роту ведет лейтенант Н., не только строгий, но и злоупотребляющий своей властью. Беда, если кто запоздает в строй, – будет стоять на морозе еще с четверть часа. Во дворе скользко, снег давно утоптан тысячами ног, идти трудно, а лейтенант гоняет роту строевым от казармы к столовой и обратно, „пока не пройдет как следует строевым шагом и с настоящей песней, чтобы стекла дрожали“. „Смирно!“ и „Не шевелись!“ – прибавляет он для строгости. „Шагом марш!“ Мимо строем идет другая рота, оба начальника одновременно подают команду „Смирно!“ Кто-то, поскользнувшись, падает. „И не шевелись“, – говорят упавшему курсанту. Только так могут они высказать свое недовольство лейтенантом, отнимающим у них время.
Самый драгоценный час – личное время курсантов. Правда, это свободное время часто используется для общественной работы, политинформации и прочего, но в большинстве случаев все используют его для писания писем. Я тоже забираю мои бумаги и иду в ленинскую комнату. Я достаю 2 фотокарточки – моей семьи и твою, а потом, насмотревшись на них и дав волю воспоминаниям, начинаю писать. Я пишу по отдельности и по очереди папе, маме, брату и сестре. Папе я пишу о том, о чем нет смысла писать всем остальным; маме – о всем понемногу и о воспоминаниях о прошлом; сестре – о том же, о чем сейчас тебе; брату, по его собственной просьбе, описываю все смешные истории, какие у нас приключаются. Сначала письмо не получается, я бываю недоволен своим стилем и плавным, осуществляемым внутри предложения переходом от одного события к другому, и абсолютным произволом в выборе и расстановке знаков препинания, и громоздкими обобщениями, использующими мелкие факты, и пр. А потом я перестаю обращать внимание на стиль, пишу быстро, едва поспевая за бегом мысли. Я вижу маму, с радостью достающую из почтового ящика белый треугольничек, мою семью, собравшуюся вокруг стола, сестру, вслух читающую мое письмо. Я совершенно увлекаюсь, забывая о невыученной главе из устава гарнизонной службы и о неоформленной доске соцсоревнования…
Кто не пишет писем, собираются в кружок и поют песни хором или слушают сольное пение под аккомпанемент гитары или гармонии. Поют о „девушке по имени Людмила, отдыха не знавшей сестре“; о печальной участи преступников, не могущих исправиться; о любви, разрушенной войной; о любимой девушке, вернувшей на правильный путь бандита-уголовника. Эти романсы – и старые, и новые – совсем не похожи на те песни, которые мы поем в строю, которые рекламируются кино и радио. И лишь как исключение на мотив „Сулико“ исполняется „Катюша“. Часто поют „Из-за острова на стрежень, Ямщика“…другие народные песни с медлительным и торжественным мотивом, которые напоминают мне Баха, Бетховена и церковные песнопения.
Иногда в ленинской комнате собирается целый оркестр двух рот: две гармонии, гитара, балалайка, мандолина и губная гармоника. Устраивается настоящий концерт. Конферансье – сержант, армянин, рассказывающий анекдоты, истинно армянские, совсем не похожие на те, которые зовем армянскими мы, москвичи.
Иногда все собираются слушать рассказы фронтовиков о прошлом годе войны, о зимнем наступлении, о русском героизме, о пепелище освобожденных деревень. Эти рассказы сильно поднимают наш боевой дух, вселяют в нас уверенность, что уж этой-то зимой наша Красная армия выгонит немцев и нам, молодым выпускникам-лейтенантам, достанется задача окончательно „добить взбесившегося зверя".
Иногда мы идем в клуб-читальню. Там я играю на рояле вальсы из „Ромео и Джульетты“, „Фауста“, „Под крышами Парижа“ и „Дунайские волны“ – то, что больше всего нравится ребятам. Часто меня просят сыграть „Синий платочек“, но я его не знаю. В читальне я перечитываю книги, когда-то (вернее, зимой) пришедшиеся мне по душе: Поля де Крюи, Ибсена, Метерлинка, Шиллера, О’Генри, Достоевского. Но я почти никогда не успеваю вчитаться, как уже надо идти в казарму.
В 10 часов – „отбой“. Ложась спать, все делятся впечатлениями сегодняшнего дня, вспоминают о довоенной жизни, иногда кто-нибудь скажет: „Ребята, а ведь завтра 16 октября“, – и тогда только окрик лейтенанта заставляет замолчать ребят, наперебой вспоминающих прошлое.
У меня еще зимой появилась привычка: перед сном обдумывать прошедший день, делать выводы из всех событий – это материалы для писем отцу, которому я пишу о том, как я стараюсь максимально использовать время и о возможности для своего развития. Изредка я радую себя мыслью, что день прошел недаром, что я хоть немного прибавил к своим знаниям, хоть несколько полезных, действительно нужных сведений, или хоть вспомнил что-нибудь из заветов великих людей, или научил чему-либо хорошему своих товарищей.
А сегодня, ложась спать, я буду думать о письме, которое обдумывал целую неделю и которое написал в один день. И несколько самых святых воспоминаний о моем прошлом заставят меня опять достать твою карточку и, глядя на нее, попросить у тебя прощения за это письмо и пожелать тебе всего хорошего.
Коля. 1 декабря 1942 г.».
В своем ответе Коле Лида написала, что нашла жизнь курсантов «кошмарной». Это вызвало следующее протестующее письмо Коли, проникнутое обычным для него оптимизмом, заложенным в основу его миросозерцания.
«Здравствуй, Лида.
Очень обрадовался твоему ответу, тем более что долго его ждал.
Что ты нашла особенного в моем письме? Я пишу десятки таких же домой и двоюродному брату; правда, они короче. Получая ответные письма, по которым все находят мои письма интересными и волнующими, я удивляюсь, о чем же я писал, и жалею, что не веду дневника и не имею возможности обновлять в памяти когда-то свежие впечатления и следить за развитием своих взглядов. Начиная с седьмого класса я собирался заводить дневник – каждый день рожденья, каждый Новый год, каждый новый учебный год, в день объявления войны, в день призыва и просто без всяких поводов. Теперь же из моих писем дома накапливается дневник, который я буду с увлечением читать после войны, удивляясь своему восторгу перед тем, что казалось мне необыкновенным и к чему я теперь так привык.
Я описал тебе „День курсанта“, теперь мне следует описать „День сержанта“. Это я сделаю в следующем письме, когда выберу время, постараюсь описать его повеселее, чтобы ты не нашла и его „кошмарным“. В самом деле, где ты видишь „кошмар“ в нашей жизни? В том, что наша воля заменяется командой начальников? Надо только уметь реагировать на них и рассматривать их не как прихоть командира, а как волю Судьбы. Или в бестолковом использовании рабочего времени и отсутствии свободного? Это только учит ценить время. Чем больше времени я сейчас теряю, тем больше научусь ценить его, тем лучше и быстрее я впоследствии наверстаю упущенное. То же самое я могу сказать и о своих знаниях, предаваемых забвению. Забыв всё, я постараюсь вспомнить лишь нужное. Забыв музыку и рояль (здешний рояль увезли, радио не работает), я их больше не вспомню. Зачем усердствовать в том, к чему нет способностей? Надо идти по линии наименьшего сопротивления.
Или ты видишь „кошмар“ в физических условиях жизни? В питании? Мы питаемся достаточно, а если после тяжелой работы или похода ужасно хочется есть, а ты не можешь нигде и никак достать ни крошки, пока не подойдет время обеда и ты получишь свой паек… – такая мысль только воспитывает и закаляет человека. В закалке? Скоро весна, а мы уже закалились. А переносить холод и усталость нам помогает воспоминание о миллионах людей на фронте, которым негде преклонить голову и отогреться и которые тем не менее с честью выполняют свой долг. В недосыпании? Вместо краткого ответа – небольшой рассказ.
14-го января нас проверяли по пулемету. Результат был явно нежелательный, и приговор лейтенанта – командира взвода, которого мы, 25 человек, так здорово подвели, – был таков: 3 дня подряд всему взводу до двух часов ночи заниматься пулеметом. Я боялся мысли, что мы три дня будем спать по четыре часа, а нам за провинность добавили еще один день. И вот все 4 дня прошли, мы спали по 3,5 и 4 часа и… ничего особенного, мне даже нечего сказать. Конечно, днем и вечером ужасно хотелось спать, глаза у всех были красные и воспаленные. Но вот мы два дня спали по у часов, и все это без следов и последствий перешло в область веселых воспоминаний о том, как мы ночью сидели в казарме одни вокруг пулемета, ежились от холода, клевали носами, несмотря на 3 градуса тепла, и, чтобы разогнать сон и осилить „задержки в стрельбе“, бегали вокруг казармы без шинелей, шапок и рукавиц. Да и тогда нас иногда, во время „перекура“ (не подумай, что я стал курить), вдруг охватывала безумная веселость, и я сам, проводивший занятия, рассказывал ребятам безобидные анекдоты, и среди мирного похрапывания двухсот человек раздавался взрыв хохота… Опомнившись, все зажимали себе рты, проснувшиеся засыпали, и в казарме снова водворялась тишина, среди которой монотонно звучал мой голос, объясняющий и спрашивающий, и голос отвечающего курсанта. Изредка эта тишина прерывалась моим окриком по адресу задремавшего».
Эта сцена и Колин протест против термина «кошмар» ярко характеризует то положение, что бодрость и жизнерадостность зависят не от внешних условий жизни, а от внутреннего отношения к ней человека, от наличия в нем здорового миросозерцания. Можно приходить в уныние при легкой изнеженной жизни и можно быть бодрым и жизнерадостным при крайнем изнурении в суровой и тяжелой обстановке и для души, и для тела.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?