Текст книги "1918 год"
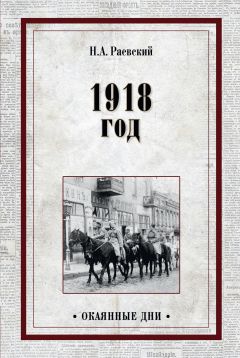
Автор книги: Николай Раевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Правда, переход от ниспровергательных идей к положительным устремлениям прошел для молодой интеллигенции не без внутренней борьбы. «Мне еще было в этом отношении легче, – пишет Николай Алексеевич, – чем многим моим товарищам, так как по рождению я принадлежал к той среде – «петровскому дворянству», как любил говорить отец, которая из поколения в поколение принимала самое непосредственное участие в государственной работе. Семейная традиция, тот духовный воздух, которым дышишь в детстве, очень и очень много значит. Много тяжелее приходилось сыновьям маленьких провинциальных чиновников, мещан, сельских батюшек». Любопытное совпадение: по наблюдениям современного историка профессора А. Г. Кавтарадзе, представители именно этих сословий стали впоследствии ядром офицерского корпуса Добровольческой армии. Историк проанализировал послужной список семидесяти одного генерала и офицера Добровольческой армии, участников Первого Кубанского «Ледяного похода», и выяснилась следующая статистическая картина: из 71 человека только каждый пятый был из потомственных дворян, 39 процентов составляли представители служилого дворянства, а остальные происходили из мещан и крестьян или были сыновьями мелких чиновников и солдат.
Таким образом, основную часть офицерского корпуса Добровольческой армии составило именно служилое «петровское» дворянство, в среде которого по сложившейся традиции менее всего почитались чины и звания, а более всего – бескорыстное и честное служение Отечеству. Представления о благородстве и чести передавались от отца к сыну из поколения в поколение. После Октябрьского переворота эта исконно российская сословная традиция оборвалась, поскольку не могла быть востребована новым режимом. Потомки служилых дворян подверглись либо уничтожению, либо были рассеяны по всему свету. Стране был нанесен, по существу, невосполнимый социально-генетический урон, так заметно повлиявший, по мнению специалистов, на качество нации.
Но самой неизбывной и неискупимой жертвой революции и Гражданской войны в России стала ее молодежь.
«Все кончено, все надежды разбиты, – вспоминает о своих ощущениях тех лет Раевский, – и мы, молодые здоровые люди, чувствовали себя живыми покойниками. Ничего не хотелось делать… Стыдно было чувствовать себя русскими».
Активное участие молодежи в Гражданской войне на стороне белых для Н. Раевского было своего рода моральным оправданием борьбы против большевизма. Другим таким фактором для него было, несомненно, то, что «наша борьба – есть ставка на героизм сознательного меньшинства». Н. Раевский с большой любовью пишет о молодых воинах, вчерашних гимназистах, для которых подобный героизм совершенно естественен во многом потому, что они были значительно менее политизированы, чем их отцы и старшие братья, и действовали исключительно по своему душевному порыву.
Впрочем, и сам автор к моменту описываемых событий был еще очень молод и романтичен, несмотря на уже значительный жизненный и боевой опыт, приобретенный на полях Великой войны.
В его записках у поколения воевавшей молодежи есть свое прошлое, о котором не стыдно вспоминать, но, вот беда, нет у этой молодости не только лучшего будущего, самое страшное – нет настоящего.
«Сейчас мы – люди без настоящего», – не без горечи повторяет автор, и в этой фразе ни грамма литературной позы, а точное определение той духовной омертвелости, к которой приводит братоубийственная война даже самые безгрешные души. Почему же в самом начале Гражданской войны офицерский корпус оказался настолько пассивен? По мнению Н. Раевского, была парализована воля к борьбе: офицеры, вчерашние герои Великой войны, предпочитали оставаться по городам, прятаться, нередко и гибнуть. «Чтобы бороться, надо верить. В тот момент веры у нас не было и бороться мы не могли», – горько констатирует он. Бунт на Руси, как и в пугачевские времена, все так же бессмыслен и кровав. Гражданская война взбурлила в обществе самые косные и разрушительные силы, превратив кроткого в своем смирении мужика Марея в погромщика и грабителя. Подтвердились истины, гениально подмеченные Пушкиным и Достоевским: бесовские стихийно-разрушительные начала в народе-богоносце оказались намного сильнее революционно-созидательных. Политиканы, порой не из самых ловких, легко манипулировали сознанием масс, делая их заложниками утопических и кровавых экспериментов.
Вот в этих-то условиях и пошатнулась вера интеллигенции в народ, его духовную цельность и непоколебимость общинно-православных устоев!
Как полагает Н. Раевский, это произошло во многом из-за того, что война уничтожила лучшие силы нации. Он пишет: «Когда кадровых солдат выбили, вместо нации в деревне оказалась налицо этнографическая масса, которой до интересов Российского государства, по существу, не было никакого дела. Защищать родину она не пожелала». Увидеть в народе этнографическую массу может лишь человек, полностью разуверившийся в тех демократических, народолюбимых представлениях, в рамках которых в приличных интеллигентных семьях традиционно в России воспитывались дети. Впрочем, будем объективны: «Можно любить народ как некую генетическую тебе этнографическую общность, но при этом оставлять за собой право на отличную от общепринятой оценку его достоинств и недостатков». Может быть, поэтому спустя уже много лет после Гражданской войны Н. Раевский так и остается верен своим убеждениям, выстраданным в годы революции.
«Я лично принадлежал (и поныне принадлежу) к тому меньшинству белых офицеров, которое, твердо веря в Россию, в то же время потеряло веру в государственный разум русских масс или, точнее, русских крестьян. По крайней мере при всем желании усмотреть разумность в действиях крестьянских масс в 1917-20 гг. мы его обнаружить не можем». Читая воспоминания, не надо забывать, что перед нами записки строевого офицера, убежденного противника большевизма. «Иначе вообще, – делает он вывод, – ни о какой борьбе говорить нечего. Деревня подчинится только силе. Успокоение наступит тогда, когда в деревне поймут, “что бороться с властью безнадежно”».
И в то же время автор всячески оправдывается перед самим собой за свой альянс с немцами, проводит в связи с этим исторические параллели, например, с настроениями русских людей XVII века, бившихся против «воров» бок о бок с пришельцами шведами под водительством Скопина-Шуйского и Делагарди. Но все это слабое оправдание. Что ни говори, но немецко-украинские экспедиции по усмирению мужиков носили откровенно карательный характер. Не случайно описание одного из таких походов автор заканчивает словами: «Все-таки на душе был разлад».
Главный же вывод, к которому пришел Н. Раевский, пройдя через горнило Гражданской войны, состоит в следующем: дело не в национальности или классовой принадлежности ее участников, а в силе зверского начала в человеческой природе вообще. Гражданская война с ее ужасами, бесконечно более страшными, чем ужасы обычной войны, совершенно не по плечу обыкновенным людям. Н. Раевский честно пишет о судьбе своего поколения, мужественно защищавшего родину на фронтах Великой войны, которую десятилетиями мы по-школярски называли империалистической, ликуя при этом, что она превратилась вскоре в гражданскую. Он педантично, со скрупулезностью ученого-естественника исследует исторические и иные обстоятельства, приведшие к «разладу» народной жизни, к самоистреблению лучших, наиболее деятельных и молодых ее сил, оказавшихся в непримиримо враждебном противостоянии. Такова логика всех революционных войн и их неизбежный национально-исторический исход: вначале кризис государственности, паралич властных структур, «смута» и страшная Гражданская война, где не может быть победителей и побежденных. Народ выходит из этой войны обессиленным и ожесточенным, в этом состоянии он готов себя отдать в руки любому диктатору, лишь бы тот мог обеспечить относительный порядок в стране, и снова становится жертвой политической борьбы и различных исторических экспериментов.
«Народ не с нами» – к этому горькому выводу пришли герои М. Булгакова, и в этом видят они основную причину обреченности Белого движения. Падение гетманщины на Украине не дает оснований так думать Н. Раевскому и его товарищам, а потому они решают «уехать в Южную армию и увезти туда своих людей». Хотя так же, как и на героев Булгакова, «генеральские свары, интриганство, бестолочь, хлеборобская темнота, непонимание грозящей всем нам опасности, – пишет Н. Раевский, – производили на меня тяжелое впечатление».
Вспоминая осень 1918 года, когда уезжали «сотоварищи» в Южную армию, он цитирует Ремарка: «Дни стояли, как золотые ангелы…» Золотой элегический отсвет этой фразы трагически оттеняет простые и мужественные слова следующей: «Хорошо, и совсем не хочется умирать, не хочется и все-таки надо…»
Пройдет совсем немного лет, и каким же далеким и наивным временем покажется Н. Раевскому восемнадцатый год. «Увы, колесо вертится только в одну сторону к России новой, России неведомого будущего, – запишет он в дневнике, – а старой, милой России никакая сила не вернет». Эта запись сделана им в 1922 году во время болгарского стояния остатков врангелевской армии. Вот когда наконец пришло прозрение, а тогда, в 1918 году, еще казалось возможным повернуть колесо истории вспять и вернуть, пусть даже ценою собственной жизни, милую довоенную жизнь.
1918 год
Предисловие
Настоящая работа посвящена главным образом моей военной службе в конце существования старой армии и затем в Украинской Народной Республике и Украинской Державе при гетмане Скоропадском. Она заканчивается отъездом в Южную Армию, откуда я впоследствии перешел в Добровольческую.
Под красное знамя революции я, как и большинство офицеров, попал не по своей воле. Мотивы, по которым я считал возможным служить у украинцев, оставаясь русским, я излагаю в тексте моей работы. Не мне судить, правильно ли я поступал. Во всяком случае, на украинскую службу я пошел вполне сознательно и добровольно. Большая часть записок посвящена именно тому, что я наблюдал и пережил на Украине в 1918 г. Мне пришлось участвовать в некоторых интересных и пока мало освещенных в печати событиях. Удалось также близко видеть и лично знать ряд людей, игравших значительную роль в делах того времени. Ближе чем большинство офицеров, живших на Украине, я имел случай наблюдать германскую оккупационную (официально союзную) армию. Думаю поэтому, что мои записки могут представить некоторый интерес для исследователя, который занялся бы впоследствии событиями, разыгравшимися на Юге России в 1918 г.
Боюсь, однако, что исследователь местами заподозрит автора в сочинительстве. Уже и сейчас, всего через 20 лет после описываемых событий, мне самому некоторые детали кажутся чьей-то затейливой фантазией. Между тем я передаю как могу точно и беспристрастно то, что видел и слышал. Не моя вина, если в то время невозможное действительно стало возможным и обычно тусклая жизнь расцветилась порой совсем фантастическими узорами.
В отношении чужих рассказов, которые я излагаю, иногда у меня нет уверенности в том, что они соответствуют истине. В таких случаях я всегда делаю соответствующую оговорку. Я считал тем не менее необходимым, поскольку позволяет память, точно воспроизвести эти рассказы. Некоторые интересные исторические детали могут быть сохранены только таким образом. Документы в большинстве случаев погибли. Когда это возможно, я указываю путь, пользуясь которым исследователь мог бы произвести соответствующую проверку.
Очень много внимания я уделяю быту воинских частей описываемого времени. Обычно в мемуарных работах его касаются мало, между тем, как мне кажется, бытовые подробности также представляют немалый интерес.
Три главы моих воспоминаний я посвятил очерку политических настроений русской учащейся молодежи в период от 1905 до 1915 г. Мне казалось, что хоть сколько-нибудь приблизиться к пониманию русской Гражданской войны невозможно без учета коренного изменения настроений русской молодой интеллигенции, постепенно происходившего в течение этого десятилетия. Эти главы являются вместе с тем введением к другим моим работам, приобретенным Русским заграничным историческим архивом.
В 1921–1922 гг., вскоре после эвакуации, я записал в сыром виде свои, еще очень свежие тогда, воспоминания об учащейся молодежи на Гражданской войне. Попутно с главной темой эта запись содержала немало других наблюдений политического и бытового характера. Я предполагал, однако, сначала обработать свою рукопись в беллетристической форме и поэтому внес в нее целый ряд мест, которые в работе исторического характера были бы неуместны. В настоящих воспоминаниях я неоднократно цитирую первоначальную запись, но исключаю из нее беллетристические отступления[90]90
В тексте эти фрагменты первоначальной записи выделены кавычками.
[Закрыть].
Все без исключения лица, упоминаемые в настоящих воспоминаниях, действительно существовали и названы своими настоящими именами.
Я считаю своей приятной обязанностью поблагодарить мою всегдашнюю помощницу Ирину Дмитриевну Вергун, переписавшую и прокорректировавшую настоящую работу.
Глава I
А сейчас… жуткий липкий позор. Каждый день по грязному, избитому бесчисленными обозами шоссе мимо домика, в котором мы живем, десятками, сотнями тянутся в тыл беспогонные, нестриженые злобные фигуры. Бросают опаршивевших, дохнущих от голода лошадей и бегут, бегут, бегут.
Государственный разум великого народа русского… Свободная воля свободных граждан… И глухая, темная злоба закипает в груди – и к тем, которые развратили и предали, и к тем, которые развратились и предали.
Как-то рано утром пришли проститься с нами, офицерами, несколько старых солдат, проделавших всю войну и теперь уезжавших домой. До конца они держались, до конца не были большевиками. На прощание расплакались. У командира[91]91
Полковник И. Зубовский. Пал смертью храбрых в бою с большевиками под Каховкой осенью 1920 г.
[Закрыть] тоже текли слезы.
А я смог только сказать:
– Видно, не судьба… Поезжайте домой, делайте, что хотите – вы свой долг исполнили… Только не поступайте в красную гвардию – иначе придется нам драться, а я больше всего этого не хочу…
Эта запись сделана еще по свежей памяти – осенью 1921 г. и относится к последним месяцам существования 3-й батареи 1-го Финляндского горного артиллерийского дивизиона, в которой я имел честь служить в Великую войну.
Большевистский переворот застал нас на Румынском фронте. Последняя позиция была недалеко от местечка Фрасин в Северной Буковине. Как и в большинстве артиллерийских частей, расформирование батареи проходило спокойно. Никаким оскорблениям мы, офицеры, не подвергались, но тем не менее моральное наше состояние было ужасное. Армия умирала. Россия разваливалась. Впоследствии пришлось пережить много печальных дней, но никогда не было так тяжело, как зимой 1917/18 гг.
После Рождества дивизион отошел в Бессарабию. Новый, 1918 г. встретили в глухой румынской деревне. Поздно вечером пришли в нетопленую хату. Вестовые долго не могли растопить печки. За десять минут до полуночи проснулись от криков хозяйки: «Роса! Роса! (огонь! огонь!)» От сильного жара разгорелась стена. Кто-то сказал: «Господа, значит, весь год будет в огне».
Стали по квартирам в деревнях недалеко от станции Рыбница. Расформирование продолжалось.
Проданы с аукциона крестьянам лошади. Хорошо хоть, что не пришлось бросать их на голодную смерть – слишком тяжело видеть умирающих от голода животных со страдальческими глазами и неверными, беспомощными движениями.
Люди по крайней мере жаловаться могут, а эти бродят стадами по обледеневшим полям, пока не свалятся где-нибудь у дороги. Лежит такой живой труп, из последних сил поднимает голову при стуке едущей мимо повозки. Косит на людей завалившиеся глаза. Лежит, пока они не остекленеют и не осклабятся желтые длинные зубы.
Кто видел прифронтовые лошадиные кладбища, у того они, наверное, никогда не изгладятся из памяти.
Когда Бессарабию начали занимать румыны, дивизион перешел в Подольскую губернию. Мы уже, собственно, перестали быть артиллерийской частью. Солдаты решили, что с пушками больше не стоит возиться. Все равно расформировываемся. Пришлось сдать под расписку сельскому совету. Кому-то нужно было сдать.
Восемь горных скорострелок, прослуживших всю войну, остались на деревенском дворе. Было мучительно проезжать мимо. Кажется, даже некоторым из солдат было не по себе.
В Подолии продолжали возраст за возрастом отпускать людей. Многие, не дождавшись очереди, уходили сами. Батарея продавала последних лошадей (деньги были потом внесены в Государственный банк). Дольше всего оставались офицерские. Отпустили уборщиков, ухаживали сами. Жалко было расставаться. Кто был на войне, знает, как люди привыкают к животным. Я проездил на моем Зефире двадцать один месяц. Побывали за это время на трех фронтах – от Стохода до Марешешти. Всюду, во всех боях, всегда гнедой Зефир. Очень любил сахар и ходил за мной, как собака, тыкаясь мордой в карман френча.
Продавать крестьянам не хотелось. Я и мой товарищ штабс-капитан барон Е. В. Шиллинг решили отдать коней офицерам польского полка, стоявшего поблизости. Приехал пожилой капитан с ординарцем. Последний раз накормили Зефира и рыжую Игрушку сахаром. Вежливый, хорошо одетый солдат с белым орлом на фуражке взял лошадей. С места тронул рысью. Мы с товарищем не расплакались только потому, что было стыдно друг друга.
Когда остались одни писаря и вестовые (они по собственному желанию уехали последними), мы для окончания канцелярской отчетности и журнала военных действий отправились в город Ольвиополь. Выбрали его по собственной инициативе, так как приказаний уже получать было неоткуда. Рассчитывали, что в маленьком городке будет спокойнее и безопаснее, чем в деревне, и не ошиблись. Советская власть была в Ольвиополе совсем мирным совдепом, состоявшим, насколько можно было судить, из местных людей. Для меня лично это было первое и последнее советское учреждение, с которым пришлось иметь дело. Совет помещался в зале городской управы. В канцелярии стояла пирамида с винтовками и один явно испорченный пулемет, но никаких вооруженных сил, к счастью, не было. К нам отнеслись внимательно. Отвели помещение в отличном здании мужской гимназии. Уговаривали даже после окончания работы остаться в Ольвиополе и организовать городскую милицию. Мы заявили, что вернемся по домам, и совет оставил нас в покое.
Штат горных батарей очень большой. У нас было восемь офицеров – четверо кадровых, остальные военного времени, все прошедшие артиллерийские училища. Кроме того, артиллерийский техник (военный чиновник) и два врача – медицинский и ветеринарный. Никому из нас не было сорока лет (командиру и 1-му старшему офицеру 36–37, двум другим кадровым 25–26, мне 23, остальным 20–22). Стоит еще отметить, что все мы, четверо офицеров военного времени, до войны были студентами или учениками средних школ. Поступили в училища добровольно. Как и в большинстве батарей, жили дружной семьей. Ни до, ни после революции никакой розни между кадровыми и некадровиками не было.
На наших настроениях в период начала Гражданской войны стоит остановиться подробнее. Как я потом не раз имел случай убедиться из разговоров, они далеко не были исключением. То же самое переживали очень и очень многие русские офицеры, имевшие несчастье видеть смерть армии.
Все кончено, все надежды разбиты. Темная ночь впереди. И мы, молодые здоровые люди, чувствовали себя живыми покойниками. Ничего не хотелось делать. Руки опустились. Физически мы не пострадали от большевизма, не было личных счетов с солдатами, но никогда не было такого глухого, беспросветного отчаяния, как в то время. Бесцельно бродили по глухим городским улицам, часами слонялись по длинным светлым коридорам… И та тёмная, давящая злоба, которая появилась в дни развала фронта, росла и крепла. Один вид серых шинелей вызывал слепую болезненную ненависть. Стыдно было чувствовать себя русским. Стыдно было сознавать, что в твоих жилах течет та же кровь и ты говоришь на том же языке, что и те, которые братались с врагом, бросили фронт и разбежались по домам, грабя и разрушая все на своем пути.
Тогда еще нельзя было утешать себя мыслью о том, что и враги заболели той же позорной болезнью.
И пусть поймут те, которые остались в стороне от борьбы, отчего первые добровольцы поголовно истребляли попадавшихся к ним в руки солдат – товарищей. Не за себя мстили они и даже не за своих близких. Мстили страшной местью за поруганную мечту о Великой и Свободной Родине…
Часто по вечерам, когда полная луна бросала яркие решетчатые пятна на паркет коридора, мы усаживались на широкие мраморные подоконники и говорили вполголоса… Говорили без конца. Проклинали всех и все.
Почему мы не уехали за Дон? Об отряде полковника Дроздовского мы не слышали ничего, несмотря на то, что были на Румынском фронте. Но газеты, хоть неясно, туманно, но все-таки упоминали о «корниловских бандах». Почему же мы не поехали туда? Иногда кто-нибудь из нашей маленькой группы подымал об этом разговор и все, не сговариваясь, махали на него руками.
– Довольно!.. К черту… Опять с этой сволочью возиться…
– Противно…
– Все равно ничего не выйдет!
Да, было противно. Было страшное, непобедимое отвращение к русской массе. Не хотелось «путаться».
Будущий исследователь, пожалуй, усомнится в том, что офицерам развалившейся армии могло быть стыдно чувствовать себя русскими. Я, однако, готов утверждать, что это чувство шевелилось в душе у многих. Некоторые говорили вслух – отлично это помню:
– Повезло же родиться русским… ведь, возьмите, – французы, немцы, китайцы – ведь люди как люди, одни мы какая-то дрянь…
Завидовали уехавшим в заграничные командировки. В очень откровенные и горькие минуты, случалось, завидовали и мертвым.
При всем этом, может быть, за очень редкими исключениями, мы (я имею в виду не только моих товарищей по батарее и дивизиону, но и всех вообще офицеров, с которыми приходилось встречаться в период развала), тосковали по умирающей России, а не по умершей, как казалось, навсегда, монархии. В офицерской среде того времени было чрезвычайно сильно убеждение в моральной ответственности императорского правительства за события, последовавшие за его падением. Часто приходилось слышать: Вот до чего довели…» Впоследствии взгляды на вещи очень изменились, и сейчас (1932 г.), как мне кажется, большинство бывших военных, вспоминая прошлое, либо неискренни, либо основательно забыли свои подлинные слова и мысли 1917–1918 гг. Генерал Деникин глубоко прав, утверждая, что офицеры в массе февральскую революцию приняли и о восстановлении монархии не думали. Сначала искренне уверовали в национальный характер переворота. Тогда слово «народ» еще имело и для правых и для левых некую магическую силу, и мы все враз решили, что «народ» сверг бесталанное правительство и заставил отречься неудачного царя, чтобы «взять власть в свои руки» и «довести войну до победного конца». Могут возразить, что таково было настроение офицеров из студентов и гимназистов (генерал Краснов, как известно, видит в них один из корней зла), а не кадровых военных. Готов утверждать противное. Количество кадровых офицеров, не принявших нового строя и не считавших возможным при нем служить, было ничтожно. Перевороту сочувствовали и – надо называть вещи своими именами – ему обрадовались.
Как сейчас помню тот мартовский день, когда на батарее было получено известие о революции. Стояли высоко в горах (высота 1526, недалеко от Дорна-Ватры). Внизу, в долине речки Пыреу-урсулуй («Медвежий поток»), был построен для офицеров и денщиков маленький дом. На позиции, в землянке, постоянно жили первый старший офицер (капитан А. А. Ауэ) и двое младших (поручик А. В. Черняк и я). От нечего делать (в заваленных снегом лесистых Карпатах боевые действия были почти невозможными) часто сидели у полевого телефона, слушая разговоры-на участке. Даже маленькие фронтальные новости помогали убивать время.
На этот раз капитан Ауэ, едва взяв трубку, махнул на нас рукой:
– Молодые, тише! Передается очень интересная телефонограмма…
Мы замолчали и ждали. У капитана было сияющее лицо. Через несколько минут он сказал нам, в чем дело. Старая власть пала. Образовано Временное правительство. Ночью телефон опять запищал. Передавали манифест об отречении государя. Я сказал:
– Все-таки жаль…
Старший офицер не соглашался.
– Николай II хорошо сделал, что отрекся. России будет лучше.
Слов не помню, но смысл этот. Капитан Ауэ был немолодой (лет сорок) кадровый офицер очень консервативных взглядов, иногда грешивший к тому же мордобойством, которое, вообще говоря, в артиллерии к началу Великой войны было выведено».
Через несколько дней я спустился в долину «Медвежьего потока». Наш дорогой командир И. И. Зубовский поздравил меня с новым строем и сказал:
– Как я вам завидую…
– Почему?
– Дожили до русской свободы в двадцать два года, а мне скоро сорок…
Он пал смертью храбрых в бою под Каховкой осенью 1920 г. На Гражданской войне командовал одной из батарей 34-й артиллерийской бригады.
Тогда же, в один из первых дней революции, телефонист на наблюдательном пункте протянул мне трубку.
– Господин поручик, хотите послушать?
– Что там?
– Начальник дивизии разговаривает с командиром полка об устройстве государства. Уже три часа разговаривает…
Это напоминало мне текст из Цицерона. «Придя к нему в гости, в продолжение трех дней рассуждал о государстве».
С командиром я много раз говорил по душе. Оказалось, Иннокентий Иннокентьевич еще с кадетских лет мечтал о Российской республике. Став офицером, взглядов своих не изменил, но, связанный долгом присяги, не считал себя вправе участвовать в каких-либо антиправительственных организациях. К красным флагам он, как и мы все, относился с отвращением. Хотел революции под трехцветным знаменем (тоже очень распространенная среди офицеров в 1917 г. и в начале 1918 г. идея). Мне было тяжело видеть, как страдал этот навсегда мне дорогой человек в месяцы распада. Постепенно терял, как и мы, младшие, веру в русского солдата, в русского мужика, наконец, в самую Россию. Было от чего.
Я подробно останавливаюсь на состоянии духа средних офицеров, какими мы все были в конце Великой и в начале Гражданской войны, так как, с одной стороны, оно, как мне кажется, сыграло первостепенную роль, по крайней мере, в первый год борьбы, а с другой – в богатой уже мемуарной литературе, касающейся 1917–1918 гг., на этот счет есть только очень скудные указания. Между тем будущие исследователи несомненно зададутся вопросом – почему в начале Гражданской войны офицеры в общем были так пассивны?
Хорошо известно, что с генералом Корниловым в 1-й Кубанский поход вышло из Ростова лишь незначительное меньшинство оказавшихся там офицеров, несмотря на то, что приход большевиков грозил им гибелью. Точно так же отряд полковника Дроздовского, составившийся главным образом из офицеров Румынского фронта и проделавший поход Яссы – Дон, но по условиям своего формирования несомненно мог быть гораздо более многочисленным. Кроме того, во время пути через Украину отряд хотя и увеличился, но это увеличение происходило за счет учащихся высших и средних школ. Офицеры предпочитали оставаться по городам, прятаться, нередко и гибнуть у себя по домам. Воли к борьбе у большинства не было.
Я уже изложил, как и почему ее потеряла та маленькая ячейка, к которой я принадлежал. Чтобы бороться, надо верить. В тот момент веры у нас не было, и бороться мы не могли. То же самое, насколько я мог видеть, было и в других частях. Тем больше, конечно, чести тем немногим, которые сразу нашли в себе силы справиться с апатией и взяться за оружие. Постепенно она прошла и у нас, офицеров третьей батареи 1-го Финляндского горного артиллерийского дивизиона. У одних раньше, у других позже. Во всяком случае, из шести оставшихся после расформирования на юге двое погибли в боях с красными (капитан, впоследствии полковник Зубовский и шт. капитан Михальчук – последний под Ставрополем осенью 1918 г.), один умер от сыпняка, трое (полковник Ауэ, подполковник барон Шиллинг и я) встретились в Галлиполи. Все поступили в армию до издания приказа о мобилизации офицеров. Судьба вернувшихся на север неизвестна.
Любопытно отметить, что в 1919 г. вера в «народ» (в народническом смысле слова) воскресла у большинства офицеров Добровольческой армии с чрезвычайной силой. Ее, судя по всему, разделял и генерал Деникин – иначе организация воинских частей получила бы другой характер, да, вероятно, и стратегические задачи иначе бы ставились.
Я лично принадлежал (и поныне принадлежу) к тому меньшинству белых офицеров, которые, твердо веря в Россию, в то же время потеряли веру в государственный разум русских масс или, точнее, русских крестьян. По крайней мере, при всем желании усмотреть разумность в действиях крестьянских масс в 1917–1920 гг. мы ее обнаружить не можем. Исторические процессы, понятно, не останавливаются. Мужики 1932 г. не те, что были в первые годы революции, через десять – пятнадцать лет разница будет еще больше, но это не изменяет моего основного впечатления от событий 1917–1918 гг. Когда кадровых солдат выбили, вместо нации в деревне оказалась налицо этнографическая масса, которой до интересов Российского государства, по существу, не было никакого дела. Защищать родину она не пожелала.
Я не могу забыть, как в день заключения перемирия фейерверкер нашей батареи, как оказалось после революции, давнишний член партии с. р., говорил мне со слезами на глазах:
– Господин поручик, разве же это народ? – Приходится повторить еще раз – было от чего прийти в отчаянье…
Итак, настроение «средних» офицеров в период начала Гражданской войны можно, как мне кажется, охарактеризовать следующим образом:
1) сильнейшее разочарование;
2) ненависть к солдатам-большевикам, бросившим фронт и погубившим Россию;
3) душевная усталость и апатия;
4) у некоторых – потеря веры в Россию;
5) как следствие – непринятие участия в вооруженной борьбе даже когда к этому предоставлялась возможность;
6) отсутствие у огромного большинства монархических устремлений.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































