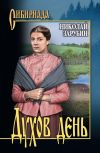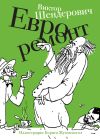Текст книги "Рассказы о прежней жизни (сборник)"

Автор книги: Николай Самохин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Послесловие
Несчастны, несчастны сочинители, которым обязательно нужен слушатель. Едва допечатав страничку, такой литератор вынимает ее из машинки и несет на кухню – жене.
– Вот послушай-ка, что получилось, – говорит он.
Жена обреченно вытирает руки о фартук и присаживается на краешек стула.
– Ну, – вздрагивает она через минуту, прослушав ничего не говорящий ей отрывок, – а что дальше?
– Дальше, дальше! – обижается сочинитель. – Разве в этом дело… Ты стиль оцени. Язык почувствуй.
В праздничной компании, дождавшись, когда гости сомлеют от пельменей и водки и утратят способность сопротивляться, сочинитель, прижимая руки к груди, просит:
– Позвольте, друзья, прочесть вам рассказ. Горяченький. С колес. Только что дописал. Буквально сегодня.
Он знает, что делать этого нельзя, что слова, не одетые в броню типографского шрифта, беспомощны, как только что вылупившиеся и не успевшие обсохнуть цыплята, но – не может остановиться.
Увы, покорный ваш слуга относится именно к такому типу сочинителей.
Не дав этим заметкам отлежаться, не выправив как следует орфографические ошибки, я поспешил размножить рукопись и понес ее друзьям-приятелям – на суд их и приговор.
Друзья, давно смирившиеся с неотвратимостью подобных моментов, изобразили на лицах интерес, а иные старательные даже нетерпение: дескать, ну-ка, ну-ка, – что ты там снова отчебучил?
Подождав неделю, я, как охотник, заблаговременно расставивший снасти, отправился собирать добычу. «Что там в моих силках и ловушках? – волновался я. – Какие соболя-горностаи?» Конечно, отдавая рукопись, я всякий раз бормотал обязательное, что жду, мол, только правду, одну правду и ничего, кроме правды. Но кто же не знает, что это всего лишь заклинание, вроде «ни пуха ни пера» или «ни рыбы ни чешуи». На самом-то деле, боясь сознаться даже самим себе, мы всегда ждем единственного зверя. У этого зверя васильковые глаза, нежная искрящаяся шерсть и мягкие лапы, лишенные когтей. Имя ему – Восторженное Впечатление.
На этот раз, однако, в ловушках моих оказались какие-то мелкошерстные, коротконогие ублюдки.
Первый друг признался, что впечатление у него возникло сложное: пока читал – было легко, а как дочитал – то стало вроде бы не очень-то весело.
Второй мой друг – человек жизнерадостный и полнокровный, искренне даванув мне руку, сообщил:
– Местами ржал! Местами, старик, прямо укатывался… Но местами… понимаешь? – Он ткнул пальцем куда-то под широкий лацкан модного блайзера, и выражение лица у него сделалось беспомощно-просительным. – Полегче бы, старик, а? Не нажимал бы ты так.
– Да где же я нажимаю-то? Конкретно?
Друг поднял глаза вверх, повспоминал и ответил, что конкретно так вот сразу указать не может. Но впечатление осталось.
Третий друг (друг-редактор) мне посочувствовал.
– Я тебя понимаю, – сказал он. – Я-то тебя понимаю. – (Редактор родился в сорок третьем году и краешком прихватил лихолетье.) – Но мой тебе совет: просветли маленько.
Тут редактор увлек меня разговором о том, что детство все-таки было детством, таким, какое досталось, единственным и неповторимым, и мы с ним действительно припомнили много неповторимых моментов.
Редактор сказал, что никогда уж больше не носился, замирая от восторга, босиком по не оттаявшей еще земле.
Я заметил, что никогда больше мне не приходилось ночевать в избе вместе с коровой (это чудо – как старательно втягивала она бока, чтобы протиснуться в узкую дверь, как вздыхала потом в темноте и уютно хрумкала жвачкой).
Редактор, мечтательно закатывая глаза, вспомнил суп из молодой крапивы и пожалел, что теперь его дома не варят.
Я подкинул ему на второе драники из тертой картошки и тошнотики из мороженой.
Редактор, посмеиваясь, рассказал, с каким удовольствием грызли они, бывало, соевый жмых. Я похвастался подсолнечным, о котором он, оказывается, понятия не имел и который несравненно вкуснее соевого.
Мы вместе поиронизировали над авторами многочисленных повестей о детстве деревенском и пригородном, детдомовском и блокадном, оросившими сиротскими слезами и этот самый жмых, и драники с тошнотиками. Можно, разумеется, проклясть жмых, допустили мы, особенно если учесть, что именно от разносолов тех полуголодных дней тянется цепочка к твоей больной печени. Но ведь печень болит теперь. А жмых был тогда.
А тогда – мы точно помнили – нас огорчало не столько то, что в доме голодно и ботинки дырявы, сколько то, что меня, например, моя мать, осердившись, называла «чертом вислоухим» и грозилась навсегда отдать рябой соседке тете Нюре, а редактору не шили длинные штаны на пуговице, а заставляли донашивать короткие – на лямке.
– Вот тебе и вся глубина наших огорчений! – подвел итог редактор. – Зато светлого и радостного там осталось очень много. Или – нет?
– Много, – согласился я.
– Так в чем дело? – Редактор пристукнул ладонью по рукописи.
– Наверное, в том… – ответил я, – что там еще остался и Ванька.
– Какой Ванька? – не понял редактор.
Этого я ему объяснить не смог.
…Это случилось со мной, когда я заканчивал десятый класс.
Однажды, воскресным днем, я шел на стадион, где должны были состояться соревнования по легкой атлетике. На мне был спортивный костюм, с белыми полосочками у шеи и на рукавах, под мышкой я держал шиповки. Словом, по окраинным кварталам Старокузнецка пружинисто шагал подтянутый спортсмен с косо подрезанной челочкой, школьный активист и почти отличник – достаточно, в общем, примерный юноша, чьи положительные качества утраивались к тому же в глазах окружающих – поскольку вырос юноша в простой малограмотной семье, на трущобной улице.
Я чувствовал свою неуместность здесь – среди развалюх и бараков – и невольно прибавлял ходу, зная, что скоро, на недавно построенном стадионе, в окружении своих мускулистых товарищей, в окружении праздничных флагов и пестрых трибун, сделаюсь своим и привычным.
Именно в этот момент из-за угла барака вымахнул в безлюдный переулок парень в майке-безрукавке, кирзовых сапогах и кепке, повернутой козырьком назад. Парень рвал так отчаянно, словно каждое мгновение готов был упасть грудью на ленточку. Земля гудела под его кирзачами. Белые глаза вылезали из орбит.
Две… три секунды длилось это видение. Слепым, бешеным взглядом парень толкнул меня к забору и промчался мимо, обдав жаром раскаленного тела.
«Нет водки на Луне», – успел прочесть я на его литом плече – и запоздало узнал в парне Ваньку Ямщикова, моего одногодка и бывшего соседа по Аульской.
Пока я переваривал эту новую для меня информацию (насчет отсутствия на Луне водки), пока соображал: куда бы мог так спешить Ванька? – из-за того же угла выбежали двое малорослых милиционеров. Милиционеры шли ровно, ноздря в ноздрю, хорошо, поставленно, махали руками и негромко переговаривались на бегу.
На их лицах не было азарта, была лишь привычная озабоченность людей, выполняющих свою каждодневную работу.
Не могу понять почему, но меня вдруг укололо чувство вины. Мне представилось на минуту, будто все это – стадион, что шумит там, наверху, за крайними домиками, его разлинованные мелом дорожки, музыка, флаги, возбужденные лица моих соклассниц, которые придут сегодня болеть за меня, – досталось мне не по праву, случайно.
Я прислонился к редкому заборчику из горбылей, за которым набирала цвет чья-то картошка, и долго стоял так, пока нелепое это чувство не отпустило меня.
…Где-то милиционеры гнали Ваньку, не сумевшего прорваться сквозь наше детство.
Сходить на войну
Он умер через восемнадцать лет после окончания войны.
Не от старых ран умер, хотя ранен был. И не от старости вообще: ему шел только шестьдесят третий год, выглядел он еще вполне крепким и, для своих лет, моложавым.
Его убил рак. От какой сырости завелся он в мужике, не болевшем за всю жизнь ничем, кроме насморка?.. Но вцепился клешнями своими намертво (операция не помогла) и держал полгода в постели, медленно, по капле, выедая жизнь из организма.
Отчего-то людям добрым, простым, невеликим, по бесхитростности своей не успевшим и нагрешить как следует, часто достается мучительная смерть. Ломает судьба человека, ломает, гнет его, мордует по-всякому, а он живет себе, крутится, да еще и порадоваться умеет: тому, что вёдро на дворе или дождичек ко времени, что картошка уродилась, не в пример прошлогодней, крупная, что ребятишки нынче почти не болели и что к празднику отвалили пятнадцать рублей премии. И ни паразитом не становится, ни в глотку никому не вцепляется, не гребет под себя всеми четырьмя лапами. И тогда, в последнем слепом озлоблении, что ли, судьба посылает ему тяжелую, неизлечимую болезнь. Вот, мол, гляди: ведь помираешь лежишь. Откукарекался, шабаш. А чего видел в жизни? В каких красных углах какие жирные пироги ел? Словно хочет доломать его под конец, обидеть на весь белый свет. Да только ничего у нее не получается. Замечено: уходят мужики достойно (хотя и слова этого сроду не знали), не цепляясь за жизнь, но и не торопясь из нее, до последнего хрипа вытерпев боль.
Человек, о котором наша повесть, именно таким и был: простым, незлобивым, принявшим жизнь – со всеми ее нехватками, с тюрьмой и сумой, с черной работой, с редкими праздниками и тяжелыми похмельями – не как проклятье, а как свою мужицкую норму.
Что о нем рассказать?
Построил он за свой век три дома. Не хоромы, не пятистенки, рубленные в «лапу», Торопливое было время – не до хором. Приезжая на новое место, он, как и все вокруг, торопливо лепил засыпуху, лишь бы не зимовать с ребятишками в палатке. От засыпух не осталось теперь и следа, зато дымят в тех местах три завода-гиганта, в которых, выражаясь по-книжному, есть и его труд тоже.
Один раз в жизни он дрался. Бил человека.
Это случилось сразу после фронта, когда он левую руку носил еще на перевязи и начальник конного двора временно поставил его на легкую работу – послал объездчиком на сенокос. Драка, хотя она и кончилась в его пользу, была какая-то не почетная, из-за бабы. То есть, конечно, если разобраться, то не из-за бабы вовсе. Но разбираться никто не стал. Фактически получилось – из-за бабы.
Сено заготовляли в тридцати километрах от города, возле деревни Безухово. Жили коновозчики, откомандированные на покос, все вместе, в длинном балагане. А в конце балагана был отгорожен закуток с топчаном – для поварихи. Вот в этот закуток он вскоре и переселился. Как-то все нечаянно вроде получилось, само собой. Рука еще побаливала, мозжила, повязку надо было время от времени менять. Ну, повариха раз помогла ему перевязаться. «Ты полежи, – сказала, – здесь, отдохни, пока я со стола приберу. А то мужики, гляди, размахались руками – еще заденет кто в колготе». Он и прилег на топчан. А ночью проснулся – повариха под боком…
Ну и… мужик ведь тоже не железный. Тем более, всего неделю дома побыл – и опять его за тридцать километров. Ближе легкой работы не нашлось.
Потом-то выяснилось, что повариха, хоть и молодая еще деваха была, но уже очень гостеприимная, и Алешка Сковородин, здоровенный дядя, чуть не в полтора центнера весом, отставленный ею ради фронтовика, заревновал, начал заедаться по любому поводу. Однажды вечером он заявился в балаган выпивши, сел в торце длинного стола, воткнул перед собой нож и крикнул:
– Начальничек! Выходи! Драться с тобой буду!
«Начальничек» лежал в закутке босой, смотрел на Алешку поверх своих ног. Прямо на кореженный желтый ноготь большого пальца насажена была красномордая Алешкина голова. «Ишь, отъел ряшку в тылу, боров», – думал он без азарта. Вставать не хотелось. Не хотелось связываться с дураком.
Алешка осмелел.
– Что, в штанах мокро?! – захохотал он. – Мужики! Он же не воевал! Он у бабки в подвале просидел. Точно говорю. А потом сам себя стрелил – и домой.
Вот это и сдернуло фронтовика с топчана, обидное это обвинение.
Он подскочил к железной печке, стал хватать здоровой рукой поленья. Поленья были широкие, из расколотых надвое толстых чурок, – не ухватывались, выскальзывали.
Алешка глумливо ржал. Потом пихнул его в бок ногой, повалив на эти поленья.
Тогда он поднялся и кулаком ударил в смеющуюся рожу. Даже и не мечтал, что свалит Алешку. А тот вдруг как-то покорно осел, будто стукнули его не кулаком, а мешочком со свинцовой дробью. Вскочил было на ноги, но от второго удара снова упал на четвереньки. Так, на четвереньках, он и выполз из балагана.
Рассказывали, что ошеломленный Сковородин, отмахав за ночь тридцать километров, к утру заявился на конный двор с жалобой на объездчика. Но не был узнан: вместо лица у Алешки оказался сплошной синий блин.
«Начальничек» потом рассматривал свой кулак, помахивал им, недоуменно хмыкал. Большая убойная сила, выходит, таилась в руке.
Открытие это, однако, не сделало его в жизни отчаяннее.
Один раз он праздновал труса. Очень позорно, унизительно. Кстати, уже после случая с Алешкой Сковородиным.
Началось так: сперва прилетел от соседей сизый голубь и опустился на крышу засыпухи. Следом за голубем прибежал хозяин его. Жил неподалеку, в квартирантах у деда Остроумова, один такой подозрительный хлюст-голубятник: неприятный парень, видом и замашками похожий на урку. Все про него так и считали – урка. Хозяин прибежал, стал поднимать с земли половинки кирпичей и швырять ими в голубя.
Засыпуха была крыта толью. Половинки беззвучно пробивали толь, оставляя рваные раны.
Он вышел из дому, сказал укоризненно:
– Что ж ты делаешь, а? Ведь ты – погляди – крышу мне совсем издырявил.
Парень усмехнулся, запустил руку во внутренний карман пиджака и вынул что-то продолговатое, завернутое в толстую мешочную бумагу. Все так же молча скалясь, развернул. В руке его тускло блеснула финка желтого металла.
Он бежал от урки на подгибающихся, непослушных ногах, некрасиво приседая, будто у него вдруг отяжелел зад. Бежал, бледный, как молоко, – мимо собственного порога, мимо кобеля, надсаживающегося от хрипа (стоило только нагнуться, карабин отстегнуть), мимо стайки, где хранились вилы и лопаты, – хотя урка даже и не гнался за ним, а только, пугая, топотил на месте.
Потом он, храбрясь, говорил:
– Да кабы мне в тот момент вилы подвернулись!.. Я бы ему враз четыре дырки провертел. Провертел бы – и думать нечего!
Но это он уже так, перед собой оправдывался. Ничего бы он на самом деле не провертел, потому что блатняков всю жизнь боялся панически.
Один раз (давно, еще в тридцатые годы) довелось ему участвовать в огнестрельной переделке. Было это в Киргизии, где они с женой недолго работали в табаксовхозе. Весной, во время пахоты, наскочили на совхозный поселок басмачи. Зарубили учетчика, исхлестали плетьми старух и ребятишек, подожгли два барака.
Мужики, которые были на пашне, увидели дым, сообразили, в чем дело, выпрягли лошадей из плугов и, похватав оружие (три винтовки и два дробовика), ударились коротким путем наперерез.
Далеко справа разматывалась по равнине пыльная лента: басмачи уходили в горы. Дорога у них была одна – через ущелье. Туда же, нахлестывая пузатых своих коняг, спешили совхозники.
Они успели чуть раньше, попадали за камни и дружно ударили в накатывающийся оголовок «ленты» из всех стволов. «Лента» споткнулась, распухла рваным облаком, в желтой тьме его забились, пронзительно заржали раненые кони, хрипло закричали всадники.
А совхозники палили и палили по этому пыльному клубку, не давая басмачам опомниться…
Один раз он украл. В сорок втором году, зимой. Украл несколько килограммов овса на конном дворе. Заскочил как-то в склад, побродил в сапогах по вороху, сыпанул еще за пазуху да набил карманы дождевика. Домой пришел нараскоряку (овес из-за пазухи просыпался в штаны, колол там и щекотал), но довольный своей придумкой, как мальчишка.
– Ну-ка, мать, тяни сапог! – возбужденно сказал жене.
– Ты что это, белены объелся? – удивилась жена, не знавшая за ним, даже за пьяным, привычки куражиться.
– Тяни, тяни. Что-то ногу у меня свело, – наивно схитрил он, предвкушая, как обрадует ее сейчас.
Жена потянула сапог, но, увидев хлынувший овес, испуганно ойкнула, набросила ему на ноги фуфайку и кинулась выталкивать за дверь ребятишек.
– Черт!.. Дурак! – всхлипывала она, занавешивая одеялом окно. – Ведь посодют тебя, окаянного! Осиротишь детей!
Потом он сидел на табурете в одних исподниках, жена, не переставая всхлипывать, перетряхивала его одежонку, голиком выковыривала из щелей между половицами отдельные овсинки, а за дверью скулил меньший пацан: «Ма-а-амк… пусти, я озяб…» И так было нехорошо, стыдно и страшно, таким он казался себе врагом народа, что тут же дал зарок: если пронесет бог с этим овсом, не дознаются – никогда больше пылинки чужой не брать…
Шесть дней он был на фронте, в боях. Не погиб в первые минуты, как одни, и не дошел целехоньким до Берлина, как другие, а оказался тем самым среднестатистическим солдатом-пехотинцем, каких и в природе, наверное, почти не было, а существовали они на бумаге, вычисленные арифметически.
Он не рвался на войну, не просился добровольцем. Но и не бегал от нее, не тряс штанами, болячки себе не придумывал. И когда в первые дни пришла ему повестка – собрал котомку и пошел на призывной пункт. Однако к вечеру вернулся назад. Оказалось, что немудреная специальность его попадает под бронь. Строящемуся алюминиевому заводу никак невозможно было обойтись без транспорта, а главным тяглом выступали лошадки и главным транспортным цехом считался конный двор.
Взяли его поэтому только осенью сорок третьего года, когда замелькали в городе американские «форды» и «доджи», и безусые мальчишки-допризывники обучились на шоферов.
Война уже докатилась до середины, уже наплодила она калек, и всем было ясно, что скоро беда эта не кончится. Но, с другой стороны, не было уже той горячки, чтобы выхватывать мужиков, как картошку из огня. Ему, например, разрешили даже суточную отсрочку – доделать крышу (он как раз перекрывал на зиму свою землянку). Уже впотьмах закончил он эту работу, а утром, чуть свет, собрался на другую. По такому случаю надел он свой единственный суконный пиджак, новую косоворотку и смазал солидолом сапоги. За стол, рано побудив ребятишек, сели всей семьей. Он выпил подряд две большие рюмки водки, похлебал борща и, перецеловав детей, пошел воевать…
С войны он принес стандартный трофей: немецкую безопасную бритву с десятком лезвий к ней, ранение – в кисть левой руки и медаль «За боевые заслуги».
Про эти шесть дней его войны давно уж следовало бы мне написать особо. Не раз и мысль такая приходила: надо, надо написать. Точнее, не мысль приходила, а тянуло что-то за душу, сосало, беспокоило. Так тянет, наверное, недоделанная работа, письмо, лежащее без ответа, невыполненное обещание (ищу и не нахожу точного сравнения). А может, это «что-то» было тем самым, что называют теперь высокими и щемящими словами «память сердца»?.. Да, на памяти сердца, как видно, лежал груз, давил и тревожил.
Но я все останавливал себя. Сначала – когда был моложе, отважнее и сам, никогда не нюхавший пороха, мог взяться написать хоть о Крымской кампании, – останавливал тем доводом, что в судьбе моего солдата нет ничего выдающегося, способного потрясти читателя. Уж больно земной он, обыкновенный, не конкурент он тем героям, про которых я, еще в школе, разучивал песни, читал книги и смотрел фильмы.
Потом – когда жизнь и годы научили пристальности и пришло понимание войны как вынужденного тяжелого труда, – я стал убеждать себя, что не имею права писать о боях, ранах, окопах: ведь сам я в тех окопах не сидел. Ну, да – я знал солдат. Помнил, как уходили они на фронт и как возвращались – увечные и калечные. Помнил их бесхитростные рассказы, их глаза, их плохо выскобленные подбородки, старенькие, белесые гимнастерки с одной медалькой, а то и без нее – именно таких вот, чернорабочих войны, поставляла на фронт улица моего детства. Я знал их, конечно, но… там с ними я не был.
А время шло. И в мире не становилось спокойнее. И росла цена не только тому большому, что совершил народ, но и тому малому, что сделал каждый.
И тяжелел груз на душе.
Теперь, мне кажется, я понимаю, о чем должен написать. Не о войне – о человеке на войне – о моем солдате, которого я все равно знаю лучше романистов и кинематографистов и о котором никто другой не расскажет.
Как бы надо рассказать о каждом!
Первый день
В этот же день его могло убить.
Впрочем, убить его могло гораздо раньше, когда еще стояли они на формировании. Могло убить… могли убить.
Сначала это была шальная пуля.
Как-то раз, под вечер, старшина отрядил трех человек за дровами для кухни: двух пареньков, только что прибывших из полковой школы, и его.
– Отец, – сказал старшина, – ты с конем обращаться умеешь? Будешь за старшего.
А он и был самым старшим во взводе – по возрасту: с четвертого года рождения. Ребята по восемнадцать – двадцать лет, годившиеся ему в сыновья, сразу стали звать его «батя», «отец», он охотно откликался, и скоро к нему это звание прочно приклеилось. Еще называли его «руцкай», но реже: когда понасмехаться хотели или строжились и домашнее «отец» уже не годилось. Это потому, что он про себя так любил повторять: «Я мужик простой, руцкай». (Слово «русский» он упорно коверкал и переучиться не мог, как с ним ни колотились.)
– Пилу я вам не даю, не понадобится, – сказал старшина. – Сарай на опушке леса видели разбитый? Там бревна сухие, как порох. Раскатаете по-быстрому, а пилить здесь будем, на месте.
Сарай находился километрах в двух, за лесом. Стоял он на невысоком взлобочке, среди редких деревьев. Это даже и не сарай был, а брошенный сруб нового дома – с пустыми оконными проемами и без крыши. И не разбитый, как показалось старшине, а недостроенный.
Они оставили лошадь в низинке, протоптали в снегу широкую полосу, чтобы скатывать бревна к саням, основательно перекурили под стенкой и, поплевав на руки, принялись за работу.
«Отгрызли» три верхних венца, кувыркнули бревна вниз, и отец скомандовал:
– Шабаш, ребята. И так все не заберем. Второй раз ехать придется.
Опять они закурили, теперь не присаживаясь, стоя. Да и не закурили еще, отец только успел протянуть ребятам кисет – как вдруг что-то зацокало по срубу: цок-цок-цок!.. И опять: цок-цок-цок!.. А потом запосвистывало в оконные проемы, отрывая от бревен взвизгивающие щепки.
Сержанты замерли, раскрылатив руки.
– Вроде стреляют, батя? – не поворачивая головы, шепотом спросил один.
– Похоже, стреляют, – согласился отец и шагнул за сруб, словно хотел глянуть, кто это там балует.
В тот же миг невидимая сила вырвала у него из рук топор, а один из сержантов схватился за щеку и, приседая, тонко крикнул: «Мама!»
– Бросай все! – всполошился отец. – Постреляют, как курей!..
Впервые он узнал тогда, что смерть может так вот обыденно ходить рядом и не караулить даже тебя специально, а просто шнырять около – невидимая и оттого вроде не страшная. И может она, не глядя, зацепить тебя, если даже сам ты в этот момент ни на кого не замахиваешься…
В другой раз его чуть не застрелил незнакомый капитан, оказавшийся на учениях. Кто он был такой, откуда – отец не знал.
Случилось это в тот день, когда им впервые дали в руки боевые гранаты. Кидать гранату надо было из окопчика, по грудь отрытого в снегу. Не очень удобная получалась позиция, но отец не волновался: кидать он умел. До этого тренировались они с березовыми болванками, подогнанными по весу под боевые гранаты, – и его болванки летели дальше всех. У него свой способ был: он не напрягал руку, а посылал ее вперед расслабленно и резко, словно бич раскручивал. Рука с зажатой гранатой, получалось, сама уже летела, готовая выдернуться из плеча. Но в последний момент он раскрывал ладонь – и граната, кувыркаясь, взмывала вверх.
Молодежь на учениях его подзадоривала:
– Вот батя щас запузырит дак запузырит! Ну-ка, батя, покажи класс.
И он запузыривал. Однажды чуть не зашиб до смерти своего земляка, экспедитора ОРСа «Алюминьстроя» Филимонова.
Солдаты разбились на две кучки и перекидывали болванки друг дружке. Одни покидают, другие подберут – и обратно. Филимонов не досчитал одной гранаты (она еще была в руках отца), первым кинулся собирать попадавшие. Отец почувствовал, что болванка летит в Филимонова, успел крикнуть: «Берегись!» Лучше бы не кричал, тогда Филимонова всего-навсего огрело бы по спине. А он крикнул – Филимонов разогнулся, – и болванка угадала ему промеж глаз.
Отцу за этот случай ничего не было. Только лейтенант Козлов без улыбки сказал:
– Эй, руцкай! Ты, видать, диверсант. Ты что мне солдат из строя выводишь?
Вечером в землянку к отцу зашел Филимонов. Правая бровь у него была рассечена, глаз закрывал черно-синий кровоподтек.
– Эх, руцкай, руцкай! – сказал он. – Что ж ты мне глаз не выбил?
– Во! – изумился отец. – Подставься другой раз – я его тебе выхлестну.
Он думал, Филимонов шутит.
Но Филимонов не шутил.
– Что ж ты мне глаз не выбил? – тоскливо повторял он. – Ведь чуток бы только тебе в сторону взять… ехал бы я сейчас домой.
Отец тогда подивился: вот люди, а! глаза собственного ему не жалко.
А через несколько дней шел он по лесу. Оттепель была, капало с деревьев, снег лежал рыхлый, ноздреватый. Возле старого блиндажа отец увидел автоматчика.
– Сторожишь кого, что ли? – поинтересовался он.
– Проходи, – недружелюбно сказал автоматчик. – Проходи – не положено.
Но потом сам окликнул отца:
– Эй, дядя! Закурить есть?
– Я тебе скручу, – заторопился польщенный отец. – Я скручу – ты стой.
Автоматчик затянулся табачком и, опасливо глянув по сторонам, сообщил:
– Самострела караулю.
– Ну! Кто ж такой?
Автоматчик повел глазами в сторону блиндажа.
Отец наклонился, заглянул.
Там, по колено в набежавшей талой воде, с забинтованной рукой стоял бледный Филимонов.
– Батя! – сказал он, увидев отца. – Вот оно как, батя. – И, сморщившись, беззвучно заплакал.
– Неужели сам? – шепотом спросил отец у автоматчика.
– Сам, курва, – ответил тот.
– Так вить… это… не фронт же здесь. Кто поверит? Дождался бы до боев, выставил руку за бруствер – стреляй меня.
– А ну, иди! – снова застрожился автоматчик. – Ишь ты… специалист! Иди – выставься!
– Дак я так, – сробел отец, – к примеру…
Кидал отец однажды и боевую гранату. Да еще противотанковую.
Как-то после ужина зашел он в кусточки по нужде, а когда наладился обратно, попались ему навстречу два молоденьких лейтенанта.
– Гляди, Слава, – рекордсмен, – негромко сказал один.
Второй, беленький, тонкий паренек, обратился к отцу:
– Папаша, гранату кинуть сумеешь? – И показал гранату, противотанковую.
– Так точно – сумею! – ответил отец (он любил эти сдвоенные военные слова – «так точно», «никак нет»).
– А не забоишься? – усомнился лейтенант.
– Никак нет, не забоюсь!
– Ну, держи.
Отец выдернул чеку, сказал:
– Спрячьтесь за дерево, товарищи командиры. – И, размахнувшись, швырнул гранату в обтаявшее по краям болотце. Граната пробила тонкий ледок, нутряно рявкнула в болоте – взметнулась вверх ряска, черная вода, грязь.
– Сила! – восхищенно сказал беленький. Но потом спохватился и начальственно похвалил отца: – Молодец, солдат! Вот так и действуй.
Словом, первую «официальную» гранату он принял спокойно. Дождался команды, сильно замахнулся, откидываясь корпусом назад…
И не сразу понял, что случилось.
А случилось невероятное: граната при замахе вырвалась у него из руки и полетела назад.
– Ложись! – дико закричали позади, там, где кучкой стояли командиры.
Грохнул взрыв, мелкие комочки земли застучали по шапке, по плечам – и тихо сделалось.
Тихо-тихо.
«Все! – сказал себе отец. – Побил людей». У него потемнело в глазах, и он медленно начал сползать на дно окопа.
Потом раздался топот многих ног и крики, показавшиеся ему далекими, доносившимися словно из тумана:
– Кто?! Кто кинул?!
– Где?.. Этот?
– Ах ты, в три бога!..
Несколько рук выдернули его из окопа, ударили по шее – раз, два! – он сломался пополам, потерял шапку; но тут же, схватив за шиворот, его встряхнули, выпрямили – и близко прорезалось из пелены, застилавшей глаза, лицо этого чужого капитана – бледное, с выпученными глазами и распахнутым черным ртом.
– Застрелю, бандит! – кричал капитан, тыча ему в подбородок пистолетом – так, что голова у отца моталась. – Становись к дереву! Пад-лю-ка!
Отец ударился лопатками о дерево и снова осел, мешком повалился на бок…
Страшное это дело долго потом вспоминалось отцу – и всякий раз он зажмуривал глаза и до боли сдавливал рукой лицо. Шутка ли: своих чуть не перебил, не перекалечил. Слава богу, граната полетела не прямо в командиров, а в сторону, никого не зацепило осколком. А получись такое, вряд ли другим офицерам удалось бы отбить отца у капитана.
Но все же это пока была не война. И отец не то чтобы думал (он не раздумывал о таких вещах), а как-то нутряно верил: здесь еще не убьет, не должно. И когда, в тот первый раз, застучали по срубу пули, он – хотя и кричал: «Бросай всё!.. Перестреляют!» – не страх испытывал, а скорее досаду. Так досадуют мужики, когда внезапный дождик мешает закончить работу: дометать, к примеру, стог сена. Торопятся они, чертыхаются, поглядывая на зачерневшую тучу, а потом, пригибаясь, бегут к шалашам – не промочило бы насквозь.
То же самое и со злополучной гранатой. Он, правда, испытал ужас, до тошноты и ослепления, но это был страх, вернее, отчаяние перед непоправимостью случившегося: побил людей!
Война началась позже. Такая война, где целятся уже в тебя, где специально запланировано тебя убить как можно скорее и ловчее, где против тебя заряжены пушки и расставлены мины. И началась она опять же как работа – как уборка, допустим, сев, или тот же сенокос. С вечера еще собрались мужики, уложили все, подогнали, смазали, перепроверили, утром подзаправились основательно, впрок, расселись по машинам и, подминая мягкий, легко спрессовывавшийся снег, тронулись вперед.
Ехали долго, дремали, курили, зубоскалили, останавливались и слезали: иногда по команде – оправиться, иногда по необходимости – подтолкнуть свой загрузший «студебеккер» или помочь выдернуть передний, загородивший дорогу. И опять ехали, толкуя о том, что если, мол, к завтрему не подморозит, а отпустит еще, то засядет вся эта разлюбезная техника в здешних болотах и придется дальше топать пехом.
И так незаметно к вечеру въехали в войну.
Справа и слева от дороги, в лесу, стали рваться тяжелые снаряды. Ухали они то далеко, то поближе, и если снаряд рвался ближе – земля вздрагивала, будто по ней били громадной кувалдой. Вздрагивали и отзывались коротким гудом реечные борта «студебеккера», тугой воздух ударял в уши.
Помкомвзвода скомандовал не курить. Хотя смысла в команде не было. Во-первых, никто и так не курил: солдаты притихли, втянули головы в плечи. А во-вторых, стреляла, видать, дальнобойная артиллерия километров, может, с двадцати и, уж конечно, стреляла не по огонькам от самокруток.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?