Текст книги "Последние дуэли Пушкина и Лермонтова"
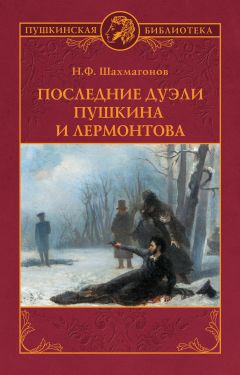
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Дуэли в творчестве Пушкина и Лермонтова
Есть какая-то мистика в том, что в творчестве, особенно Александра Сергеевича Пушкина, ну и чуть в меньшей степени Михаила Юрьевича Лермонтова, дуэлям отводится особое место. Эта тема словно притягивала поэтов.
Вспомним роман «Евгений Онегин».
«Теперь сходитесь». Хладнокровно,
Ещё не целя, два врага
Походкой твёрдой, тихо, ровно,
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов ещё ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить – но как раз
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет.
Упреждающий выстрел… Это словно предвидение того, что будет. Лишь одного не мог предположить Пушкин, работая над своим романом в стихах – для чего был необходим его убийце Дантесу этот упреждающий выстрел? Рисковал ли женоподобный французишка? Ведь если промах, то… Пушкин, будучи отличным стрелком, не оставил бы ему шанса.
Оказывается, нет, риска для Дантеса не было. В соответствующей главе узнаем, почему он не рисковал вовсе, ну а торопился, желая, видимо, закончить всё разом.
Теперь обратимся к рассказу «Выстрел». Там и вовсе выписана дуэль во всех её вариациях, да ещё и с продолжением. Мало того, в художественное отображение поведения одного из героев Пушкин вложил своё, личное, о чём мы тоже узнаем в соответствующей главе.
Пушкин, повторяю, описывая дуэли, не мог предположить лишь одного – подлости одного из соперников. Хотя постойте… Ведь в «Капитанской дочке» Швабрин сумел ранить Петрушу Гринёву не просто так, а воспользовавшись ситуацией, которой мог воспользоваться лишь дурной человек.
Вспомним этот эпизод…
Повествование ведётся от имени Петруши Гринёва.
«Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я своё имя, громко произнесённое. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке… В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже плеча; я упал и лишился чувств».
Швабрин воспользовался тем, что Гринёва отвлёк Савельич. Порядочный человек должен бы прекратить бой и подождать, но Швабрин, как известно, был отпетым негодяем.
Пушкин, обращаясь к описанию дуэлей, выписывал их тщательно, словно они его завораживали.
И Лермонтов отдавал должное таким описаниям, правда, он изначально предполагал, что один из противников может быть подлецом, каковым и явился Грушницкий, которого, впрочем, подговорили на подлость «знатоки».
Печорин разгадал коварный план, заключавшийся в том, что в его пистолет друзья Грушницкого забудут «положить пулю». Ну и решил проучить негодяев.
Повествование в «Герое нашего времени», как известно, ведётся от Печорина:
«Следующие слова я произнёс нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:
– Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!
– Не может быть! – кричал капитан, – не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась… это не моя вина! – А вы не имеете права перезаряжать… никакого права… это совершенно против правил; я не позволю…
– Хорошо! – сказал я капитану, – если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях…
Он замялся.
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый и мрачный.
– Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора… – Ведь ты сам знаешь, что они правы.
Напрасно капитан делал ему разные знаки. Грушницкий не хотел и смотреть.
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.
– Дурак же ты, братец, – сказал он, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем… Поделом же тебе! околевай себе, как муха… – Он отвернулся и, отходя, пробормотал: – А всё-таки это совершенно против правил.
– Грушницкий! – сказал я, – ещё есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё. Тебе не удалось меня подурачить, и моё самолюбие удовлетворено; – вспомни – мы были когда-то друзьями…
Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.
– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоём нет места…
Я выстрелил…
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах лёгким столбом ещё вился на краю обрыва».
Знал ли Михаил Юрьевич Лермонтов о той подлости, которую применили «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов», готовя убийство Пушкина? Быть может, всё в точности он и не мог знать, даже, скорее всего, детали просто не могли быть ему известны, но, судя по резкому, обличительному тону стихотворения «Смерть поэта», не просто догадывался – был уверен, что произошло жестокое и коварное убийство.
Сколько дуэлей было у Пушкина на счету перед поединком с Дантесом?! Называют разные цифры. Считается, что вызовов, не всегда, правда, оканчивавшихся поединками, было свыше двадцати, называют даже цифру – 35. И все ведь завершались благополучно, потому что возникали не как заговор. К тому же те, с кем вздорил Пушкин, не были заказными, наёмными убийцами, каковым оказался залётный проходимец Дантес.
Прежде чем рассказать о неравном поединке – поединке, устроенном так, что у Пушкина не оставалось никаких шансов выйти из него живым, а у Дантеса был лишь незначительный риск получить рану, остановимся, во-первых, на дуэлях, в которых участвовал Пушкин, а во-вторых, на причинах убийства. Постараемся ответить на вопрос, почему с такой старательностью готовилось убийство русского гения врагами и его, и России, и государя императора Николая Павловича.
«…Саша среди бала вызвал Павла Ганнибала»
Исследователи, как уже говорилось, посчитали, что в жизни Пушкина было 35 случаев, когда ссоры могли закончиться или заканчивались дуэлями. Пушкин посылал вызовы 26 раз, его вызывали 7 раз, ну и два раза были дуэльные ситуации, инициаторов которых установить не удалось. Пять раз Пушкин выдерживал выстрелы своих дуэльных противников и три раза стрелял сам.
Конечно, цифры могут удивить, но удивляться подождём. Таково было время. Знаменитый русский философ Николай Николаевич Страхов (1828–1896) о дуэлях и их причинах писал следующее:
«Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один волосичек, погнёт ли на плече сукно, так милости просим в поле. Так же глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или недовидел поклона… статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка!..»
Так что сказанное о дуэлях Пушкина – всего лишь сухие цифры. За каждой из них скрываются истории, на которых, учитывая тему книги, необходимо остановиться более подробно, чтобы выяснить, что же это были за вызовы и по каким причинам многие из них разрешались мирным путём.
Свой первый вызов Александр Пушкин послал в свои 17 лет и не к кому-нибудь, а своему дяде.
Это связано с самым первым приездом в Михайловское, о котором сам Александр Сергеевич вспоминал:
«Вышед из Лицея я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но всё это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу…»
Так вот в тот первый приезд он не поделил со своим дядей Павлом Исааковичем Ганнибалом какую-то местную красавицу – девицу Лошакову.
Лошакова, в которую он был влюблён, на балу предпочла танцевать с Ганнибалом. Пушкин приревновал и вызвал дядю на дуэль.
Можно себе представить ситуацию, в которой оказался дядя. Дуэль – не шутка. Это не пикировки на вечеринке. Как быть? Убить племянника? Невозможно! Выстрелить в воздух или заведомо промахнуться? Но как знать, что будет делать племянник? А если сразит в упор! Тогда ведь никто ещё не знал, что Пушкин неизменно, во всех поединках, которые доходили до стрельбы, выдерживал выстрел противника, а затем сам стрелял в воздух, поскольку при его необыкновенной меткости противник неминуемо был бы сражён насмерть.
К счастью, в окружении и дяди, и племянника нашлось немало здравых людей. Занялись делом быстро и горячо, ну и добились примирения между не такими уж заклятыми противниками.
Дядя Пушкина тут же написал четверостишие по поводу благополучного завершения ссоры…
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Не подгадит ссорой бал!
О девице Лошаковой практически ничего не известно. Даже непонятно, оставила ли любовь, озарившая Пушкина, следы в его творчестве.
Вызов за «молитву лейб-гусарских офицеров»
Очередное приглашение к поединку не заставило себя долго ждать….
1817 год был для Пушкина годом особым. Выпуск из Царскосельского Императорского лицея – это ли не событие, это ли не праздник?!
Причиной ссоры было шутливое стихотворение Пушкина «Молитва лейб-гусарских офицеров».
Избави Господи ума такого,
Как у Александра Васильевича Попова,
Слатвинского скромности,
Зубова томности,
Ильина чистоты,
Тютчева красоты,
Любомирского чванства,
Каверина пьянства,
Гротовой скупости,
Хов-на глупости,
Суетливости Оффенберга,
Рассудительности Унгерн-Штернберга,
Чаадаева гордости,
Юш-ва подлости,
Креншина службы,
Сабурова дружбы,
Завадовского щедрости,
Гернгр-вой мерзости,
Кнабенау усов,
Пашковских носов,
Салтыкова дикости,
Саломирского лихости,
Слепцова смиренья,
Крутикова пенья,
Барятинского спросов,
Рахманова вопросов,
Молоствова хвалы
И Микешина килы.
Как видим, список длинный, ну и, надо полагать, Пушкин точно подметил какие-то особенные качества каждого из упомянутых им гусар. Кто-то воспринял эпиграмму спокойно, а кто-то был взбешён. Особенно обижен и возмущен был Андрей Иванович Пашков (1792–1850), который был старше Пушкина и не раз отличился в битвах 1812 года. Впоследствии он дослужился до чина генерал-майора. Его поддержал Пётр Павлович Каверин (1794–1855), тоже закалённый воин, участник заграничных походов 1813–1815 годов.
Ситуацию пытался поправить Александр Петрович Завадовский, сын одного из генерал-адъютантов Екатерины Великой. Он, будучи сослуживцем Пушкина по Коллегии иностранных дел и его приятелем, решил взять на себя вину, чтобы постараться избежать дуэли, к которой клонилось дело. Стихотворение быстро распространилось по полку, и число недовольных множилось. И только вмешательство начальства позволило примирить всех, кроме Каверина.
Лишь стихотворение Пушкина заставило и его сменить гнев на милость…
Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи…
Написал Пушкин и несколько строк «К портрету Каверина»:
В нём пунша и войны кипит
всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный
был воитель,
Друзьям он верный друг,
красавицам мучитель,
И всюду он гусар.
После всего этого наконец примирение состоялось окончательно. Мало того, Пушкин упомянул своего приятеля в романе «Евгений Онегин», в главе первой…
XVI
Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» – раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждёт его Каверин.
Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым…
Дуэль из-за «Кюхельбекерно и тошно»
А вот в 1818 году дуэль состоялась. И с кем! С лицейским товарищем Пушкина поэтом и прозаиком Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером (1797–1846).
Пушкин любил Вильгельма, но постоянно над ним подшучивал. Иван Иванович Пущин рассказал об одной из таких шуток в своих «Воспоминаниях о Пушкине»:
«…Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих “Пирующих студентов”. Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.
Началось чтение:
Друзья! Досужий час настал,
Всё тихо, всё в покое… – и проч.
Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении… Доходит дело до последней строфы. Мы слушаем:
Писатель! за свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.
При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина ещё раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.
Послание ко мне:
Любезный именинник… – и проч. –
не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется во многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы всё-таки умели их сгармонировать и оставались в постоянном согласии. Кстати тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта…»
Известно, с какой любовью, с каким уважением относился к Пушкину знаменитый поэт Жуковский, который даже считал себя учителем юного поэта. Но именно он стал невольным виновником теперь уже не вызова и примирения, а именно дуэли.
Иван Пущин продолжал рассказ:
«Следующая эпиграмма уже окончательно вывела из себя Кюхельбекера. Разумеется, не желая подобного исхода, поэт Василий Андреевич Жуковский, пропустив вечер встречи с лицеистами, объяснил это Пушкину тем, что “накануне расстроил себе желудок”. А затем возьми да и скажи:
– К тому же пришёл Кюхельбекер, притом Яков дверь запер по оплошности и ушёл».
Яков был слугой Жуковского.
Ну разве ж Пушкин мог пропустить такой повод для шутки. Но уж тут он немного перестарался и написал строки, известные нам, кстати, со школьной скамьи…
За ужином объелся я.
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.
Кюхельбекер вызвал обидчика на дуэль.
Николай Иванович Греч рассказал о том, что дуэль прошла по всем правилам и только по случайности не окончилась кровью.
Поединок был назначен на Волковом поле, в каком-то недостроенном склепе. Пушкин, по свидетельству приятелей, уже переживал, что принудил своего приятеля к вызову. Но по законам того времени отказ от поединка был невозможен – это позор.
Всё выглядело несколько нелепо. Секундантом Кюхельбекера был близкий друг Пушкина Дельвиг – Барон Антон Антонович Дельвиг (1798–1831), впоследствии знаменитый поэт и издатель…
И вот определили условия, зарядили пистолеты. Кюхельбекеру, как обиженному, предоставили право первого выстрела.
Николай Иванович Греч рассказал о дальнейшем.
«Когда Кюхельбекер поднял свой пистолет и стал целиться, Пушкин насмешливо крикнул:
– Дельвиг! стань на мое место, здесь безопаснее».
Но уж это нечто иное, как приглашение к выстрелу. Много лет спустя, когда убийцы Лермонтова выдумывали ход и исход дуэли, якобы бывшей на Машуке, но которой в природе не было, они вкладывали в уста Михаила Юрьевича дерзкие и обидные слова. Мол, Мартынов не виноват. Его Лермонтов чуть ли не принудил к убийству.
Разумеется, насмешка Пушкина ещё более распалила Кюхельбекера, но он, сделав «пол-оборота, пробил пулей фуражку Дельвига».
Николай Иванович Греч в «Воспоминаниях старика» привёл резюме Пушкина:
«– Послушай, товарищ, без лести – ты стоишь дружбы; без эпиграммы – пороху не стоишь.
Пушкин бросил пистолет и хотел обнять Кюхлю, но тот неистово кричал:
– Стреляй, стреляй!
Насилу его убедили, что невозможно стрелять, ибо снег набился в ствол», – сообщил Греч.
Пушкин, безусловно, был не робкого десятка. Это отмечали те, кто видел, как он стоял под дулом пистолета. Но и дерзок. Причём он словно испытывал судьбу.
Следующий вызов он послал по поводу, который его мнимый противник поводом к дуэли не счёл. Соседом Пушкина был его однокашник по лицею барон Модест Андреевич Корф (1800–1876), впоследствии – в 1849–1861 годах – директор Императорской публичной библиотеки.
Однажды слуга Пушкина Козлов изрядно выпил и по ошибке зашёл в дом Корфа. В прихожей его остановил камердинер барона, но Козлов оттолкнул его, за что Корф, вышедший на шум, несколько раз ударил пьяницу и вытолкал его из дому.
Пушкин обиделся за то, что Корф побил его слугу, и послал вызов, на что получил остроумный ответ:
– Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер.
Пушкин успокоился. Настаивать на дуэли посчитал нецелесообразным.
Иван Лажечников: «Тогда я совершил великое дело»
Следующий вызов снова поступил от Пушкина, причём вызывал Александр Сергеевич на дуэль заслуженного ветерана майора Денисевича.
Об этом очень подробно и интересно поведал знаменитый наш писатель-историк Иван Иванович Лажечников (1792–1869), который по праву считается одним из «зачинателей русского исторического романа».
Так вот Иван Иванович писал:
«В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Остермана-Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на Английской набережной, недалеко от Сената.
…Жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко. Хотя имел годовой билет моего генерала, отданный в полное мое владение, я передавал его иногда Н. И. Гречу.
“Кого это пускаешь ты в мои кресла?” – спросил меня однажды граф Остерман-Толстой с видимым неудовольствием. Я объяснил ему, что уступаю их известному литератору и журналисту. “А, если так, – сказал граф, – можешь и вперёд отдавать ему мои кресла”. Говорю об этом случае для того только, чтобы показать, как вельможи тогдашние уважали литераторов.
Со многими из писателей того времени, более или менее известных, знаком я был до приезда моего в Петербург…
(…)
Но я ещё нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего уже в зиму 1819/20 года “Руслана и Людмилу”, Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть, – Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был один из восторженных его поклонников».
Тут важно, конечно, отметить, что Пушкина знали, уважали и любили люди, принадлежавшие к культурному слою русского общества. Будущий автор «Ледяного дома» и других замечательных исторических романов, конечно, смог оценить талант молодого поэта. Но опасность конфликта, свидетелем которого стал романист, была именно в том, что противник у Пушкина хоть и был заслуженным ветераном, но ничего не читал, за исключением «Бедной Лизы» Карамзина. То есть о Пушкине он даже не слышал.
И. И. Лажечников рассказал о том, какая беда едва не произошла в результате ссоры…
«Следующий необыкновенный случай доставил мне его знакомство.
…Квартира моя в доме графа Остермана-Толстого выходила на Галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему за несколько дней до того времени, которое описываю, майору Денисевичу, служившему в штабе, которым командовал граф. Денисевич был малоросс, учился, как говорят, на медные деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам: он был очень плешив и до крайности румян; последним достоинством он очень занимался и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрою густых своих эполетов особенно щеголял, полагая, что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на все, его окружающее, и едва ли не на весь город.
Мы прозвали его дятлом, на которого он, и наружно, и привычками был похож, потому что без всякой надобности долбил своим подчиненным десять раз одно и то же.
…К театру был пристрастен, и более всего любил воздушные пируэты в балетах; но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что жизнь свою провёл большею частию в провинциях. Любил он также покушать. Впрочем, был добрый малый. Моё товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и невольным сближением по квартире.
В одно прекрасное зимнее утро – было ровно три четверти восьмого, – только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. Денисевича не было в это время дома; он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в неё три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой – фронтовой офицер.
Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: “Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?” – “Здесь, – отвечал я, – но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его”. Я только хотел это исполнить, как вошёл сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку.
– Что вам угодно? – сказал он статскому довольно сухо.
– Вы это должны хорошо знать, – отвечал статский, – вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остаётся ещё четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место…
Всё это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. Денисевич мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал:
– Я не затем звал вас к себе… я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично…
– Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, – сказал более энергическим голосом статский, – я уж не школьник и пришёл переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно…
Денисевич не дал ему договорить.
– Я не могу с вами драться, – сказал он, – вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер…
При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой.
Статский продолжал твёрдым голосом:
– Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мной дело.
При имени Пушкина блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его:
– Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?
– Меня так зовут, – сказал он, улыбаясь.
“Пушкину, – подумал я, – Пушкину, автору “Руслана и Людмилы”, автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича; или убить какого-нибудь Денисевича и жестоко пострадать… нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой”.
– В таком случае, – сказал я по-французски, чтобы не понял нашего разговора Денисевич, который не знал этого языка, – позвольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.
Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне был в театре, где, на беду, судьба посадила его рядом с Денисевичем. Играли пустую пиесу, играли, может быть, и дурно. Пушкин зевал, шикал, говорил громко: “Несносно!” Соседу его пиеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает ему слушать пиесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра.
– Посмотрим, – отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать.
Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и должна была бы кончиться ссора наших противников. Но мой витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановил его в коридоре.
– Молодой человек, – сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец, – вы мешали мне слушать пиесу… это неприлично, это невежливо.
– Да, я не старик, – отвечал Пушкин, – но, господин штаб-офицер, ещё невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?
Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Не был ли это настоящий вызов?..
– Буду, – отвечал Пушкин. Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову Пушкина, всё затихло, и спорившие разошлись без дальнейших приключений.
Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне развязать, сберегая между тем голову и честь Пушкина.
– Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате, – сказал я военным посетителям. Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоём с Денисевичем, я спросил его, так ли было дело в театре, как рассказал мне один из офицеров. Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно, не понял, надо было или драться, или извиниться.
Я прибавил, что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена.
– В противном случае, – сказал я, – иду сейчас к генералу нашему, тогда… ты знаешь его: он шутить не любит.
Признаюсь, я потратил ораторского пороху довольно, и недаром. Денисевич убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввёл его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему:
– Господин Денисевич считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас.
– Надеюсь, это подтвердит сам господин Денисевич, – сказал Пушкин.
Денисевич извинился… и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только:
– Извиняю, – и удалился со своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.
Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день… Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердый служитель муз, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы ещё более раздуть его; если б я повёл дело иначе, перешёл только через двор к одному лицу, может быть, Пушкина не стало б ещё в конце 1819 года, и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже: “Puis, moi, j’ai servi le grand homme!” (Прим. ред. – дословно с фр. “Тогда я служил великим человеком!” Возможен также смысловой перевод, как “Тогда я совершил великое дело”).
Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и Денисевича я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у Денисевича в театрах с военными, вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились тем, что мой майор ускакал скоро из Петербурга.
Через несколько дней увидал я Пушкина в театре: он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом “Руслана и Людмилы”, на что он отвечал мне:
– О! это первые грехи моей молодости!
– Сделайте одолжение, вводите нас чаще такими грехами в искушение, – отвечал я ему.
По выходе в свет моего “Новика” и “Ледяного дома”, когда Пушкин был в апогее своей славы, спешил я послать к нему оба романа, в знак моего уважения к его высокому таланту. Приятель мой, которому я поручал передать ему “Новика”, писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года:
“Благодарю вас за случай, который вы мне доставили, увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой… На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая с ним, замечаешь, что у него есть тайна – его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: “Он умный человек. Такая скромность ему прилична”».
Я не случайно привёл столь длинную цитату. Иван Иванович Лажечников в своём повествовании особо отметил, что пришёл в ужас от одной мысли, что талантливый поэт мог быть убит неучем, даже не слышавшим о шедеврах русской поэзии. Любителем заурядных спектаклей. Ведь Пушкин высмеивал в театре серость, которую смотреть было невозможно. Впрочем, он впоследствии признал, что вёл себя в театре неправильно. В письме к князю Петру Андреевичу Вяземскому признался, что его поведение напоминает одну из «мальчишеских проказ, которые повторять не следует».
Дуэль с майором Денисевичем вполне могла стоить Пушкину жизни. Недаром Иван Иванович Лажечников, предотвративший её, в своей характеристики отметил, что Денисевич вряд ли что-то читал, кроме карамзинской «Бедной Лизы», ну и ещё каких-то произведений этого, случайно известного ему автора. Театр Денисевич знал и любил, чего нельзя сказать о литературе. То есть Денисевич стремился бы убить противника…









































