Текст книги "Последние дуэли Пушкина и Лермонтова"
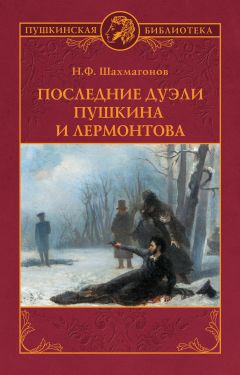
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Однажды она увидела лодку на берегу, в которой лежал обессиленный юноша. Он сбежал из рабства в чужой стране, но слишком сильной была стихия, которая не дала доплыть до родных берегов. Девушка спрятала юношу и долгое время выхаживала его. Он же рассказал ей про свои родные края, где есть много людей, радостно живущих друг с другом.
Девушка была очарована юношей и его рассказами, и двое влюблённых решили уплыть вместе. Когда парень окреп, они изготовили парус для лодки и отчалили. Уже далеко были они, когда вернулись из долгого похода медведи. Увидев свою любимицу далеко в море, они рассвирепели и припали к воде, жадно пытаясь выпить всё море. Лодка закружилась, и её начало быстро тянуть к берегу. Девушка понимала, что её любимому грозит смерть, и она начала петь свои самые красивые песни, уговаривая медведей оставить их. Звери прекратили пить и завороженно слушали песни. Только вожак стаи не поднялся от воды, но и он прекратил пить. Так и остался огромный медведь лежать в море, глядя на удаляющуюся лодку. Долго он лежал… голова и туловище его окаменели, бока превратились в отвесные скалы и весь он порос лесной “шерстью”…»
Несомненно, и семья Раевского, и Пушкин любовались необыкновенной горой, но только ли ради этого прибыли туда генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский и сотрудник Коллегии иностранных дел Александр Сергеевич Пушкин? И какие они задачи решали там в течение целых трёх недель. Пушкин писал о тех днях: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностию неаполитанского Lazzarono (лаццароне – нищего, итал.). Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря – и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти».
Кипарис сохранился до наших дней. Пушкин жил в мезонине дома градоначальника Одессы и генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье (1791–1822).
В поэме «Бахчисарайский фонтан» он посвятил этому райскому месту такие строки:
Забыв и славу, и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный, –
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй, и тополей прохлада…
Всё чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет, и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…
Из Гурзуфа путешественники направились верхом в Ялту, а оттуда в Бахчисарай.
Пушкин писал:
«Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По Горной Лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была берёза, северная берёза! сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне, хотя всё ещё находился в Тавриде, всё ещё видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
………………………..
Ч<адаев>, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена…»
По мнению современных исследователей, путешествие более походило на инспекционную поездку по границам Российской империи. Ну а что касается точных данных об этом, то их нет по вполне понятным причинам. Разведывательные органы в Российской армии только зарождались. Имеются в виду специальные учреждения, создаваемые для этого. Взять хотя бы Особенную канцелярию, созданную незадолго до нашествия Наполеона Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли. О ней сохранилось очень мало сведений, потому что всё, что касалось её работы, представляло государственную тайну. Не сохранилось конкретных данных и о том, какой деятельностью занимался Пушкин во время своей южной командировки.
Позднее, уже из Кишинёва, в письме, датированном 20 сентября 1820 года, он писал своему брату Льву Сергеевичу:
«…Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажжённым фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа – они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков – теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я – на ближней горе посереди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных – заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни – не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею – вот всё, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий – но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керча приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом – и, подобно Старику Виргилия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной. Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю; отошли её Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нём героя, славу русского войска, я в нём любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, – горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского… Теперь я один в пустынной для меня Молдавии…»
Здесь к месту привести стихотворение «Элегия», о котором упомянуто в письме:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Отдохновение от столичной суеты, от сплетен, которые уже начали накатываться омерзительными волнами на поэта, – вот что сквозит в стихотворении. А здесь, средь замечательного семейства Николая Николаевича Раевского покой, добрые разговоры, теплые взаимоотношения и никаких ссор, никаких приглашений к поединкам, которые нередко случались в столице.
В начале сентября 1820 г. Александр Сергеевич вместе с Николаем Николаевичем Раевским и его семьёй побывал в Бахчисарае, из которого писал Дельвигу: «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавленной железной трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат».
«Бахчисарай» в переводе с татарского – дворец садов.
Последний пункт пребывания в Крыму – Симферополь, а дальше путь в Одессу и несколько дней в этом полюбившемся поэту весёлом городе.
Побыв несколько дней по пути в Кишинёв, Пушкин затем снова рвался в Одессу, которой впоследствии посвятил несколько поэтических строк в романе «Евгений Онегин».
Я жил тогда в Одессе пыльной:
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжёлый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.
О том, что путешествие с генералом Раевским было совсем не простым, свидетельствует и поведение самого Пушкина. Посмотрите, за всю поездку ни одной дуэли, ни одного вызова на дуэль, а ведь встречаться приходилось с людьми самыми разными и самых различных взглядов. Известно, что при выполнении боевых и равных им задач никаких поединков не допускалось.
Но вот путешествие позади. Впереди служба под началом генерала Инзова…
В кругу военных разведчиков
Наконец, в сентябре 1820 года Пушкин прибыл в Кишинёв, к месту назначения, и был представлен генералу Ивану Никитичу Инзову.
Что там за дела? Что за служба? Пушкин постоянно варился в котле дел не столько гражданских, сколько военных, хотя и не носил погон. Некоторые исследователи обратили внимание на то, что Александр Сергеевич был близок к тем, кто занимался делами разведывательного характера. С ними дружил – с ними и ссорился. Жизнь Пушкина в Кишинёве чрезвычайно богата дуэлями…
Кстати, в подорожной Пушкина значилось:
«Коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к Главному попечителю колонистов Южного края России г. Генерал-Лейтенанту Инзову».
Кишинёв – не Одесса. Описание города сделал служивший там вместе с Пушкиным подполковник Александр Фомич Вельтман (1800–1870), известный не только как лингвист, археолог, поэт и писатель, но и как картограф.
Картограф! Как видим, и здесь военное дело, и здесь штабная служба, и здесь служба, близкая к разведке.
Так вот Вельтман писал:
«Старый город на отлогом склоне горы делился: на нагорье, где жили вельможи…, на топкую улицу, на Булгарию, или предместье болгар, садовников и огородников по реке Быку. Новый, русский город, на горе, обустроился уже при содействии губернской архитектуры. Его украшали и деревянные тесовые и кирпичные штукатурные здания. На самой возвышенности стояла митрополия, экзархия армянская, и аллеи вновь посаженного сада, воспетого в подражание московскому бульвару».
Русский историк и литературовед, которого часто называют «зачинателем пушкиноведения, Пётр Иванович Бартенев (1829–1912) в работе «Пушкин в Южной России» рассказал:
«Приехав в Кишинев, Пушкин остановился в одной из тамошних глиняных мазанок, у русского переселенца Ивана Николаева, состоявшего при квартирной комиссии и весьма известного в городе смышлёного мужика. Но Инзов вскоре позаботился о лучшем для него помещении. Он дал ему квартиру в одном с собою доме. Дом находился в конце старого Кишинева, на небольшом возвышении. В то время он стоял одиноко, почти на пустыре. Сзади примыкал к нему большой сад, расположенный на скате с виноградником… Дом был довольно большое двухэтажное здание; вверху жил сам Инзов, внизу двое-трое его чиновников. При доме в саду находился птичий двор со множеством канареек и других птиц, до которых наместник был большой охотник… Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, сзади, направо от входа, в три окна с железными решетками, выходившие в сад. Вид из них прекрасный, по словам путешественников, самый лучший в Кишиневе. Прямо под скатом, в лощине, течёт река Бык, образуя небольшое озеро. Левее – каменоломни молдаван, и еще левее новый город. Вдали горы с белеющими домиками какого-то села. Стол у окна, диван, несколько стульев, разбросанные бумаги и книги, голубые стены, облепленные восковыми пулями, следы упражнений в стрельбе из пистолета, – вот комната, которую занимал Пушкин. Другая, или прихожая, служила помещением верному и преданному слуге его Никите… В этом доме Пушкин прожил почти всё время; он оставался там и после землетрясения 1821 г., от которого треснул верхний этаж, что заставило Инзова на время переместиться в другую квартиру… Большую часть дня Пушкин проводил где-нибудь в обществе, возвращаясь к себе ночевать, и то не всегда, и проводя дома только утреннее время за книгами и письмом. Стола, разумеется, он не держал, а обедал у Инзова, у Орлова, у гостеприимных кишиневских знакомых своих и в трактирах. Так, в первое время он нередко заходил в так наз. Зеленый трактир в верхнем городе».
Казалось, покинув столицу, Пушкин удалился от общества, в котором дуэли стали обычным делом. Но, увы, оказалось, что это совсем не так. В Кишинёве вызовы на поединки посыпались как из рога изобилия.
Поэт и писатель Александр Фомич Вельтман (1800–1870), во время пребывания Пушкина в Кишинёве служивший картографом, в «Воспоминаниях о Бессарабии» высказал свой взгляд на причины частых дуэлей Пушкина:
«Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит чрез толпу мирно; раздражённый неуважением людей к своему божеству, как человек, он так же забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора: на поле дело решается Божьим судом… Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, – только не от русского слова малина: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем “полю”. Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу, под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза “полевал” и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного “поля”, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах».
Далее А. Ф. Вельтман описал одну из первых стычек по поводу, многим показавшемуся совсем недостойным поединка:
«Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость.
– Вы должны отвечать за дерзость жены своей, – сказал он её мужу.
Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей.
– Так я вас заставлю знать честь и отвечать за неё, – вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим всё и заключилось; только с тех пор долго бояре дичились Пушкина…»
Пушкин как-то признался, что для него дуэли – «игра славы», то есть его занимали и сами поединки, и «своеобразный бунт против законов». Щекотало нервы то, что приходилось идти на риск уж в самом участии в запрещённой законом дуэли.
Князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888), сын Петра Андреевича и Веры Фёдоровны Вяземских, близких друзей Пушкина, познакомился с поэтом в 1826 году, в шестилетнем возрасте, и всегда с восторгом встречал его, когда тот приходил в гости к родителям. Он посвятил этим встречам свои воспоминания, в которых, уже с позиций прожитых лет и осмысления виденного, привёл важные размышления, в том числе и о дуэлях:
«Нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда весьма обыкновенных, если бы не было вокруг него столько людей, горячо заботившихся об его участи. Сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России. Пушкин так умел останавливать свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходки много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное».
«Докажу им, что я не школьник!»
Итак, кишинёвские дуэли Пушкина… Первая из них связана с человеком военным.
Иван Петрович Липранди рассказал в своих воспоминаниях:
«В конце октября 1820 года брат генерала М. Ф. Орлова, л. – гв. уланского полка полковник Фёдор Фёдорович, потерявший ногу, кажется, под Бауценом или Герлицем, приехал на несколько дней в Кишинев. Удальство его было известно. Однажды, после обеда, он подошёл ко мне и к полковнику А. П. Алексееву и находил, что будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, нежели слушать разговор “братца с Охотниковым о политической экономии!” Мы охотно приняли его предложение, и он заметил, что надо бы подобрать еще кого-нибудь; ушёл в гостиную к Михайле Фёдоровичу и вышел оттуда под руку с Пушкиным. Мы отправились без определённой цели, куда идти: предложение Алексеева идти к нему было единогласно отвергнуто, и решили идти в бильярдную Гольды. Здесь не было ни души. Спрошен был портер. Орлов и Алексеев продолжали играть на бильярде на интерес и в придачу на третью партию вазу жженки. Ваза скоро была подана. Оба гусара порешили пить круговой; я воспротивился, более для Пушкина, ибо я был привычен и находил даже это лучше, нежели не очерёдно. Алексеев предложил на голоса; я успел сказать Пушкину, чтобы он не соглашался, но он пристал к первым двум, и потому приступили к круговой. Первая ваза кое-как сошла с рук, но вторая сильно подействовала, в особенности на Пушкина; я оказался крепче других. Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают… Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова; кончилось тем, что он вызвал обоих, а меня пригласил в секунданты. В десять часов утра должны были собраться у меня. Было близко полуночи. Я пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой он уже опомнился и начал бранить себя за свою арабскую кровь, и когда я ему представил, что главное в этом деле то, что причина не совсем хорошая и что надо как-нибудь замять.
– Ни за что! – произнес он, остановившись. – Я докажу им, что я не школьник!
– Оно всё так, – отвечал я ему, – но всё-таки будут знать, что всему виной жжёнка, а притом я нахожу, что и бой не ровный.
– Как не ровный? – опять остановившись, спросил он меня.
Чтобы скорей разрешить его недоумение и затронуть его самолюбие, я присовокупил:
– Не ровный потому, что может быть из тысячи полковников двумя меньше, да ещё и каких ничего не значит, а вы двадцати двух лет уже известны…
Он молчал. Подходя уже к дому, он произнёс:
– Скверно, гадко; да как же кончить?
– Очень легко, – сказал я, – вы первый начали смешивать их игру; они вам что-то сказали, а вы им вдвое, и наконец, не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они придут не с тем, чтобы становиться к барьеру, а с предложением помириться, то ведь честь ваша не пострадает.
Он долго молчал и, наконец, сказал по-французски:
– Это басни: они никогда не согласятся; Алексеев, может быть, – он семейный, но Теодор никогда: он обрёк себя на натуральную смерть, то всё-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим.
Я не отчаивался в успехе. Закусив, я уложил Пушкина, а сам, не спавши, дождался утра и в осьмом часу поехал к Орлову. Мне сказали, что он только что выехал. Это меня несколько озадачило. Я опасался, чтобы он не попал ко мне без меня: я поспешил к Алексееву. Проезжая мимо своей квартиры, увидел я, что у дверей нет экипажа; который, с радостью, увидел у подъезда Алексеева, а ещё более, и так же неожиданно, обрадовался, когда едва я показался в двери, как они оба в один голос объявили, что сейчас собирались ко мне посоветоваться, как бы окончить глупую вчерашнюю историю.
– Очень легко, – отвечал я им, – приезжайте в 10 часов, как условились, ко мне; Пушкин будет, и вы прямо скажете, чтобы он, так как и вы, позабыл вчерашнюю жженку.
Они охотно согласились. Но Орлов не доверял, что Пушкин согласится. Возвратясь к себе, я нашёл Пушкина вставшим и с свежей головой обдумавшим вчерашнее столкновение.
На сообщенный ему результат моего свидания он взял меня за руку и просил, чтобы я ему сказал откровенно: не пострадает ли его честь, если он согласится оставить дело? Я повторил ему сказанное накануне, что не они, а он их вызвал, и они просят мира.
– Так чего же больше хотеть?
Он согласился, но мне всё казалось, что он не доверял, в особенности Орлову, чтобы этот отложил такой прекрасный случай подраться; но когда я ему передал, что Фёдор Фёдорович не хотел бы делом этим сделать неприятное брату, – Пушкин, казалось, успокоился. Видимо, он страдал только потому, что столкновение случилось за бильярдом, при жжёнке:
– А не то славно бы подрался; ей-богу, славно!
Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Все было сделано, как сказано; все трое были очень довольны; но мне кажется, все не в той степени, как был рад я, что не дошло до кровавой развязки: я всегда ненавидел роль секунданта и предпочитал действовать сам. За обедом в этот день у Алексеева Пушкин был очень весел и, возвращаясь, благодарил меня, объявив, что если, когда представится такой же случай, то чтобы я не отказал ему в советах – и пр.».
Дуэль могла быть очень серьёзной, и исход её трудно предвидеть. Но снова рядом с Пушкиным оказались люди, которым дорог был и сам Александр Сергеевич, и его поэтическое творчество. Не все, далеко не все литераторы, к большому сожалению, были таковыми, как Иван Иванович Лажечников, как Александр Фомич Вельтман, как Владимир Александрович Соллогуб. Вспомним, как стрелял в Пушкина мнивший себя поэтом Рылеев. Неслучайно он оказался в рядах врагов Российской империи, пытавшихся сокрушить её в декабре 1825 года.
Между тем Пушкин словно притягивал к себе острые ситуации. И всякий раз конфликты завершались если и не поединками, то приглашениями к ним.









































