Текст книги "Последние дуэли Пушкина и Лермонтова"
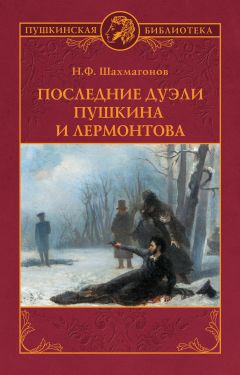
Автор книги: Николай Шахмагонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Дуэль из-за «Чёрной шали»
В Кишинёве Александр Сергеевич, несмотря на свои шалости, многие из которых были связаны именно с дуэлями, постоянно и плодотворно работал. Буквально в первые дни своего пребывания в этом городе он написал романтическое произведение «Дочери Карагеоргия».
Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца, он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный…
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар
И лепет твой внимал, и не был чужд веселью!
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнию пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.
Это стихотворение вошло затем в цикл «Песен западных славян» и посвящено гибели бывшего господаря Сербии Карагеоргия (Чёрного Георгия), бежавшего из Сербии в 1813 году в Бессарабию и скрывавшегося в Хотине. А в Сербии после побега господаря бывший его соратник Милош Обренович сумел наладить отношения с турками, которые признали его «кнезом». В 1815 году Обренович снова поднял восстание против турецкого владычества. Полагая, что настал час полного освобождения, Карагеоргий в 1817 году вернулся тайно в Сербию. Это не устраивало Милоша Обреновича, и он сообщил туркам, где скрывается Карагеоргий. По их приказу он убил соперника, а голову убитого отправил белградскому паше. Эта история поразила Пушкина, узнавшего о ней в Кишинёве, и он рассказал о ней в своих поэтических произведениях «Дочери Карагеоргия», в «Песне о Георгии Чёрном» и «Воевода Милош».
Стихотворение «Дочери Карагеоргия» сразу привлекло внимание к поэту. А он продолжал работу и вскоре, спустя примерно месяц после приезда в Кишинёв, набросал вчерне новое стихотворение, которое загадочно назвал «Чёрная шаль».
Гляжу, как безумный, на чёрную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил;
Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до чёрного дня.
Однажды я созвал весёлых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей;
«С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя».
Я дал ему злата и проклял его
И верного позвал раба моего.
Мы вышли; я мчался на быстром коне;
И кроткая жалость молчала во мне.
Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог…
В покой отдалённый вхожу я один…
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел…
Прервать поцелуя злодей не успел.
Безглавое тело я долго топтал
И молча на деву, бледнея, взирал.
Я помню моленья… текущую кровь…
Погибла гречанка, погибла любовь!
С главы её мёртвой сняв чёрную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.
Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.
С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю весёлых ночей.
Гляжу, как безумный, на чёрную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Кишинёвский знакомец Пушкина – другом и даже приятелем его назвать трудно, в связи с его участием в провоцировании последней дуэли Пушкина – В. П. Горчаков, оставивший воспоминания о пребывании поэта в Бессарабии, назвал это произведение «драматической песней, выражения самой знойной страсти».
Известный мемуарист барон Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) в своих знаменитых «Записках» поведал:
«…В Кишинёве проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо и, что довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была не высока ростом, худощава, и черты у неё были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица её прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У неё был голос нежный, увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них, с её слов, Пушкин переложил на русский язык, под именем “Чёрной шали”. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она ещё языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении её, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если б она жила в век Перикла, история, верно, сохранила бы нам её вместе с именами Фрины и Лаисы…»
А Иван Петрович Липранди (1790–1880) в «Дневнике и воспоминаниях», посвящённом пребыванию Пушкина в Кишиневе, прибавил к тому:
«…Третий субъект был армянин, коллежский советник Артемий Макарович Худобашев, бывший одесский почтмейстер. Худобашев в “Чёрной шали” Пушкина принял на свой счёт “армянина”. Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя и, как только увидит Худобашева (что случалось очень часто), начинал читать “Чёрную шаль”. Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно оканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приёмов Пушкина с некоторыми и другими), приговаривая: “Не отбивай у меня гречанок!” Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником…»
Однако эта самая «Чёрная шаль» едва не привела к поединку…
В. П. Горчаков вспоминал:
«…В то утро много было говорено о так названной Пушкиным Молдавской песне “Чёрная шаль”, на днях им только написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре; Пушкин это заметил и по просьбе моей и Орлова обещал мне прочесть её; но, повторив вразрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошёл Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался. Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребёнок, стал, шутя, затрогивать его рапирой. Друганов отвёл рапиру рукою, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить раздор новых моих знакомцев, я снова попросил Пушкина прочесть мне Молдавскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением; каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением. При этом я не могу не вспомнить одно моё придирчивое замечание: как же, заметил я, вы говорите: “в глазах потемнело, я весь изнемог”, и потом: “вхожу в отдалённый покой”.
– Так что ж, – прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница, – это не значит, что я ослеп.
Сознание моё, что это замечание придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню.
– Да за что же? – спросил я.
– Он думает, – отвечал Пушкин, прерывая смехом слова свои, – что это я написал на его счёт.
– Странно, – сказал я и вместе с тем пожелал видеть этого армянина – соперника мнимого счастливца с мнимой гречанкой.
И, Боже мой, кого ж я увидел, если б вы знали! самого неуклюжего старичка, армянина, – впоследствии общего нашего знакомца, Артемия Макаровича, которым я не могу не заняться.
– Да, оно, конечно, – говорил Артемий Макарович, – оно, конечно, всё правда, понимаю; да зачем же Пушкину смеяться над армянами! Каково покажется: “Чёрная шаль”, эта драматическая песня, выражение самой знойной страсти, есть насмешка над армянами! Но где тут насмешка и в чём, кто его знает!
А между тем тот же Артемий Макарович под влиянием своих подозрений, при толках о Пушкине, готов был ввернуть своё словцо, не совсем выгодное для Пушкина, и таким-то образом нередко Пушкин наживал врагов себе…»
Сначала Пушкин назвал стихотворение «Молдавской песней», но затем всё же решил – это «Чёрная шаль».
Ну а вызов Пушкиным на дуэль егерского штабс-капитана Ивана Друганова, который служил адъютантом генерала М. Ф. Орлова, удалось расстроить и противников примирить.
Национальное качество – подлость
Вторая кишинёвская дуэль намечалась с тем человеком, национальное качество которого – подлость, то есть с соотечественником будущего убийцы поэта, с отставным французским офицером Дегильи.
Дегильи был слабохарактерным человеком, и жена вертела им как хотела. К тому же француз был несколько трусоват, как, впрочем, и большинство его соотечественников. Ну и тоже национальная особенность – подлость – была его непременным качеством.
Пушкин, заметив, что Дегильи находится полностью под каблуком у жены, высмеял его, что привело француза в негодование. Посыпались оскорбления в адрес поэта, чего тот, конечно же, стерпеть не мог.
Последовал вызов на дуэль.
Дегильи, поскольку у него не было, как впоследствии у Дантеса, кольчуги, да и не могло быть, драться отказался. Мало того, стал жаловаться всем подряд в кишинёвском обществе, что Пушкин хочет его убить.
Отказ от поединка в ту пору был делом неслыханным. 6 июня 1821 года Пушкин, который прекрасно рисовал, написал Дегильи жёсткое письмо, где не только называл его трусом, но и нарисовал карикатуру.
Ну а письмо было очень и очень резким. Пушкин гневно писал:
«К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера. Недостаточно быть трусом, нужно ещё быть им в открытую.
Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слёзных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта.
Всё то, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился об заклад.
Теперь всё кончено, но берегитесь.
Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете.
6 июня 1821.
Пушкин».
А потом прибавил постскриптум:
«Заметьте ещё, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли».
Пушкинист Яков Аркадьевич Гордин пояснил фразу «осуществить свои права русского дворянина» следующим образом:
«Дворянин не имеет права вмешивать государство – городские власти – в дуэльные дела, то есть прибегать к защите закона, запрещающего поединки.
Дворянин не имеет права опускаться на недворянский уровень поведения.
Опускаясь на подобный уровень, он лишает себя права на уважительное, хотя и враждебное поведение противника, и должен быть подвергнут унизительному обращению – побоям, публичному поношению. Он ставится вне законов чести… И не потому, что он вызывает презрение и омерзение сам по себе, а потому главным образом, что он оскверняет само понятие человека чести – истинного дворянина.
Отказ дворянина от дуэли представляется… пределом падения, несмываемым позором».
И ещё один момент….
Поединок на саблях Пушкин упомянул неслучайно. Ему уже приходилось иметь дело не только с холодным оружием, но и с иными видами огнестрельного, когда вызвал на дуэль тоже француза, из эмигрантов.
Барон де С…, по праву вызванного, мог выбрать оружие, но зная, что Пушкин прекрасно стреляет из пистолета, предложил поединок с использованием ружей.
Благодаря такому выбору, который рассмешил секундантов и заставил, в конце концов, улыбнуться противников, удалось достичь примирения сторон. Дуэль не состоялась.
Завтрак под дулом пистолета
Вспыльчивый характер Пушкина и его щепетильность нередко приводили к ссорам. Особенно щепетилен поэт был в отношениях с военными. Воин в душе и отважный воин, что он доказал участием в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, он неуютно чувствовал себя в штатском мундире, когда рядом были бравые военные. И, видимо, это заставляло его болезненно реагировать на неосторожное словцо или острую шутку, которой порой отпустивший её и не стремился задеть поэта.
Ссора с прапорщиком Генерального штаба Александром Николаевичем Зубовым произошла вскоре после приезда Пушкина в Кишинёв. Прапорщик Генерального штаба! Странное воинское звание. Одно дело – полковник, другое – прапорщик. Но полковник вполне мог заниматься оперативно-тактическими вопросами, а вот прапорщик. Это, скорее всего, разведка. Ну и сотрудник Коллегии иностранных дел – это тоже фактически разведчик.
Развлечений в городе было немного. Ну что ж, в ту пору молодые люди находили занятия хоть и не слишком праведные, но позволяющие коротать время. Играли в карты. Пушкин слыл неплохим игроком. Однажды выпало играть, как уже упоминалось, с прапорщиком Александром Зубовым.
Существует несколько версий ссоры. По одной из них, Зубов, проигрывая, стал жульничать. Ну а шуллерство порицалось в любой среде, тем паче в военной. Пушкин же вписался в эту среду и жил по её законам.
Заметив, что Зубов жульничает, он заявил об этом и вывел его на чистую воду.
Зубов вскочил с места, стал оправдываться, дерзить. В конце концов, всё окончилось ссорой и приглашением к поединку.
Есть и другая версия. По ней Пушкин будто бы проиграл очень крупную сумму. Увы, случалось и такое. Проиграть проиграл, а платить нечем. Тут для ясности надо сказать, что расплачивался он всегда честно. И в данном случае не собирался отказываться от долга. Но куда же деть досаду и раздражение?! Видно, захотелось немного позлить сиявшего от удовольствия партнёра, ну и бросил весьма дерзкую фразу, мол, сумма то слишком велика. Нельзя же подобные суммы выплачивать, если даже и проиграл. Партнёр вспылил, произошла ссора.
Которая из версий предпочтительнее, сказать трудно. Впрочем, итог один. Дуэль! Условились драться на весьма жёстких условиях. Поединок на дистанции 12 шагов – часто оказывался смертельным.
Пушкин обладал необыкновенным мужеством. Он словно играл с судьбой, порою открыто демонстрируя равнодушие к смерти.
Военный историк Иван Петрович Липранди (1790–1880), деятель тайной полиции и автор воспоминаний о Пушкине, писал:
«Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертию, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случалось не только что видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком же положении, а подобной натуры, как у Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного. Эти две крайности, в той степени, как они соединялись у Александра Сергеевича, должны быть чрезвычайно редки. К сему должно еще присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным до его рассудка».
И вот на место дуэли Пушкин пришёл тот раз с одним секундантом и с полной фуражкой черешни.
Вспомним рассказ «Выстрел»…
«Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шёл пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства… Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моём. Я опустил пистолет.
– Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему, – вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать.
– Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остаётся за вами; я всегда готов к вашим услугам.
Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился».
Так в рассказе. Теперь посмотрим, как было в жизни.
Пока прапорщик Зубов готовился к своему выстрелу, пока наводил пистолет, Пушкин преспокойно ел черешню ровно так, как описано в рассказе.
Наконец, Зубов выстрелил и промахнулся. Видимо, подействовала на него неустрашимость и невозмутимость Пушкина. Тогда Пушкин, как вспоминал впоследствии Владимир Горчаков, спокойно подошёл к противнику и поинтересовался: «Довольны вы?»
Растроганный Зубов бросился к Пушкину, пытаясь его обнять, но тот отстранился, заявив: «Это лишнее». И спокойно пошёл прочь.
Интересно, что Александр Зубов по материнской линии был внуком Александра Васильевича Суворова. Его мать – знаменитая Наташа-Суворочка, о которой великий полководец говорил: «Смерть моя для Отечества – жизнь моя для Наташи», а вот по отцовской линии похвастать прапорщику нечем. Отец, сановный уголовник Николай Зубов, тот самый мерзавец, который первым нанёс удар украденной им в суматохе золотой табакеркой в висок Павлу Петровичу. Ну а дед – дед, названный И. М. Долгоруковым в «Повести о рождении моём, происхождении и всей жизни…» самым «бесчестнейшим дворянином во всём государстве», запятнавшим себя «целым рядом вопиющих нарушений законов», и «главной причиной всех его поступков было его ненасытное корыстолюбие».
Ну что ж, в зубовском отпрыске сыграла свою роль кровь великого Суворова, и ему, по крайней мере, хватило сил поблагодарить Пушкина за дарованную ему жизнь, ибо, реши Пушкин стрелять, исход был бы определён. Пушкина называли «огненным стрелком». На промах его противникам рассчитывать не приходилось, оттого-то многие дуэли и заканчивались примирением до их начала.
«…дело с храбрым и хладнокровным человеком…»
В. П. Горчаков рассказал и о таком случае:
«Пушкин… имел столкновение… с командиром одного из егерских полков наших, замечательным во всех отношениях полковником С. Н. Старовым. Причина этого столкновения была следующая: в то время вы, верно, помните, так называемое Казино заменяло в Кишиневе обычное впоследствии собрание, куда все общество съезжалось для публичных балов. В кишиневском Казино на то время ещё не было принято никаких определительных правил; каждый, принадлежавший к так называемому благородному обществу, за известную плату мог быть посетителем Казино; порядком танцев мог каждый из танцующих располагать по произволу; но за обычными посетителями, как и всегда, оставалось некоторое первенство, конечно, ни на чём не основанное. Как обыкновенно бывает во всём и всегда, где нет положительного права, кто переспорит другого или, как говорит пословица: “Кто раньше встал, палку взял, тот и капрал”. Так случилось и с Пушкиным. На одном из подобных вечеров в Казино Пушкин условился с Полторацким и другими приятелями начать мазурку; как вдруг никому не знакомый молодой егерский офицер полковника Старова полка, не предварив никого из постоянных посетителей Казино, скомандовал играть кадриль, эту так называемую русскую кадриль, уже уступавшую в то время право гражданства мазурке и вновь вводимому контрдансу, или французской кадрили. На эту команду офицера Пушкин по условию перекомандовал:
– Мазурку!
Офицер повторил:
– Играй кадриль!
Пушкин, смеясь, снова повторил:
– Мазурку! – и музыканты, несмотря на то что сами были военные, а Пушкин фрачник, приняли команду Пушкина, потому ли, что он и по их понятиям был не то что другие фрачники, или потому, что знали его лично, как частого посетителя: как бы то ни было, а мазурка началась. В этой мазурке офицер не принял участия. Полковник Старов, несмотря на разность лет сравнительно с Пушкиным, конечно, был не менее его пылок и взыскателен, по понятиям того времени, во всём, что касалось хотя бы мнимого уклонения от уважения к личности, а поэтому и неудивительно, что Старов, заметив неудачу своего офицера, вспыхнул негодованием против Пушкина и, подозвав к себе офицера, заметил ему, что он должен требовать от Пушкина объяснения в его поступке.
– Пушкин должен, – прибавил Старов, – по крайности, извиниться перед вами; кончится мазурка, и вы непременно переговорите с ним.
Неопытного и застенчивого офицера смутили слова пылкого полковника, и он, краснея и заикаясь, робко отвечал полковнику:
– Да как же-с, полковник, я пойду говорить с ним, я их совсем не знаю!
– Не знаете, – сухо заметил Старов, – ну так и не ходите; я за вас пойду, – прибавил он и с этим словом подошёл к Пушкину, только что кончившему свою фигуру.
– Вы сделали невежливость моему офицеру, – сказал Старов, взглянув решительно на Пушкина, – так не угодно ли вам извиниться перед ним, или вы будете иметь лично дело со мною.
– В чём извиняться, полковник, – отвечал быстро Пушкин, – я не знаю; что же касается до вас, то я к вашим услугам.
– Так до завтра, Александр Сергеевич.
– Очень хорошо, полковник.
Пожав друг другу руку, они расстались. Мазурка продолжалась, одна фигура сменяла другую, и на первую минуту никто даже не воображал о предстоящей опасности двум достойным членам нашего общества. Все разъехались довольно поздно. Пушкин и полковник уехали из последних. На другой день утром, в девять часов, дуэль была назначена: положено стрелять в двух верстах от Кишинева; Пушкин взял к себе в секунданты Н. С. Алексеева. По дороге они заехали к полковнику Липранди, к которому Пушкин имел исключительное доверие, особенно в делах этого рода, как к человеку опытному и, так сказать, весьма бывалому. Липранди встретил Пушкина поздравлением, что он будет иметь дело с благородным человеком, который за свою честь умеет постоять и не способен играть честию другого. Подобные замечания о Старове и мы не раз слыхали, и не от одного Липранди, а от многих, и между многими можем назвать: Михаила Федоровича Орлова, Павла Сергеевича Пущина, этих участников в битвах 12-го года и под стенами Парижа, где и С. Н. Старов также участвовал, и со славою, ещё будучи молодым офицером. Мы не имели чести видеть Старова в огне, потому что сами в то время не служили и не могли служить; но зато впоследствии, смеем уверить каждого, мы ни разу не слышали, чтоб кто-нибудь упрекнул Старова в трусости или в чем-либо неблагородном. Имя Семена Никитича Старова всеми его сослуживцами и знакомыми произносилось с уважением».
Иван Петрович Липранди прибавляет к рассказу В. П. Горчакова свои сожаления о том, что не был в момент ссоры среди той публики, при которой она произошла. Да и вообще он узнал о предстоящем поединке слишком поздно. Из воспоминаний Липранди становится ясно, сколько опасен был данный вызов, сделанный в горячности Пушкиным. Ведь он вызвал боевого офицера, которому не впервой быть под пулями.
И. П. Липранди рассказал следующее:
«В семь часов утра я был разбужен Пушкиным, приехавшим с Н. С. Алексеевым. Они рассказали случившееся. Мне досадно было на Старова, что он в свои лета поступил, как прапорщик, но дела отклонить было уже нельзя, и мне оставалось только сказать Пушкину, что “он будет иметь дело с храбрым и хладнокровным человеком, непохожим на того, каким он, по их рассказам, был вчера”. Я заметил, что отзыв мой о Старове польстил Пушкину. Напившись чаю, Алексеев просил меня ехать с ними; я долго не соглашался, на том основании, что если я поеду, то Пушкин будет иметь двух свидетелей, а Старов – одного: в таком случае должно было бы предупредить его вчера; но потом я рассудил, что бой будет не ровный, на том простом основании, что Пушкин был так молод, неопытен, и хоть в минуты опасности я думал, что он будет хладнокровным, но с его чрезвычайною пылкостью от самой ничтожной причины он очень легко мог выйти из подобного положения. Секундант его, правда, обладал невозмутимым хладнокровием, но в таких случаях был также неопытен, между тем как Старов был в полном смысле обстрелянный, и что меня более всего пугало, то это – необразованность его, как светского человека и не знающего значения некоторых слов, а одно такое, будучи произнесено без всякого умысла, было бы достаточно, чтобы произвести взрыв в Пушкине».
Таким образом, повторю, Пушкин собирался драться с человеком опытным, причём обстрелянным в настоящих боях, не раз продемонстрировавшим храбрость, выдержку, хладнокровие.
Несколько уравновешивало ситуацию то, что Николай Степанович Алексеев (1788–1854), избранный Пушкиным в секунданты, был офицером боевым, участником Отечественной войны 1812 года. Его однокашник по французскому пансиону Филипп Филиппович Вигель писал в связи с его назначением в Одессу в распоряжение генерала А. Н. Бахметева:
«Алексеев с лощёных паркетов, на коих вальсировал в Москве, шагнул прямо к ломберному столу в гостиной Бахметева. Больших рекомендаций ему было не нужно; его степенный, благородный вид заставлял всякого начальника принимать его благосклонно. В провинциях, кто хорошо играет в карты, скоро становится нужным человеком, и он сделался домашним у Бахметева».
Липранди отмечал:
«В это время Алексеев свёл близкое знакомство с Пушкиным, будучи, “вполне достоин дружеских к нему отношений”».
По словам пушкиниста, «в Кишиневе возле Пушкина не было человека более преданного и любящего», нежели Алексеев.
Некоторое время поэт жил в одной комнате с Алексеевым в доме у Красной Мельницы (не сохранился). Оба приятеля – «Орест и Пилад», как называли их в Кишинёве, – вступили в масонскую ложу «Овидий». В марте 1822 года Пушкин пишет:
Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом,
И не видался я
Давно с моим Орестом…
Пушкин посвятил Алексееву несколько своих поэтических произведений, в частности «Приятелю»:
Не притворяйся, милый друг,
Соперник мой широкоплечий!
Тебе не страшен лиры звук,
Ни элегические речи.
Дай руку мне: ты не ревнив,
Я слишком ветрен и ленив,
Твоя красавица не дура;
Я вижу всё и не сержусь:
Она прелестная Лаура,
Да я в Петрарки не гожусь.
«В 1821 году Алексеев состоял в Кишинёве чиновником особых поручений при генерале Инзове. По сведениям Вигеля, выпросил себе эту позицию, чтобы быть рядом со своей возлюбленной, прозванной Еврейкой за сходство с героиней романа “Айвенго”».
Ф. Ф. Вигель писал:
«Страстно влюблённый, счастливый и верный, он являл в себе неслыханное чудо. Он был в связи с женою одного горного чиновника Эйхфельда, милой дочерью боярина М. Е. Мило; а для милой чем не пожертвуешь!»
Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты:
Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты:
Свободы друг миролюбивый,
В толпе красавиц молодых,
Я, равнодушный и ленивый,
Своих богов не вижу в них.
Их томный взор, приветный лепет
Уже не властны надо мной.
Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой.
Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно.
Прошёл веселый жизни праздник.
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надёжной?»
И ничего не нахожу.
Оставя счастья призрак ложный
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Когда любовник исступленный,
Тоскуя, плачет предо мной
И для красавицы надменной
Клянется жертвовать собой;
Когда в жару своих желаний
С восторгом изъясняет он
Неясных, тёмных ожиданий
Обманчивый, но сладкий сон
И, крепко руку сжав у друга,
Клянет ревнивого супруга,
Или докучливую мать, –
Его безумным увереньям
И поминутным повтореньям
Люблю с участием внимать:
Я льщу слепой его надежде,
Я молод юностью чужой
И говорю: так было прежде
Во время óно и со мной.
Расставаясь с Пушкиным, Липранди выразил опасение, что очень может статься, что на этот день дуэль не будет кончена.
– Это отчего же? – быстро спросил Пушкин.
– Да оттого, – отвечал Липранди, – что метель будет.
Метель действительно помешала. Об этом рассказал сам Липранди со слов Пушкина и Алексеева, которых встретил возвращающимися с места поединка:
«За всем тем, однако же, я обещал быть, но с условием, что заеду предупредить Старова, чтобы и он взял ещё одного свидетеля; но если он не успеет, то, конечно, поверит мне и сам, в чем я не сомневался. Формальность при таких случаях неотменно должна быть выполнена, а так как остается ещё полтора часа времени, то я заеду с ответом к Алексееву, мимо которого должно будет ехать в Рышкановку. Мы выехали вместе; Старов, с полчаса передо мной, уехал к подполковнику Дережинскому, но и у него я никого не застал и поспешил к Алексееву. Они, обдумав, признали, что без согласия Старова мне быть на месте неловко, а потому согласились на предложение мое находиться на всякий случай вблизи, и мы отправились, ибо время уже подходило. На вопрос Алексеева об условиях я просил его только одного, чтобы барьер был не менее двенадцати шагов и отнюдь не соглашаться подходить ближе. Старов был вовсе не мастер стрелять, Пушкин, хотя иногда и упражнялся, но, лучше сказать, шалил, а потому оба, конечно, поспешат сойтися, и тогда последствия будут ужасны. Пушкин горел нетерпением; я ему что-то заметил, но он мне отвечал, что неотменно хочет быть на месте первый. Я остановился в одной из ближайших к месту мазанок. Погода была ужасная; метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета, и к этому довольно морозно. Войдя в мазанку, я приказал извозчику посматривать на дорогу или, скорее, прислушиваться колес, не поедет ли кто из города, и дать мне знать; я все ещё думал встретить Старова, но напрасно. Через час я увидел Алексеева и Пушкина возвращающимися и подумал, что успех остался за ними. Но вот что тут же я узнал от них. Первый барьер был на шестнадцать шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже и просил поспешить зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: “И гораздо лучше, а то холодно”. Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Мороз с ветром, как мне говорил Алексеев, затруднял движение пальцев при заряжении. Барьер был определён на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было помирить их, то поединок отложен до прекращения метели. Дрожки наши, в продолжение разговора, догребли в город, ехали рядом и шагом, ибо иначе было нельзя. Я отправился прямо к Старову. Застав его за завтраком, рассказал ему, где я был. Он упрекнул меня за недоверие к нему и пригласил быть свидетелем, как только погода стихнет. Когда полковой адъютант вышел и мы остались вдвоем, я спросил его, как это пришло ему в голову сделать такое дурачество в его лета и в его положении? Он отвечал, что и сам не знает, как все это сошлось; что он не имел никакого намерения, когда подошел к Пушкину. “Да он, братец, такой задорный”, – присовокупил он. “Но согласись, с какой стати было тебе, самому не танцующему, вмешиваться в спор двух юношей, из коих одному хотелось мазурки, другому вальса?” На это он мне сказал, что всему виноват его офицерик, отказавшийся объясниться с Пушкиным. На замечание моё, что если офицер его был виноват, то он имел свою власть взыскать с него и даже выгнать из полка, а прилично ли ему взять на себя роль прапорщика и привязаться к молодому человеку, здесь по воле государя находящемуся и уже всем известному своими дарованиями? “Ну ты бы убил его, ведь все были бы твоими врагами, в особенности когда бы узнали повод к дуэли”, и пр. Это несколько подействовало на него, и он начал было соглашаться, что ему не следовало вмешиваться, и заключил тем, что теперь уже делать нечего, надо кончить, и просил меня, если я увижу Алексеева, сказать ему, что не худо поспешить. “Покончить можно в клубной зале”, – прибавил он.









































