Текст книги "Духов день (сборник)"
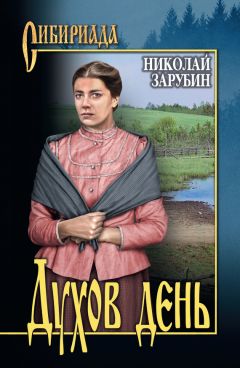
Автор книги: Николай Зарубин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
И откуда им взяться? Скальный берег реки Ии – с одной стороны. Невысокий, поросший ивняком и черемуховыми кустами берег речки Курзанки, впадающей в неё, – тут же. Со стороны Тулуна подпирают деляны опытной станции. Остается урочище Угуй – место ладное, на которое зарились и заводские.
Правда, после двух войн – германской и Гражданской – народу заметно поубавилось, хоть и старался сибирский мужик меньше влазитъ в братоубийственную свару. Но в первую брали не спрося, от второй убежать и того было труднее – убежишь разве от своего же соседа, ежели приспичило ему перекраситься в красный цвет и драть горло за мировую революцию? Такой скорей любого чужого придвинется с ножом к горлу – и коровёнку порешит, и лошадёнку со двора сведет.
Приглядываясь к хозяйству Устина, не могла поначалу надивиться, как это он скотину умудрился уберечь. Две дойных коровы, три телка, две лошади и вся к ним справа. Водилось и зерно, имелось пчелиных колод эдак с пяток.
Потихоньку-помаленьку голова приходила в ясность, глаза примечали недоброе.
Неспроста, видно, родитель посватал Устину Ульяну – дочь Полину. Ох неспроста… Всё вызнал, все просчитал. И разговор у хитрого Федота с сыном состоялся в своё время основательный. Не на девице красной женил, на наследстве, которому молодые руки жадного до богачества Устина были в самую пору.
Знал Федот и о зверском отношении сына к супруге. Знал, да помалкивал, кося глазом в сторону своей половины. Он и сам женился с соображением, и сам в молодости не щадил её даже при подрастающих детях. «Жена, что норовистая кобылица, – любил говаривать, – бей, ежели уросит, но пуще того, ежели не уросит… Наперед, чтоб не баловала…»
Поговаривали в Афанасьеве, что Федот связан не то с цыганами, не то ещё с кем. Основанием для того служили частые отъезды старшего Брусникина из деревни, особенно в базарные дни. Брал с собой старшего сына Павла, а однажды привёз его в санях подстреленным. Насмерть. Далеко слышно было, как голосила по сыну мать – поначалу от горя голосила, а потом и от науки Федотовой, чтобы не выкрикивала лишнего, поскольку Пелагея, забывшись, в причитаниях своих винила в смерти Павла самого Федота.
Поездки свои Брусникин стал совершать реже, но младшего своего, Устина, с собой уже не брал, желая, видно, поостеречь его от участи старшего сына.
С годами остарел и к началу германской выезды, можно сказать, бросил совсем, не заказав, однако, дорогу к жилищу своему сумрачному, не известному на деревне люду. То ли для схорону везли те люди к Федоту награбленное-наворованное – никто ведь не заглядывал в возки. То ли для совета. То ли ещё для чего. Но что везли – точно: видели люди, как носили в амбар поклажу. А с переездом Устина в Завод стали заезжать и туда – одно племя-то, брусникинское. Да и фамилия – Брусникины – как нельзя лучше к ним лепилась: с виду вроде люди, а копни глубже – звери. Короче, ягода не ягода – кровь алая, запёкшаяся…
И чего ездили – бог весть. Ездили при Ульяне, наехали тут на днях и при Настасье.
Незнакомые всё, но один – гривастый и безбородый – всё же встречался ей: видела его с племянницыным дружком.
Собрала на стол, сам Устин припёр четверть самогону, а потом, отозвав её в куть, просительно выговорил:
– Ты бы, Настасьюшка, не глазела на нас, на мужиков, сходила бы куда, чё ли?..
Понятно, не хотят свидетелей иметь. Глянула на него исподлобья и вышла.
Заделье, конечно, найти можно было и во дворе, но вдруг впервые за эти, почитай, два месяца жизни с Устином заворочались пока мало понятные ей самой мстительные мысли в мозгу, так что присела на притулившуюся возле бани лавчонку и не шутя призадумкалась.
– Так-так-так… – пробормотала в конце концов и, будучи уверена, что её никто не видит, направилась к телеге, на которой приехали непрошеные гости.
– Так-так-так… – продолжала бормотать, шаря рукой под рогожиной.
Верёвка, топор, две культяпки обрезанных винтовок. Подскочил Петька.
– Мам, чего здесь?
– Иди, иди, Петенька, – попробовала уйти от ответа, но тот уже шарил под рогожиной сам, вытаскивая и тяжёлую кожаную сумку, как видно, с патронами, и обрез.
– Чего дерёшься-то? – огрызнулся, когда, испугавшись и собственного, и сыновнего своеволия стукнула парня ладонью по затылку. – Такой я у дядьки Устина давно видел, ещё как приехали…
– Видел, говоришь? Где видел?
И парень уже за амбаром, куда она его затащила, рассказал, как обратил внимание на то, что дядька Устин, поминутно озираясь, прятал что-то под крышу бани, и как он потом нашарил тряпицу, а в ней обрез.
– У тятьки был револьвер «бульдожка», – частил Петька, – а у дяди Устина – обрез, как у бандита.
– А тебя дядя Устин не видел?
– Не-е-е, – уверенно мотнул головой Петька, – он как раз в Завод ездил. А щас его там нет, – выпалил напослед.
– Так-так-так, – в раздумьи застыла Настасья и, ничего более не прибавив, вернулась к лавчонке, где и просидела, пока Устин не выпроводил гостей и не подошёл к ней – пьяный не пьяный, но и не в меру весёлый.
– Ах, и заживём мы с тобой, жёнушка, – попробовал облапать. – Скорей бы уж власть кака определилась, а то и не знашь, каку комедию ломать…
– Женой-то из-под венца становятся, а я тебе – сожительница, – не сдержала себя Настасья, отводя его руки.
– Да, чё ты в сам дели? – обиделся Устин. – Кака ты пара хоть той же покойнице Ульяне?..
– Укатал небось Ульяну-то? – поддела за живое.
– Поди ты! – плюнул, обозлившись. Не обращая на неё больше внимания, затянул:
Пое-е-хал я во чи-и-сто поле,
По се-е-рцу де-е-вицу сыска-а-ть…
– Сыскал? – оборвала.
– И-их же ж, кака ты вредна… Сыскал тебя вот с тремя детишками. Один волчонком глядит – не заметишь, как оперится да с ножом к горлу подступит. Друга всё бочком, да по стеночке – к матери. Третий – вопче дитя несуразное.
И загоготал.
– Скока кругом и баб, и девок – бери не хочу. А я вот к одной присох почитай два десятка лет. Заграбастал – всё не моя.
– Мне пожитки недолго собрать, – притворно обиделась Настасья. – Серко живо до Афанасьева домчит.
– А и не стану держать, – так же притворно храбрился Устин. – Свово Быстрого впрягу в ходок – вот он стоит, с ноги на ногу переминается.
– И не пожалешь коня-то? Для других делов он у тебя вить…
– Да-а, – протянул Устин, будто в раздумье. – Вынесет, не приметишь, как в тёмном лесу окажешься…
– Два месяца гляжу, всё понять не могу, – как это обошли тебя напасти-ужасти. У людей, у которых ни кола, ни двора не осталось, живут – животы подтянули. У тебя ж с Тимкой Дрянных – полна чаша всего.
– У нас, Настасьюшка, у нас с тобой, – придвинулся, дыша в щёку сивухой.
– А наше ли это, Устинушка?..
Отстранился, почуяв недобрые нотки в голосе женщины. Глядел некоторое время, будто спал да проснулся и не может понять, сон ли продолжается, явь ли перед ним.
Отвернулся, загорланил:
А в по-оле чи-истом моя до-оля —
Тоска серде-ечна-ая, то-оска…
– Чего тоска-то давит? – продолжала теребить.
– Детишек бы нам совместных, – и впрямь проговорил с неподдельной тоской в потускневшем голосе. – К твоим с Сёмкой да наши опчие – вот и семья.
– Да хватит ли добра на прокорм? – допытывала, увлечённая своей неспроста затеянной словесной игрой.
– Хватит, бабынька, хватит.
У меня добра,
Ой, полна су-у-ма-а…
Осёкся. Замолчал.
– Ну ладно, – поднялась, – с тобой весело, а мне коровёнок доить.
Подкатился к ногам безгласный Капка, ухватил за коленки, замычал. То ли кушанка хорошая сказалась, то ли ещё чего, а встал на ноженьки на тихую радость матери.
Вот для кого согласилась она на предложение Устина, на сытую жизнь позарилась.
Скоро четыре года, а всё несмышлёныш. Скажешь – не слышит. Позовёшь – не откликается. Сколь раз пыталась пробиться к сознанию дитяти единокровного. Сколь раз, бывало, зовёт Капку Настасья – и не одна чёрточка в лице его не дрогнет… Копается в земельке, лепит ручонками податливый чернозём, пропускает сквозь пальцы, тянет в рот. Отвернётся Клашка, не доглядит мать – черней чёрного личико, и надо вести к корыту с водой, обмывать.
Нет для матери тяжельше тяжести, чем испытание юродивым дитём. Не отмахнёшься, не открестишься. В слезах только и отведёшь душу.
Припоминая давнишнее, не услышала, что стук молотка уж давно прекратился. Очнулась, когда вошёл Устин и, как показалось, недобрым взглядом скользнул по притулившемуся к ногам Настасьи ребёнку.
– Литовки – на мази, резать траву добро будут.
И требовательно:
– Сгоноши-ка чего на стол…
Этот приказливый тон в голосе мужика всё чаще в последнее время стал проявляться. Сперва вроде как за шутку принимала, за игру какую, мужиком затеянную. Потом смекнула – не шутит.
«Нет, голубок, – решила про себя тотчас, – помыкать ты мной не будешь. Я тебе не Ульяна…»
Раза два одёрнула, мол, сама знаю свою работу. Потишел, но не надолго. Что ж, поглядим, что дале будет.
Менялось и отношение Устина к ребятишкам. Поначалу и Петьке волосья потреплет, и Клашке ласковое слово найдёт, и Капку на ноге подержит. Теперь – не то.
«Може, я слепну материнской куриной слепотой? – думала, сомневаясь. – Семён, тот и время-то на детей не находил, а ничё не видела, будто так и нада… Этот же взял меня с троими. Шутка ли – обуза така…»
Но нет. Не мерещилось матери. Не слепла куриной слепотой. На Петьку покрикивал, за Клавдию корил, что мало помогает ей по хозяйству, Капку будто и не видел.
Поостереглась делать скорые выводы, решила поглядеть, что дальше будет.
Дальше случилось следующее.
Готовясь к покосу, хотел Устин подтесать черенок литовки. Схватился рубанка, а его на своём месте и нет. Кинулся, не разобравшись, к парнишке, собрал ручищей рубаху на груди.
– Тебе хто, паршивец, струмент дозволил брать?..
– Дя…дя…дя… – залепетал Петька с испугу. – Не брал я рубанка…
– А где же рубанок?..
На крик сына выскочила, дёрнула к себе парнишку, смело глянув в зелёные от злобы глаза мужика.
– Чё он с тебя доправлят?
– Ру…рубанок. А я не брал.
– Ах ты, дубина стоеросовая, ах, висельник, ты чё делал, када Тимка наехал?..
– Чё делал, чё делал, – теперь уже забормотал не ожидавший такого отпора Устин. – Строгал я…
– Вот там и ищи, где бросил за ради дружка закадычного!.. – И топнула ногой. – А парнишку не трожь!..
Голосок на последнем слове сорвался, будто литовка звякнула о камень. Устин насупился, пошёл под навес.
Молча устроились спать, молча чуть свет выехали на покос.
И прибавляло в ней чего-то такого, чему не могла, да и не умела дать названия. Позади, в не закатанной телегами, петляющей меж кочками и муравейниками ужимистой дороге, мерещилась бредущая с вытянутыми вперёд руками Ульяна, которую и видела-то она раз в церкви, приметную скорбной фигурой, скорей умаянной жизнью, чем лицом иль одёжей. В церкви-то всех разглядишь.
– Устина Брусникина?.. – переспросила ещё тогда удивлённая Настасья, сравнивая Ульяну с пышущим довольством Тимофеем Дрянных.
– Его, злыдня, касатка, – жамкнула проваленным ртом живущая по соседству с родителями старушонка.
От этих донёсшихся до неё, будто из загробного мира, слов на душе вдруг стало отчего-то зябко и тревожно.
Но ненадолго. Батюшка – отец Иаков – как всегда, служил истово, хор на клиросе подтягивал ему без устали; а сама она была в той женской поре, когда от ковша с водой отрываются только за тем, чтобы перевести дух.
Сожаление посетило её теперь. Позднее сожаление о том, что не дала себе труда доглядеть, допонять ту несчастную женщину, которая, как мерещилось, тащится вслед за телегой и не то молит быстрее соскочить с неё, не то укоряет за не принадлежащее Настасье место и грозит за это ещё горшей долей, чем доля безвременно сошедшей в землю страдалицы.
А и зачем ей было доглядывать-допонимать?.. Ей, теперь уже сполна хлебнувшей собственной вдовьей мурцовки, сполна хватившей лиха при живом, но далёком от жены и детей муже?..
И чья доля горше: Ульяны, не познавшей ни женского, ни материнского счастья, её – обманутой женщины, униженной матери, подвигнутой жизнью к тому, что смогла за кусок хлеба для своих единокровных деток запродать себя человеку, которого и разглядеть-то как следует не успела, не то чтобы полюбить?..
Настасья и Семён
С обидой в сердце оставил её на свете Семён.
Видела Настасья вдов, у которых кормильцы не возвернулись в японскую, а затем и в германскую. Худо, ежели куча детишек, но ещё горше, ежели никого. С детишками так-сяк, где общество подможет, где старшие мальцы подсобят. Жалели таковских бабёнок на миру, не давали помереть голодной-холодной смертью. Но вдесятеро тяжелее была доля не успевших народить потомство. Никто таковских не жалел и замуж не брал. Надсмеяться разве да бросить, что вещицу ненужную, поломанную. Платочком тёмным голову обвяжут и присыхают навечно к самой что ни на есть чёрной работе в избе сродственника ли, какого ли чужого человека, призревшего по убогости их и сиротству. И не было более скособочившихся избёнок на деревне, чем у вдов, более шатких прясел и заморенных коровёнок.
Не ведала, не думала и не гадала Настасья, что и ей одной коротать век, поднимать детей с мужем любимым, но бесконечно далёким от неё, чужим.
И всё-то у них было, а всё чего-то не хватало. Всё думу думал, книжки почитывал да по делам партейным хаживал, бросал на ночь глядя семью. Уйдёт, а она все окошки проглядит, от скрипа любого вздрагивая в полудрёме, в полузабытьи. А то и уедет: в Нижнеудинск, Иркутск, Читу. Ты жди-пожди муженька разлюбезного.
Иной раз зачнёт говорить, да так длинно и складно поведёт речь, что заслушается Настасья и ухват опустит и пригорюнится. Спроси её, о чём только что говорил Семён, – не скажет. О светлой жизни для трудящегося человека говорил, о братстве, о Ленине каком-то, который счастья всем людям желает. Но всё одна песня, слышенная ею на Мокром лугу в пору девичью, про старика с его сыновьями и мошнами на шее, с коими до старости бродили по белому свету, но счастья так и не сыскали. Ни для себя, ни для других. Единственной женщине – Аксинье – и той не привелось испытать женского счастья. Даже дитя не смогла после себя оставить.
Нет, нельзя, видно, разом для всех добыть счастье. Не желает того, верно, и Господь, коль равнодушно взирает с небес на земное копошение людишек, сталкивает их друг с дружкой лоб о лоб. Да благо бы чужого с чужим, а то своего со своим, как вот её, Настасью, с близким и родным ей человеком – Семёном, коего не переставала и не перестаёт любить она с самого девичества.
И что ей до мира, до братства, был бы дом – чаша полная, да детишки при отце-матери обихоженные. Да Богу свечку поставить в праздник престольный.
– Тёмная ты у меня, – обронил как-то.
– А ты, варначья твоя душа, до какой поры будешь меня с ребятишками бросать? – не выдержала Настасья. – Семьи у тебя нет? Детей нет? Жены нет? Ходишь-блудишь, языком мелешь…
Наступала на мужика, выкрикивала несуразное, наболевшее. И понимала – зря так-то, надо бы по-другому поговорить, да не могла стерпеть.
Кто она для него? Кем хотела стать для него и кем стала? Книжек не читает, в Бога верует. Всё хозяйство на ней, до всего заделье. А он, чуть явился с путей, крутанулся-вертанулся – и нет его. Ветер будто залётный. Явится среди ночи, разговорами покоя не даёт, не наговорился ещё с такими же, как и сам, беспутными. Ей чуть свет вставать, ему же жарить-парить, сумку собирать. А там и скотину кормить-поить, там и Петька с Клашкой голос подадут, и их обихаживай.
Не сказал ни слова, закряхтел, сунул ноги в валенки и ушёл.
Под утро явился, и тоже молчком. А у Настасьи уж перегорело-переболело на сердце и самой поговорить охота, хоть и глаз не прикрыла ночь дожидаючи.
На печь залез…
«И чё это за жизнь у меня за такая?.. – переживала, вслушиваясь в предутреннюю тишину погруженной в дрёму избы. – В девках сколь годков ждала, дождалась – ребята народились. Петька вон какой справный, а отца, почитай, не видит. Клашка растёт – вреднющая – воюй тут одна. Не хозяйство, так зачахла бы давно. Нет, неладно чего-то в их с Семёном жизни. Не-ла-адно…»
И так перевернулась, и сяк – заснуть уже не смогла. Додумывала уже поутру в кути.
Бросит блин на край разложенного на столе полотенца – и замрёт. И оцепенеет. Плеснёт на сковородку мешанины и снова замрёт.
За Бога корит, а в переднем углу – смех сказать: одна-одинёшенька икона Божией Матери. К кому зайдёшь – весь угол заставлен-занавешен. Взор умиляется от такой благости, сладость пасхальным яичком по душе прокатывается. А к себе придёшь – стыд и срам: книжки да картинки какие-то. Плюнет в сердцах, чертыхнётся, прости ты, Господи, душу грешную Настасьину…
Пробовала Петеньку приучать к молитве – прикрикнул. Дочь уж и не трогала.
Передвигалась по кути, как заведённая, не приметила, что давно уж мужик на ногах, поглядывает насупленный.
– Обезголосил, чё ли? – нарочно грубовато повернулась к нему. – Ешь садись да на службу иди.
– Тёмная ты у меня, – в другой раз обронил с сожалением.
– Да не тёмная я, – в тон ему отозвалась тихо. – Сердцем своим я светлая, потому как любящее оно у меня, сердце-то. А книжек твоих не знаю, дак и не к чему их мне знать. Моё дело – семья, дети, о коих ты забываешь, – это вот обидно мне, Сёмушка…
Стукнула дверью, ушла в стайку, где, зажав меж коленками ведёрко, привычно дёргала за сиськи коровёнкины.
Может, иная доля поджидала её? И в паре они с Семёном, будто саврасые, и бегут в одну сторону, и везут одну кошеву, а всё вроде воротят голову всяк по-своему.
На миру показаться с Семёном – льстило самолюбию Настасьи. Среднего роста, крепкий, с умным чистым лицом, ступал по земле с достоинством, в обращении с людьми напоминая родного тятеньку – Степана Фёдоровича.
Да и то сказать, железнодорожники на виду у всех. По-особенному одеваются, по-особому держат себя. На службе государевой, словом. Не как в крестьянстве: пришла пора – от темна до темна на покосе, а потом – хоть ноги кверху задери и лежи.
Жалованье – доброе, взять в лавке чего надобно – бери, не оглядываясь на чёрный день.
Сурьёзный народ, хоть кого взять. Хоть Гущинова Фёдора Сергеевича, хоть Ширяева Ивана Артемьевича. Хоть кого.
Ну и любят ублажить себя – это тоже в характере. Показать, мол, мы особые и за зря нас не трожь.
Соберутся в «Порт-Артуре» – кабак такой излюбленный у них есть на станции, тянут пиво, сосут рыбёшку сухую, а про чё балабонят – бог весть.
Наведалась как-то: табачище свет белый заслонил, половые шаркают, гул стоит от многих голосов, будто поезд скорый идёт на всех парах. Пошарила глазами и не нашла своего. «Ну, – думала, – сотворю тебе баню, явись только до семьи, разлюбезный. Вытоплю, отведу истомившуюся в ожидании душу.
Взял за моду бросать, шариться бог весть где. Как ни спросишь – в «Порт-Артуре» он. А сам неведомо где!..»
Распалила себя, ребятишек раньше времени спать шурнула и то к одному окошку, то к другому подскакивала, будто умом тронутая: вот вроде идёт! Вот вроде идёт!..
А он явился часа в два ночи и к кринке с молоком тянется, будто запалился с литовкой на покосе.
– Не спишь, Настасьюшка?.. – заметил её, когда уж нахлебался.
– Тебя поджидаю, Сёмушка, – в тон ему отозвалась.
И к мужику:
– Где был, муженёк?
– Да где и всегда, – ответствовал, как ни в чем не бывало, и уставился на неё смеющимися глазами. Глаза эти нахальные ещё больше подстегнули разошедшуюся не на шутку Настасью.
– В «Порт-Артуре», говоришь?.. Чё-то я тебя там не видела…
– Вот в чём дело, оказывается, – загоготал, – так мы ж в кабинке сидели, а не со всеми. В кабинку бы прошла или полового спросила, там все меня знают.
Обнял, прижал к себе крепко, к постели повёл…
И чего она мучается, ревнует неведомо к кому?
Нет – ведомо! Ведомо, только и в самом деле не ходок Семён её до чужих баб. И не «Порт-Артур», треклятый, тому причина. Иная сила, бесовская, уводит мужика от детей, от семьи, от очага родимого.
Все годы, прожитые совместно, и с ней он был, и – далеко от неё. В революциях и политиках. В книжках да разговорах с такими же, как и сам. Напился бы, наглотался когда хоть, упал бы в кровать их деревянную, сном забылся похмельным. Очнулся бы утречком да пожаловался на больную головушку. Поднесла бы стопочку, привела в чувство. Ладком да рядком за столом усесться бы за чаем с ватрушками.
О-хо-хо-хо-хо… Сколь отдала бы только за то, чтобы не от книжек болела его головушка, не от речей заумных. В церкву бы вместе!.. К Богу с молитвою…
И падала Настасья на коленки перед ликом Божией Матери, молилась истово, бормотала заветное, просила остеречь от беды. От какой – и сама не знала. Но чуяла сердцем, нутром любящим, исстрадавшимся, что не кончатся добром игры Семёновы. Как от тли от какой, от Бога отмахнулся, на власть государеву, Богом рукоположенную, нож точит – сам запутался и людей мутит. Ноженьки свои для кандалов уготовил, а жене, а детям – мурцовку хлебать…
И не зря, видно, мучилась, не зря тряслась.
По обычаю, не Настасьей заведённому, всякий воскресный день хозяйка по-своему готовит в избе праздник. С вечера поднимается тесто в чугунке на приступке печи, укутанное в мягкую тряпицу. Чуть смежит веки, а уж снова надобно подскакивать, углядеть – не поплыло ли через край. Набухает, когда ночь переломится к утру. Вот как закопошиться петуху на насесте в подклети, так и вспучится, так и грозится перевеситься через край чугунка и уплыть. Тут и лови его, тесто-то, сымай с приступка и делай с ним, что душа пожелает.
А что душа хочет? Того, что и семья – детки, муж. Угодила – и душа в радости на целую неделю вперёд. До воскресенья следующего.
Сыночку Петеньке – пирожки с картошечкой. Доченьке Клавдеюшке – с капусткой. Муженьку родному, тому – всё подавай, что повкуснее. Намнутся, и всяк до своего дела. Петенька – за дверь, гонять с сорванцами соседскими, шлынды бить. Клавдеюшка, та всё с тряпочками, да с куколками самодельными – мала ещё. Муженёк, ежели во дворе нет скорой работы, в книжку уткнётся.
Вот и самой можно чайку испить.
Так было и в то апрельское воскресенье шестнадцатого года. Напекла со всякой всячиной: ватрушек с черёмухой, вареньями – черничным да голубичным, пампушек, пряников. Что поели, что оставила до обеда, а что вынесла в кладовую.
Уселась подле самовара. Семён тут же, с книжкой.
Стукнуло кольцо ворот, рванул на цепи пёс Сыщик, изошёлся лаем.
«Кого это, Господи, несёт?» – в тоскливом предчувствии шевельнулось в груди сердце.
Семён сунул под полотенце на столе книжку, пошёл встречать непрошеного гостя.
Вошли вслед за ним двое околоточных. У двери перекрестились на иконку. Один вынул из нагрудного кармана под шинелью бумажку, протянул Семёну. Глянул, молча стал собираться.
– Ты, Настасья Степановна, не кори нас, – кашлянув, начал тот, что стоял к ней ближе и в котором не сразу узнала жившего от них через две улицы Евсея Фролыча Иванцова. – Служба такая… А Семён Петрович ваш скоро возвернётся к семье.
И, помявшись, добавил:
– Порядок такой…
Обомлевшая на первых порах Настасья, вскочила, бестолково забегала по избе.
Не переставая, исходил лаем Сыщик, не понимая, отчего во весь голос ревела Клашка.
Семён канул на целых два месяца. Ездила в Нижнеудинск, куда его переправили: передачу приняли, до встречи не допустили.
Потом ещё ездила. А тут разом подошли и пахота, и сев, и посадка. И впервые за десятилетнюю совместную с Семёном жизнь спознала, что значит остаться в доме без мужика. Походила и за плугом, и за бороной, подставила под кули с зерном свою бабью некрепкую спину.
Терпела при людях, при детях, давала волю слезам, падая в кровать. Не столько работой измученная, сколько предчувствиями ожидавшей её одинокой женской участи.
Сочувственно наклоняли головы знакомые бабы, ободряюще бубнили чего-то знакомые мужики.
Никого не видела, никого не слышала, испытывая перед всем честным миром невыразимое чувство стыда.
Копилась в сердце глухая тоска, как ей казалось, по навсегда утраченному ладу в её замужней жизни. Креп в сознании протест всему, что уводило от семьи мужа, что обещало сиротство и ей, и её малым деткам.
И однажды полетел в полыхающий зев русской печки портрет похожего на исправника мужика, что лежал в одной из книжек, и которым, знала, дорожил Семён. И глядела с мстительностью, пока не догорел. А когда догорел, выгребла с особой тщательностью золу и снесла её подальше от избы, под забор склада с углём, которым заправляли паровозы.
В очистительном отпоре своём пошла Настасья дальше, купив на Троицу в Никольской церкви икону с ликом святого Иннокентия, епископа Иркутского, приглянувшегося ей благостной строгостью взора, – и в переднем углу избы утвердилось ещё одно напоминание о Всеблагом и Пресвятом Божьем промысле, с которым в душе, так решила про себя Настасья, доживать ей свой бабий век. Больше-то полагаться и не на кого.
Отошла сердцем. Успокоилась. И с поразившей её саму отстранённостью встретила крик запыхавшегося Петьки:
– Мама! Тятя из тюрьмы вернулся!..
И только успела встать со скамьи, оправить складки фартука, а Семён уж тут как тут – ступил за порог. Обросший, с виноватостью в глазах, притихший.
Ступил и замер, не зная, видно, что сказать, не ожидая застать её в уравновешенности духа.
Стояла, прислонившись спиной к печи, пока раздевался, мылся, скоблился.
– И, батюшки! – ахнула, когда мужик попросил подмочь стянуть с него рубаху. Вся спина исполосована, вся в струпьях болячек!
«Да Боже ж ты мой… Да чего же это такое деется на свети-и-и… Да до каких же это пор ты мучить меня собралси-и-и… Да зачем же тебе эти политики, эти революци-и-и… Да жил бы, как все, о жене да о детях своих пёкся-а-а… Да обходил бы за версту мутильников, кои и сами не живут и другим жить не даю-у-ут…»
Почитай месяц наводила мужику тело. Месяц держала подле себя, заворачивая ходоков-завсегдатаев «портартуровских», не пуская никуда дальше своего поля зрения.
Подмогал как мог, на покосе веселел, снова брался за книжки.
О пребывании своём в Нижнеудинской тюрьме не сказывал, зато выговорился обо всём, что передумал.
Вот живут они, и вроде неплохо живут. Всё есть – и поесть, и надеть. И хозяйство у них справное. Но не у всех имеется, что у них с Настасьей. И те, у кого имеется, не делятся с теми, у кого достаток хуже.
– Да пускай воротят, как мы с тобой, – возражала.
– Они и работают…
– Да знаю, как работают. Вон батрака Ивленка хоть возьми.
Спит, пока живот совсем не подведёт, потом и нанимается к кому-нибудь… Или хоть тятя твой… – перебивала.
– Не то всё это и не так. Хоть тятя, хоть Ивленок тот же – для другого они рождены. Не для земли. Книги писать, может быть, а нынешнее устройство жизни не позволило им проявить себя, стать полноправными хозяевами своей судьбы. Выбор должен быть у человека. Землю ли пахать, людей лечить, в рабочие податься, книжки писать. И чтобы народился человек, а кусок хлеба был бы ему уже обеспечен. И выбор пути обеспечен.
– Руками чужими жар загребать… – складывала руки на груди.
– Не жар загребать. Нет. А для того, чтобы потом вернуть в будущей своей полезной обществу работе – с лихвой.
– А ну как привыкнут ничего не делать?.. – сомневалась.
– Не привыкнут. Устройство самой жизни не позволит. Под одной общей крышей.
– Как это – под одной крышей? – ахала.
– Под одной крышей нового счастливо устроенного государства, в котором всякий труд – в радость. С песнями и музыкой. Все живут так же, как и сейчас – в отдельных избах, но всякую работу правя сообща.
– Канешна, – неуверенно вставляла своё Настасья, – вон у Натальи Филимонихиной всё из рук валится, за что ни возьмётся. Куда ей со мной тягаться…
– Нет, Настасьюшка, всякий человек с талантом родится. Но талант должен быть узнаваем, а для этого саму жизнь надобно переделать, и та же Наталья смогла бы себя показать.
– Что же мне – землю пахать, а ей барыней прохлаждаться? – не сдавалась.
– Не барыней, а при своём деле. Ни бар, ни барынь вообще не будет, а все будут равными среди равных.
– И рубахи красные, и портки лампасные? – подковыривала.
– А это уж по душе: хочешь – рядись в красное, хочешь – в синее.
– Ты уж заодно скажи, куда портрет Карла Маркса дела? – спросил однажды.
Будто огнём кто ожёг Настасью. Повернулась медленно к муженьку, выговорилась:
– Из-за этого карлы-марлы ты и в кутузку угодил. И спину тебе исполосовали из-за него же. А живой остался, так благодари Бога за то – моими молитвами живой возвернулся. Перед иконой Божией Матери денно и нощно стояла на коленках, за тебя, варнака, просила, а чтобы этот Карла не поганил образ Божий в избе – в печь кинула. И ещё кину, ежели приволокнёшь. Вдовой хочешь оставить? – почти на крике досказывала наболевшее. – Детей осиротить?.. – наступала. – Иди к своим партейцам беспутным – в кабаке тебе место да в тюрьме!..
Уткнулась в растопыренные пальцы красных от работы рук. Качаясь всем телом, тихо завыла.
…Не подошёл. Не успокоил. Хлопнул дверью, будто толкнул в самое сердце.
И есть мужик у неё, и нет его. И есть отец у детей, и нет его. Как жить – перемогать? Каким наговором отвратить от дружков? Какой травой приворожить к дому?..
Все перепробовала. Все молитвы, все наговоры. И нет такой травы, способной привязать Семёна к семье.
Опустить разве руки да положиться на Бога?..
Но и на Всевышнего полагаться не приходилось – больше на собственные изработанные руки, на случай, на таких же, как и сама, затурканных деревенских женщин, мужья у которых кто в лесах окрестных, кто в земле сырой, кто ещё где. Помогали друг дружке чем могли, поддерживали словом, чашкой ржаной муки, лукошком картошки.
А времена наступали такие лихие, ветра задували такие холодные, морозы одолевали такие лютые и колючие, что и спастись-то, кажется, нельзя было от навалившихся напастей – напастей неотвратных, неминуемых, неотвязных. И всё бы ничего, но придвинулся страшный восемнадцатый год – год, в который сгинул её Семён.
– Мама!.. – кричит, вбегая в дом, десятилетний сын Петька. – Мама, на мосту через речку отряд белых карателей… Вот-вот будут здесь… Чё делать – опять порежут скотину, побьют кур, выгребут всё, что можно…
– Петенька, гони корову к Мавриной заимке, а там – в ельник. Там не отыщут, а я уж как-нибудь здесь авось что-нибудь и убережём.
Суета в каждом деревенском доме, в каждом дворе – многому научены люди за последние месяцы. Никто не верил в справедливость нынешней карательной власти – власти из осколков армии адмирала Колчака и пришлого с далёкого запада чехословацкого корпуса. Для последних и вовсе не существовало ни законов, ни правил, ни Бога.
Выгребали всё, что можно было взять и чем попользоваться, – из клетей, подвалов, подполов, стаек, риг, амбаров. А если не отдавали своей волей, то били нещадно плетями, резали, стреляли, рубили шашками. Но кто ж отдаст своей волей? Потому и скудела деревня народонаселением, особенно мужским.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































