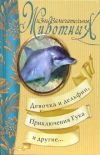Текст книги "Черное море. Колыбель цивилизации и варварства"
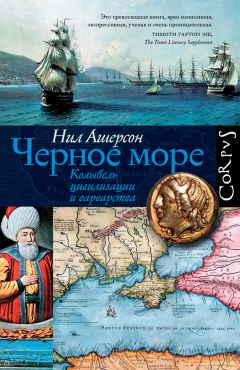
Автор книги: Нил Ашерсон
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Инженер-генерал Сухтелен начал исследовать руины Ольвии в 1790 году, во времена, когда они официально находились еще на территории Османской империи. В 1839 году Михаил Воронцов, самый выдающийся и наиболее честолюбивый из всех генерал-губернаторов Новороссии, учредил Императорское Одесское общество истории и древностей – первое археологическое общество в России, которое и занялось раскопками Ольвии. Именно Одесское общество привлекло истинных отца и мать научной российской археологии, графа Алексея Уварова и графиню Уварову, которые отдали Ольвии немалую часть жизни. Уваров, родившийся в 1828 году, основал Императорское Московское археологическое общество, которое сразу же стало смертельным соперником другого Императорского археологического общества, учрежденного под эгидой двора в Санкт-Петербурге.
После смерти Уварова в 1884 году председателем Московского общества стала его соучредительница, овдовевшая графиня. Она продолжала борьбу с Петербургом вплоть до революции 1917 года, когда отправилась в изгнание, но к тому времени Ольвия была уже в новых и надежных руках. Спокойный и методичный Борис Фармаковский вел раскопки в Ольвии каждый сезон с 1902 по 1914 год, а затем, когда отгремели война и революция, с 1924 по 1928 год. Он оставил после себя серию педантичных и прекрасно проиллюстрированных отчетов о раскопках, содержавших большую часть того, что нам известно о “материальной культуре” Ольвии.
Однако материальные свидетельства – это не все, что мы знаем об Ольвии: есть ведь еще аутопсия. Философ-стоик Дион Хризостом прибыл сюда примерно в 95 году н. э. Это один из тех редких случаев, когда греческий или латинский наблюдатель записал гладко, неформально и в мельчайших подробностях то, что увидел и услышал. “Борисфенитская речь” Диона – это философская лекция, основанная на его посещении Ольвии, которую он произнес в своем родном городе Прусе в Малой Азии. Но в то же время это выдающееся кинематографическое произведение – одна или две пленки документальной хроники, отснятой две тысячи лет назад, своего рода домашняя видеосъемка, дошедшая до нас от эллинистического мира.
Дион прибыл в Ольвию (или в Борисфен, как он ее называл, – этим именем греки называли также реку Днепр) в неудачное время. После того как геты разрушили город в 63 году до н. э., “греки перестали заезжать в него, так как у них не находилось земляков, у которых они могли бы остановиться; а сами скифы не сочли нужным, да и не сумели построить торговую пристань по греческому образцу”[21]21
Перевод М. Грабарь-Пассек.
[Закрыть]. Со временем скифы вернулись на опустошенные улицы за Бугом и пригласили греков возвратиться и снова открыть порт. Но Дион, который прибыл туда более столетия спустя, по‑прежнему отмечает: “О том, что город пришлось восстанавливать после разрушения, свидетельствует плохая постройка зданий, а также и то, что весь город теснится на небольшом пространстве”. Горожане сбились в кучу в вершине треугольника, который представлял собой план Ольвии, отгородив себе треугольник гораздо меньшего размера с рядом домов и невысокой оборонительной стеной (все это было обнаружено в ходе раскопок в точном соответствии с описанием Диона). Остальную часть города оставили разрушаться, и старые башни, некогда составлявшие часть городской стены, возвышались теперь так далеко от поселения, “что даже трудно представить себе, что они принадлежали к этому же городу”.
Ольвия не потеряла сообщения с греко-римским миром через Черное море, но жители ее с огорчением чувствовали, что их город утратил былую славу и свое значение добрых старых дней. Купцы и путешественники, которые давали себе труд пуститься в плавание по речным дельтам, были довольно‑таки третьесортными личностями в сравнении со своими предшественниками: “Обычно к нам приезжают люди, – пожаловался Диону один из горожан, – которые только по называнию греки, а на деле еще большие варвары, чем мы сами; это купцы и мелкие торгаши; привозят они нам всякие тряпки и скверное вино, да и от нас не вывозят ничего путного. Но тебя, наверное, сам Ахилл прислал к нам со своего острова; мы очень рады слушать все, о чем бы ты ни говорил”.
Это был город-призрак с призрачной жизнью. Дион Хризостом обнаружил, что очутился в петле времени. Жители Ольвии были полны решимости произвести на него впечатление своим “греческим духом”, однако та версия “греческого духа”, за которую они цеплялись, была предельно архаической и устаревшей. Вдобавок они показались Диону скифами в такой же мере, что и эллинами. Его определение этнической принадлежности не имеет никакого отношения к генетике и происхождению, но – как и у Геродота – имеет большое отношение к одежде, обычаям и языку. Жители Ольвии в большинстве случаев носили скифскую одежду, а их греческий был ужасен.
Дион отправился на прогулку к месту слияния Буга и Днепра. На обратном пути он встретил красивого юношу верхом на лошади, по имени Каллистрат, и вступил с ним в беседу. Каллистрат был настоящим музейным экспонатом. Он был одет в “варварские” шаровары и плащ, но, увидев Диона, спешился и спрятал руки, соблюдая древнее греческое правило, согласно которому считалось дурным тоном показывать голые руки на публике. Оказалось, что он, как и другие жители Ольвии, знал Гомера наизусть и невероятно этим гордился, как бы ни был убог его разговорный греческий. Но более всего Диона очаровало открытие, что Каллистрат был гомосексуален.
В свои восемнадцать лет он уже прославился в городе храбростью в бою, интересом к философии и красотой: “…поклонников у него было много”. Дион видит в этом не просто факт сексуальной ориентации, а замечательный пережиток утерянной эпохи. Теперь, во времена Римской империи, здесь по‑прежнему процветало древнее греческое преклонение перед гомосексуальной любовью как высшим интеллектуальным и духовным опытом. Ольвийцы полагали, что в заморском мире гомосексуальность была все еще в моде. Дион, тронутый и позабавленный встречей, задумался о том, что произошло бы, если бы они начали прививать такие взгляды на любовь скифам, “конечно, не к их благу”, думает он, скифам не удалось бы при этом обойтись без “распущенности”, и они непременно упустили бы философическую суть.
К этому моменту вокруг Диона и Каллистрата уже собралась небольшая толпа горожан. Дион предложил вернуться под защиту городских стен, где беседовать будет удобнее. Ольвия почти ежедневно подвергалась набегам со стороны небольших скифских отрядов, которые всего лишь днем ранее убили или захватили в плен несколько стражников, несших караул у заставы. Дион, обладавший естественным чувством самосохранения, заметил, что не только ворота были заперты, но и на стене был поднят боевой знак.
Однако жители Ольвии, казалось, были равнодушны к опасности и хотели начать философский диспут со своим гостем прямо на месте: “И я, восхищенный их рвением, сказал:
– Если хотите, может быть, мы пойдем в город и присядем где‑нибудь? Ведь на ходу не всем удастся слышать то, о чем мы будем беседовать”.
Они вошли внутрь и на старый греческий лад расположились перед портиком храма Зевса для продолжения разговора. Когда старейшие из присутствовавших уселись на ступеньках, Дион отметил, что почти все они носили бороды, хотя в римском мире к этому времени бритье было в моде уже по меньшей мере столетие. Среди них был только один бритый, “и за это все его порицали и ненавидели; говорили, что он придерживается этого обычая неспроста, а чтобы подольститься к римлянам”.
Дион Хризостом начал речь о “хорошем полисе” и его несостоятельности в сравнении с божественными образцами совершенства. Однако его прервал старик по имени Гиеросан (возможно, потомок той семьи корабельщиков Геросонтов, которая играла такую важную роль в Ольвии в III веке до н. э.). Старик, с гордостью отметив, что может читать Платона, попросил Диона не говорить об “обществе смертных людей”, поскольку этот предмет может подождать, а сосредоточиться на “божественном государстве, или о его строе <…> Расскажи нам, где оно, каково оно, и при этом, насколько можешь, постарайся приблизиться к благородной свободе платоновской речи”. Он и его друзья, сказал Гиеросан, очень взволнованы и с нетерпением предвкушают, что услышат нечто действительно возвышенное и платоническое.
Поэтому Дион любезно сменил тему. Появившаяся в результате “Тридцать шестая (Борисфенская) речь” – поразительное стихотворение в прозе, посвященное мифу о колеснице Зевса, притчам зороастрийских магов, небесной гармонии звезд и сотворению мира через половой акт Зевса и Геры – hieros gamos, или священное соитие. (Не от Диона ли Хризостома ведет Симеон Новый Богослов свою собственную версию unio mystica, то есть священного полового акта, в котором Бог оплодотворяет своего избранного “в Божественном сочетании <…> сем<енем> Божественн<ым>”?)
Это красивое, загадочное произведение. В то же время это эклектичная компиляция разных культов. Со своими ольвийцами Дион рассуждает не только о греческом пантеоне, но и о собственных впечатлениях от персидского мистицизма и аллегории, а в его версии творения чувствуется явный привкус иудаизма (“Творец и Отец мира, созерцая дело рук своих, не просто был доволен… он возликовал… он вновь открыл красоту и непостижимую прелесть существующей вселенной”). Где‑то в сердцевине его рассуждения, погребенные подо всем этим, скрываются оригинальные доктрины стоиков о вселенной, состоящей из четырех концентрических сфер: земли, воды, воздуха и огня.
Мы и сейчас можем встать на том месте, где говорил Дион. Пространство между фундаментом храма Зевса и задней стеной стои (длинного, похожего на гараж здания, открытого с одной стороны и служившего в греческом полисе укрытием от непогоды или местом собраний) с колоннадой не так велико, как он указывает. Но оно достаточно широко, чтобы вместить несколько десятков заинтересованных слушателей, собравшихся вокруг лектора. Этот старый городской центр вокруг агоры (рыночной площади) находился за пределами импровизированной стены, которой были обнесены сохранившиеся жилые кварталы, и храм был, вероятно, уже полуразрушен к тому времени, когда там стоял Дион. Он вспоминает, что в храмах Ольвии “нет ни одной статуи богов, сохранившейся в целости, – все они повреждены, как и изображения на надгробиях”.
Образ Ольвии у Диона – это образ периферии, как она воспринимается из центра. Малькольм Чапмен в своей книге The Celts: The Construction of a Myth показывает, как обычаи, моды и памятники материальной культуры движутся от центра вовне, как круги по воде, пока не достигнут периферии и там, наконец, не пропадут. И как раз за секунду перед этим окончательным исчезновением “центровой” интеллектуал внезапно разражается стенаниями: вот там‑то, на периферии, люди по‑прежнему сохранили здоровые ценности, крепкую семью, органическую овсянку, аутентичную народную музыку, которые должны быть сохранены любой ценой, пока не пропали навсегда.
Когда‑то гомеровские греки на Эгейском море носили бороды и косматые афинские философы одобряли любовь мужчины к мальчику. Запущенные ими концентрические волны все еще разбивались о берега лимана реки Буг спустя много столетий после того, как бритва покорила Афины, а поэты начали сочинять эротические фантазии о девушках. Дион был тронут “подлинным греческим духом”, который, как он обнаружил, сохранился в Ольвии. В то же время он не был романтиком, ностальгирующим интеллектуалом из метрополии в том смысле, который вкладывает в это понятие Чапмен. Возможно, афиняне и правда некогда жили так, как в Ольвии, однако у Диона не было ни малейшего желания поворачивать историю вспять. Ему нравилось настоящее, и он в нем преуспевал.
На свой лад Дион Хризостом тоже занимался архаическим бизнесом. Он был греческим купцом, чьим товаром был греческий дух. Его стратегия состояла в том, чтобы играть на римском комплексе неполноценности, строя из себя голос древнегреческой мудрости и разборчивости. Как проповедник-стоик он заставлял важных римлян чувствовать себя грубыми и неотесанными – это ощущение они, очевидно, ценили. Он добился в Риме высокого положения, знал лично нескольких императоров, однако провел большую часть жизни в дороге как авторитетный странствующий оратор. Он проповедовал “добродетель” и “благотворительность” миру выскочек, чьи правящие классы были охвачены бумом беспредельного обогащения. В действительности Дион был порождением этого бума в такой же степени, как и его аудитория, которую он укорял за материализм. В своей родной местности Вифинии (на северо-западе Малой Азии) Дион был дельцом, который нажился на сделках с недвижимостью. Стариком, много времени спустя после посещения Ольвии, он был привлечен к суду Плинием Младшим, легатом императора Траяна, за то, что за взятку получил подряд на общественное строительство.
Ольвия была заброшена уже более тысячи лет, когда на черноморском берегу, на расстоянии целого дня плавания к западу, был основан новый портовый город. В 1792 году генерал Хосе де Рибас завоевал для императрицы Екатерины турецкий форт Хаджибей, стоявший на высоком красном обрыве над глубоководной бухтой. Де Рибас решил, что это хорошее место для нового порта. Он хотел назвать его Одессос, в честь греческой колонии, которая когда‑то находилась немного ниже по берегу. Екатерина, восхищавшаяся греками, сначала согласилась, но затем внезапно объявила на придворном балу в 1795 году, что поскольку этот город основан женщиной, он и называться должен в женском роде. Так появилась Одесса.
Главная улица города, на которой семьи одесситов с мороженым в руках изучают в витринах товары, которые им не по карману, называется Дерибасовской в честь де Рибаса. Как‑то утром я фотографировал старый Ришельевский лицей на Дерибасовской, когда со мной заговорили морской капитан и его старпом. Их корабль не мог выйти в море из‑за отсутствия горючего; морякам ничего не оставалось, как целый день глазеть на витрины, смотреть телевизор и действовать на нервы своим женам, они смертельно скучали и хотели развлечься. Мы пошли в бар-стоячку, чтобы устроить “вечеринку”: бутылка водки, одесские сосиски, по вкусу напоминавшие скорее собачатину, чем конину, ячменный кофе.
Капитан, застрявший на берегу на девять месяцев, пожал плечами, когда я спросил его, что он думает о новообретенной независимости суверенного государства Украины: “У нас нет истории. Только история ВКП(б). В любом случае сейчас здесь закона нет и никто не управляет – ни Украина, ни Советы, никто”.
Пьяный, я побрел вниз по улице, чтобы опять зайти в Археологический музей. Там я задержался перед большой фотографией Бориса Фармаковского, занимавшей одну из стен зала, посвященного Ольвии. Он сидел на ней спокойный, благосклонный, в своем старомодном стоячем целлулоидном воротничке; вокруг прищуренных глаз морщинки, оставленные бесчисленными сезонами раскопок на восточном ветру возле лимана Буга. Фармаковский, которого даже суровый эмигрант Михаил Миллер признавал “хорошим методистом”, умер как раз вовремя. Всего через два года вооруженные люди пришли ночью за его старинными друзьями и коллегами, за молодыми людьми и девушками, которые не разгибаясь трудились на раскопках Ольвии, за его самыми блестящими учениками, пытавшимися по‑новому осмыслить столкновение между греками, скифами и фракийцами.
Отчего это произошло? В чистках 1930‑х годов погибли миллионы, но почему такая участь постигла именно эту незаметную профессию, почему черный ураган обрушился на мужчин и женщин, руководивших украинской и русской археологией, сдул их без следа, а всего четыре года спустя стих так же внезапно, как поднялся? Сэр Мортимер Уилер, Нестор британской археологии 1960‑х, говаривал, что археология – это не профессия, а кровная месть. Его коллеги снисходительно посмеивались, однако он не шутил.
Советская археология превратилась в кровную месть в двух смыслах. Во-первых, в ходе катастрофы 1930–1934 годов цвет этой профессии был истреблен догматическим сталинистским меньшинством. Миллер вспоминал, как университетские лекции прерывались возгласами студентов-комсомольцев: “Снимите маску”, “Откройте свое лицо”, “Как вы относитесь к марксизму?” Вслед за студентами выступила горстка честолюбивых старших археологов, которые, изменив свои взгляды в соответствии с линией партии, доносили на своих коллег и занимали их рабочие места. Идеологией новой советской археологии стал “марризм” – удивительная псевдомарксистская смесь лингвистической и археологической доктрин, разработанная Николаем Яковлевичем Марром, сыном шотландского иммигранта и грузинки, который до революции служил профессором в Санкт-Петербурге. Марр ввел понятие автохтонности, фантастическое утверждение, что языковые и культурные изменения никогда не были результатом миграций извне, а происходили путем постепенных трансформаций классовых взаимоотношений в статических по своей природе обществах. Вот только один пример: во имя марризма профессор Владислав Равдоникас донес на своего младшего соперника Сергея Киселева и разрушил его карьеру. Через двадцать лет после этого, в 1950 году, Сталин внезапно объявил, что марризм был сущим вздором, и настала очередь Киселева уничтожить почтенного Равдоникаса посредством такой же зверской партийной травли.
Но существует и другая, всегда подспудная кровная вражда между любым авторитарным национальным государством и независимыми мужчинами и женщинами, которые исследуют прошлое. Археология подкапывается под глубокий фундамент, на котором покоится гордыня цивилизаций и революций. Когда эти проходчики достигают фундамента и вместо камня находят там песок, полы парадных покоев высоко над ними начинают содрогаться. Не прорыл ли Фармаковский со своими учениками ход в такую зону тайной слабости и не потому ли так много археологов должны были умереть?
Все сведения о скифах по мере своего накопления подрывали утверждения о том, что народы черноморских степей были примитивными и варварскими, и умозаключения, что кочевничество было отсталой формой существования. Эти умозаключения, игравшие такую важную роль в старом добром русском национализме, были возведены до уровня геополитики немцами вроде И. Г. Коля, писавшего в 1841 году: “С незапамятных времен до настоящего дня [степи] были местом обитания диких кочевников и варварских орд, в которых никогда не было никакого независимого начала, несущего в себе идею государства, строительства городов или культурного развития”. Его соотечественник Ройслер полагал, что этот ландшафт был реакционным сам по себе: “В подобных пустынных местностях блуждающее воображение не находит никакой точки покоя на движущемся горизонте, а память – никакого ориентира”.
На идеях такого рода основывается популярное представление (все еще широко распространенное в Европе), что оседлое земледелие и появление крестьян-землепашцев представляло собой огромный шаг вперед в развитии по сравнению с более ранней стадией кочевничества. Псевдоантропология питает главный страшный сон Европы: ужас перед людьми, которые движутся. Этому кошмару, передававшемуся по наследству еще с Великого переселения народов во время и после заката Римской империи и возобновившемуся из‑за набегов гуннов и монголов на запад, интеллектуалы-эволюционисты XIX века добавили новое измерение ужаса. Движущиеся люди были отныне уже не просто физической угрозой, возникающей с востока по бездорожью. Теперь они к тому же как будто воплощали собой космический беспорядок, в котором прошлое вставало из могилы и ордой всадников устремлялось вперед, чтобы истребить настоящее.
Этот страшный сон продолжает жить и в новой Европе после революций 1989 года. Это страх Запада перед любыми путешественниками, перед миллионами, которые ломятся в ворота Европы “в поисках политического убежища” или как “экономические мигранты”, перед социальными потрясениями в России, которые могут погнать половину населения, мучимую голодом, в сторону Германии.
Однако кочевое пастбищное животноводство не было “примитивным” состоянием. Наоборот, оно было специализацией, которая развивалась в оседлых земледельческих обществах. Для того чтобы дважды в год перегонять огромные стада домашнего скота за сотни миль – сперва на север на летние пастбища, а зимой обратно на юг, – необходимы прежде всего лошади и высокоразвитые навыки управления ими. Если популяция мигрирует вместе со своими стадами на телегах или подводах, ей нужно колесо. Для этого образа жизни необходимо множество разных ремесленников и специалистов, гораздо большее, чем для семейного натурального хозяйства. Его невозможно вести без централизованного руководства, способного принимать быстрые и эффективные решения в чрезвычайной ситуации. Эта чрезвычайная ситуация может быть экономической, например если обычное пастбище уничтожено засухой или наводнением, а может быть и военной. С умением ездить верхом появилась вооруженная элита, которая отныне была способна вести своих сподвижников грабить земледельческие общества или мигрировать и завоевывать далекие пастбищные земли.
Как было известно еще Геродоту, “чистое” кочевничество встречается редко. Перечисляя различные “племена” или народы скифской культуры, он указывал на то, что многие из них были земледельцами в той же мере, что и пастухами. Некоторые ели то, что выращивали, другие разводили зерно для греческого рынка. И скифы в этом не были исключением: такого рода гибкость всегда отличала экономику мобильных степных народов. Образ конной орды, питающейся мясом и награбленными съестными припасами, отвечает только действительности военного времени или периода судьбоносной миграции на большие расстояния, в противоположность обыкновенным циклическим кочевкам на пастбища.
Пастухи-кочевники могут выращивать зерно и делают это, даже когда не оседают на одном месте. В XV веке путешественник и купец Иосафат Барбаро многие годы жил в венецианской колонии Тана, в устье Дона у верхней оконечности Азовского моря. Он наблюдал, как татары из Золотой Орды ежегодно в марте отправлялись сажать хлеб на участках плодородной земли. Когда пшеница созревала, Орда проезжала мимо и прямо из степи убирала урожай в ходе своей сезонной кочевки на север на летние пастбища.
За тысячу лет до этого Геродот отмечал, что к его времени существовали и “местные жители”, жившие поселениями. Он описывает соседей скифов, называвшихся будинами: “В их земле находится деревянный город под названием Гелон”. Будины были кочевниками, но гелоны, жившие в этом городе, были (согласно Геродоту) земледельцами, потомками греческих поселенцев. В его описании эта местность, покрытая лесами и болотами, похожа на территории в среднем течении Днепра. И в последние годы археологи начали находить там что‑то похожее на города: большие поселения, окруженные укреплениями, с хлебными амбарами, гончарными мастерскими, кузницами и постоянными кладбищами за стенами. Одно из самых впечатляющих подобных поселений находится в Бельске, у притока Днепра: его крепостной вал достигает примерно 21 мили в окружности. Бельск, который, как утверждают, является самым большим обитаемым земляным укреплением из открытых в мире на сегодняшний день, вполне может быть Гелоном, о котором пишет Геродот. Там была найдена мастерская, в которой изготавливали кубки из человеческих черепов, этот обычай Геродот описал с большой этнографической дотошностью.
Как выяснилось, он был прав во многом. Новые историки, особенно в нашу деконструктивистскую эпоху, изощряются, упраздняя старых историков, до тех пор, пока их сведения (а сообщение сведений и составляло, собственно, единственную цель их неутомимых исследований и трудов) не оказываются фактически обесценены и отвергнуты. В работах нынешних авторов интерес уделяется только дискурсу, то есть подсознательному структурированию информации ради установления определенных различий и “оппозиций”, востребованных в обществе, в котором работал тот или иной историк. И у Геродота тоже есть свой дискурс. Артог не без блеска описал его в книге, которая навсегда останется одним из обязательных текстов о “варварстве” и “цивилизации” для всякого, изучающего этот предмет. Но отказ Артога анализировать квалификацию Геродота как репортера, прибегать к археологическим данным, чтобы верифицировать правдивость или ошибочность результатов “дознания” в “Истории” Геродота, можно назвать почти извращенным подвигом интеллектуального аскетизма. В пользу выдающейся квалификации Геродота говорит тот факт, что добытые им сведения год от года приобретают все большее значение, по мере того как археология их подтверждает.
Поскольку первые курганы раскопали почти двести лет назад, уже было известно, что отчет Геродота о скифских царских погребальных обрядах, включая человеческие жертвы и концентрические круги зарезанных лошадей, в общих чертах соответствовал действительности. Верными оказались и его сведения о существовании деревянных “городов” на границах лесистой степи. Но наивысшего посмертного триумфа Геродот, “старый лжец” викторианских классных комнат, достиг в 1950‑е годы, когда были произведены раскопки в усыпальницах Пазырык в Горном Алтае, за тысячу миль от черноморских степей, на восточном краю скифских владений.
Урочище Пазырык оказалось воплощением мечты любого археолога: прошлым в морозилке. Там достаточно высоко и холодно, чтобы мертвецы и их имущество смогли сохраниться нетронутыми в вечной мерзлоте. Кожу одного из кочевых вождей по‑прежнему украшали, как манускрипт, густые узоры, вытатуированные сажей, – стилизованные грифоны, горный козел и сом, вероятно, индивидуальная пиктограмма, говорящая о его происхождении, территории и культе. И он, и другие мертвые мужчины и женщины лежали в окружении великолепных многоцветных попон – неизвестная прежде форма искусства, – и изображения лошадей на них, в свою очередь, открыли нам целую культуру декоративной упряжи и фантастических конских масок с гривой. Тела были набиты многими из тех самых трав, которые упоминает Геродот в своем отчете о погребальных ритуалах скифов: “Толченым кипером, благовониями и семенами селерея и аниса”. В углу одной из могил лежал меховой мешок с коноплей. Рядом были бронзовые котлы, наполненные камнями, и каркас крошечного, высотой четыре фута, шалаша для ингаляции.
После похорон скифы <…> устанавливают три жерди, верхними концами наклоненные друг к другу, и обтягивают их затем шерстяным войлоком; потом стягивают войлок как можно плотнее и бросают в чан, поставленный посреди юрты, раскаленные докрасна камни <…> Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия.
Этим оценкам важности конопли как источника утешения и удовольствия для скифов пришлось ждать своего подтверждения два с половиной тысячелетия.
Черное море поглотило древнегреческие прибрежные города. Колонию Тира под стенами огромной турецкой крепости Аккерман теперь частично покрыли воды лимана Днестра. Треть Ольвии лежит на дне эстуария Буга: каждое лето туда приезжает итальянский клуб любителей подводного плавания, которые собирают амфоры с илистого дна. Херсонес, торчащий в открытом море у Севастополя, потерял свои южные предместья в результате затопления, а Горгиппа – теперь прекрасная марина Анапы на кубанском берегу – привлекает дайверов, ищущих греческие колонны на стоянке яхт. Из всех мест археологических раскопок вдоль северного побережья, которые я посетил, только Танаис в низовьях Дона, возле верхней оконечности Азовского моря, полностью находился под землей. Здесь главное русло реки сдвинулось на несколько миль поперек дельты, так что порт и колония остались на материке.
Греческие поселенцы стояли на этом осыпающемся краю, на физической границе скифо-сарматского мира. Мир этот, как известно, не имел собственного центра, если не считать таковым могилы скифских царей. Но какой бы культурный соблазн ни несли в себе ювелирные украшения, расписная керамика и вина, которыми торговали греки, они оставались здесь скорее гостями, чем правителями. Вдоль побережья им удавалось поддерживать ненадежное равновесие. Скифы, в свою очередь, периодически становились врагами, но большую часть времени были хозяевами. Разговор о центре и периферии, подразумевающий общее превосходство центра над окраинами, на Черном море звучит неубедительно.
Поскольку греки владели письменностью, об их взаимоотношениях с народами понтийской степи нам известно только с их слов: “Мы пришли, мы основали…” Но могла бы быть и другая версия. В конце концов, это скифы определяли условия, на которых были основаны колонии, и (учитывая, что колонии, как правило, не имели собственных вооруженных сил, помимо гражданского ополчения) решали, должны ли эти колонии продолжать свое существование. Обычно они желали им не только долгой жизни, но и процветания. Дион Хризостом описывал, как скифы пригласили греков вернуться и вновь заселить Ольвию, после того как в 63 году до н. э. она была разрушена гетским набегом. Похожие эпизоды бывали в средневековой Европе, когда короли приглашали иностранцев основывать торговые поселения на своих землях, наделяя их экстратерриториальной привилегией устанавливать собственные законы. Но если бы Англия XIV века, например, не знала грамоты, сегодня нас могли бы учить, что ганзейские немцы, учредившие Стальной двор в Лондоне, по собственной инициативе колонизировали варварский берег и утвердились благодаря своему абсолютному культурному превосходству.
Никто в Ольвии не подвергал сомнению тот очевидный факт, что в конечном счете именно скифы были хозяевами положения. Греки не предпринимали никаких попыток завоевать территорию или установить над ней контроль, за исключением Боспорского царства, которое появилось в Восточном Крыму и в любом случае было совместным предприятием греческих колонистов и местных правителей. В Европе мы привыкли к представлению о колонистах, которые намереваются сначала поработить “аборигенов”, а впоследствии превратить их в “себе подобных”. Таким был римский путь, но не греческий. Греческие поселенцы считали естественным и приемлемым, что их города привлекают людей других культур, которые усваивают городские обычаи, как это сделал Скил и как поступали в дальнейшем многие тысячи скифов, фракийцев, меотов, синдов, сарматов и хазар во всех портах Черного моря, жившие в городских стенах как лавочники, рабочие, ремесленники, а впоследствии иногда и как полноправные граждане. Но, ассимилируя других, греческие колонисты не стремились обратить их в свою веру.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?