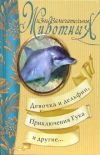Текст книги "Черное море. Колыбель цивилизации и варварства"
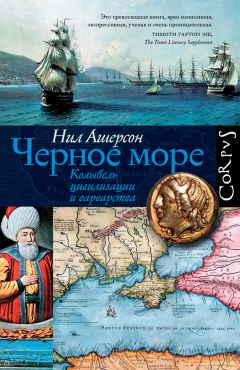
Автор книги: Нил Ашерсон
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Когда‑то нас учили, что классический мир был “центром”, который в конечном счете был разрушен варварской “периферией”; затем, немного более тонко, – что классический мир уничтожило его собственное внутреннее банкротство, моральное и даже финансовое, позволившее ордам кочевников хлынуть через рубежи Римской империи. Но сейчас есть и третье направление мысли: согласно этой модной и захватывающей версии, греко-римские общества уничтожили собственную среду обитания, а затем от жестокой безысходности двинулись во внешний мир, чтобы уничтожить те окружающие культуры – кельтскую, германскую, фракийскую, скифскую, – которые до того времени жили в гармонии с природой.
Датский археолог Клавс Рандсборг, к примеру, называет весь этот образ центра и периферии “стереотипом академического сознания”. Он рассматривает греческий и римский империализм как следствие экономической несостоятельности городов-государств на берегах Эгейского и Средиземного морей. Поначалу внешний мир довольствовался тем, что импортировал греческие и раннеримские товары и возводил собственные имитации средиземноморских городов-государств – укрепленные “города” на вершинах холмов (такие как Бельск или как кельтские поселения – оппидумы – на севере и западе Европы). Затем народы на окраинах стали изготавливать собственную высококачественную керамику и кузнечные изделия, начав с копирования, – до тех пор, пока потребность в импорте не отпадала. “Политические системы в старом Эгейском центре… оказывались вынуждены вести политику доминирования или завоевания, чтобы обеспечить себе постоянное экономическое преимущество”.
Рандсборг полагает, что, по мере того как греко-римские города-государства процветали, а их население увеличивалось, они уничтожали неустойчивую почву вокруг себя, пока ее плодородие окончательно не истощалось. “Политически развитое общество… могло, следовательно, поддерживать свой центр в определенной области только на протяжении пары веков подряд”. В случае Римской империи это означало, что необходимо осваивать более широкие территории. Сперва Галлия и Испания, затем Тунис и Левант начали поставлять старым центральным областям хлеб, вино и масло, а население их стало быстро расти. Последствия этого для “неклассического” мира на севере были катастрофическими.
“Большая Европа” за пределами Греческой и Римской империй разработала сложную и обширную сеть торговых путей и валютных отношений, протянувшуюся от Черного и Балтийского морей до Атлантического океана. Децентрализованная, но общая культура охватила весь континент, население которого пребывало в равновесии с собственными природными ресурсами и жило на бесконечно более плодотворных почвах, чем население средиземноморского “ядра”. Теперь, однако, этой системе и этой культуре предстояло разорваться на части. Римская имперская экспансия в северо-западную часть Европы, на Балканы и в Левант возвела укрепленную границу между внутренними и внешними секторами этой общей культуры. Старая Европа железного века была расколота, ее экономическая и социальная целостность была нарушена, а ее зыбкое политическое равновесие уничтожено. Последовавшие за тем “нашествия варваров” следует рассматривать, с точки зрения Рандсборга, как естественную попытку внешней периферии воссоединиться с внутренней. Развитие стало настолько неравномерным, различия, которые создала Римская империя между регионами этой некогда единой Европы, были так велики, что тех, кто остались снаружи, практически засосало внутрь, как восходящим потоком огня.
По мнению Рандсборга, та сила, которая повлекла захватчиков в Римскую империю, не выталкивала их, а притягивала. И то, что он называет периодом миграции (то есть “нашествия варваров”), следует понимать не как катастрофу, вторгнувшуюся извне, а как необходимый перерыв в процессе развития. В процессе почти тысячелетней экспансии, призванной компенсировать повторяющийся экономический крах, “центры власти” опустошили весь природный и политический мир вокруг себя. “Образ варвара, уничтожающего цивилизацию, – взывает Рандсборг, – следует, скорее, переосмыслить наоборот”.
Оседлые народы испытывают страх перед “бродячими”, но в то же время завидуют им и восхищаются ими. В своей зависти и восхищении они придумывают таких странников, которые отвечают их желаниям – в очередной раз берут в руки зеркало, чтобы изучить самих себя.
Вскоре после того, как греческие драматурги придумали варваров, они начали играть с “внутренним варварством” греков. Возможно, отчасти инакость варваров заключалась в том, что они, в отличие от цивилизованных людей, были морально однородными – не теми дуалистическими характерами, в которых благая природа боролась с дурной, а цельными. Авторы “Гиппократа” – неизвестные, написавшие греческие медицинские трактаты, которые ошибочно приписываются целителю Гиппократу, – утверждали в трактате “О воздухе, водах и местностях”, что скифы и все “азиаты” походят друг на друга физически, в то время как “европейцы” (под которыми подразумевались в основном греки) резко различаются ростом и внешностью от одного города к другому.
Варвары были однородны; цивилизованные люди были многообразны и различны между собой. Греческие драматурги полагали, что это могло быть верно в отношении умов так же, как в отношении тел. И если так, то они не были уверены, что сравнение между греческой и варварской психологией (первая сложная и скованная, вторая, предположительно, непосредственная и естественная) так уж льстит грекам.
Где‑то здесь берет свое начало длинная, нескончаемая баллада Европы, тоскующей по благородным дикарям, по охотникам-собирателям, живущим в мире с собой и со своей окружающей средой, по ковбоям, угонщикам скота, цыганам и казакам, кочевникам-бедуинам, которые следуют тропами своих песен по нетронутой девственной природе. Когда Еврипид начинал писать, афинские драматурги использовали инакость своего нового обобщенного варвара как зеркало, в котором они изучали греческие добродетели. К тому времени, когда он писал “Медею” в 431 году до н. э., это зеркало использовалось уже и для того, чтобы показать греческие пороки, или по крайней мере подвергнуть пересмотру ортодоксальную греческую мораль. В этой пьесе уже появляется хор коринфских женщин, которые наблюдают за чудовищной вспышкой страстей Медеи со смешанным чувством: испытывают жалость и ужас перед преступлениями этой варварской царевны из Колхиды, но в то же время и сдержанное сожаление, что мы, греки, скованные собственным принципом Μηδέν άγαν [miden agán] (“ничего сверх меры”), уже не умеем дать волю чувствам. Хор не выказывает никакого сочувствия холодной ортодоксальности Ясона, мужа Медеи, когда он укоряет ее:
Геродот считал скифов самым молодым народом на земле. По представлению Лас Касаса, в обеих Америках захватчики нашли не столько новый мир, сколько старый мир в состоянии остановившегося младенчества. Презумпция коллективной юности влекла за собой презумпцию коллективной невинности. Много позднее, по прошествии нескольких веков европейских спекуляций о происхождении и естественном состоянии человечества, романтические молодые люди в имперских мундирах начали влюбляться в туземцев, которых они завоевывали. От гор Аурес в Северной Африке до пиков Хайберского прохода хмурые молодые офицеры охотились на людей, которых считали лучшими и более естественными человеческими существами, чем они сами.
И Пушкин, и Толстой, и Лермонтов бывали на Кавказе в составе Российской армии (последние двое – офицерами), которая на протяжении жизни двух поколений воевала там, замиряя мусульманские горные племена. Эти “писатели под ружьем” проецировали на неприятеля все те достоинства, которых был, на их взгляд, лишен Санкт-Петербург: предельную целеустремленность и преданность своим убеждениям, цельность чувств, аскетизм в материальных потребностях.
Примерно в то же время английские и шотландские интеллектуалы переживали аналогичные приступы отвращения к себе и делали сходные фрейдистские “переносы”. В продолжение XIX века этим завоевателям предстояло влюбиться в население Аравии или пограничной Северо-Западной Индии. Более того, первое из подобных увлечений уже расцвело в пределах северо-западной границы самой Великобритании. Шотландские горцы потерпели окончательное поражение в предромантические 1740‑е годы, во времена, когда английский офицер Джеймс Вольф мог еще сформулировать предложение вербовать побежденные кланы на королевскую службу следующим образом: “Они выносливы, бесстрашны, привычны к суровой местности, и не будет большой беды, если они падут”. Но к 1820‑м подобное невозможно было произнести вслух и даже почти нельзя помыслить. Шотландские горцы стали символом простоты, чистосердечия, самоотверженной доблести, равнодушия к пошлой торговле и наживе и большинства прочих добродетелей, которые столичный Лондон в своем собственном представлении утратил, заплатив эту цену за “лоск”.
Путь духовного побега, который замыслил поэт и романист Михаил Юрьевич Лермонтов, вел через весь континент, из Шотландии на Кавказ. Лермонтов, потомок Лермонта из Балкоми, офицера-наемника, служившего польскому королю, а затем русскому царю, создал в воображении страну своих предков, и его образ Шотландии суровых круч и одиноких героев сильно походил на окружавшие его Дагестан и Чечню. Отправляясь воевать на Кавказ в конце 1830‑х, он взял с собой русский перевод Оссиана. Впоследствии поэмы Оссиана были разоблачены как подделка, изготовленная Джеймсом Макферсоном и приправленная раскрошенными выдержками из подлинной традиционной гэльской поэзии, но Лермонтову Оссиан казался чем‑то вроде пропуска не только к особой близости с Кавказом, но и ко второй идентичности – нерусской, неукрощенной.
В своем стихотворении “Желание” Лермонтов стал “вороном степным” и полетел в Шотландию:
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
Стихотворение заканчивается крещендо изысканной жалости к себе:
Последний потомок отважных бойцов
Увядает среди чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой…
О! зачем я не ворон степной?..
Эти два элемента, видение кавказской Шотландии и дуалистическое страстное стремление быть человеком двойной природы, снова объединяются в его коротком “Гробу Оссиана”:
Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!..
Балкоми, откуда происходили Лермонты, – это место вовсе не оссиановское, не похожее на Кавказ. Дом, который сегодня являет собой смесь древних башен и современных сельскохозяйственных построек, стоит не на Шотландском высокогорье, а на равнинном мысе Файф, скошенном солеными ветрами Северного моря. Но даже если Лермонтов-Лермонт знал это, его чувство двойственности коренилось в самом сердце шотландской литературной традиции, связанной с темой раздробленного сознания и чувства раздвоения личности. Несколькими годами ранее, в 1824 году, шотландский писатель Джеймс Хогг опубликовал свою “Исповедь оправданного грешника” о человеке, имевшем две личности: не русскую и шотландскую, а человека и демона.
Однако Лермонтов был в одно и то же время дуалистом и дуэлянтом. Он не удосужился прочитать Хогга. Вместо этого он “увял среди чуждых снегов” на Кавказе в 1841 году, пав жертвой нелепой дуэли, которую сам спровоцировал и даже предсказал в своем жестоком, совершенном романе “Герой нашего времени”. Секунданты уговаривали обоих противников стрелять в воздух. Первым был Лермонтов, который так и поступил. Но, взведя курок, он вдруг громко сказал: “Я в этого дурака стрелять не буду!” Его противник, взбешенный этим, опустил пистолет и выпустил пулю Лермонтову в грудь.
В отличие от него, Оссиан умирал медленно. По ирландским преданиям, Оссиан (Ойсин) был сыном Финна Маккула, предводителя дружины героев, которых на английский лад называли фениями. Он был их бардом, облекшим все деяния фениев в слова и мелодии, которые никогда не будут забыты. В рассказах Оссиана (которые представляли собой что‑то вроде сиквела к основному циклу мифов о фениях, как будто слушатели не вынесли бы окончания этой сказки) он пережил всех своих товарищей и дожил до Мафусаиловых лет – последний из рода гигантов. Оссиана часто навещает святой Патрик, мягко укоряя его за его гордую преданность старому миру языческого насилия и свободы, ушедшему в небытие. Но нераскаявшийся старый гигант проклинает новый мир карликов-конформистов и насмехается над христианской этикой мира и покорности. Он страстно желает одного: в последний раз отправиться на охоту с Финном и другими героями к водопадам Эсс Руайд.
В этих сказках есть невероятное сострадание, спокойное осознание жестокости времени. Еврипиду они бы понравились. Но когда Джеймс Макферсон придумал Оссиана заново в XVIII веке, в своих “эпических поэмах шотландского Гомера” он опустил всю эту зрелую иронию, так же, как и ту особую радость перед природным миром бегущего оленя и усыпанных ягодами рябиновых кустов, которая составляет достоинство лучшей гэльской литературы. Странные переосмысления случались и с Лермонтовым. Он очень часто использовал слово “забвенный” – “одинокий, забытый”. Печорин, лермонтовский “герой нашего времени”, держался особняком, не прося ни любви, ни жалости. И тем не менее я обнаружил в лице Лермонтова душу семейной вечеринки.
Как‑то вечером я приехал в Анапу, маленький порт у северо-восточной оконечности Черного моря, где Лермонтов останавливался во время своих скитаний по этому побережью. Я приехал, чтобы осмотреть раскопки греческой колонии Горгиппы, лежащей под городом, однако прибыл поздно: директриса музея была уже в своем лучшем медно-красном платье, собиралась на вечеринку и пригласила меня с собой.
Мы прошли через обсаженный пальмами двор бывшей гостиницы, а теперь санатория русских ветеранов Афганской войны и оказались в вестибюле, где стояли столики и проходило шумное собрание. Это была встреча Лермонтовых. Около 60 человек в возрасте от девяти до девяноста лет собрались со всего света – из России, с Украины, из Франции и обеих Америк и даже из Шотландии: там был бородатый Лермонт, сейчас проживающий в Люксембурге, и окружной прокурор из Данди, организовавший общество по сохранению Балкоми.
Они уже почали водку и кубанское шампанское, а дети, схватив по куску пирога, кружились на танцполе или ползали под столами. Мне оказали радушный прием на этом торжестве… В честь чего, собственно? На нем не чествовали Лермонтова как писателя, поскольку во всех тостах и речах того вечера не прозвучало ни слова о литературе. На самом деле это была встреча клана, торжество рода – родства и генеалогии.
Михаил Лермонтов никогда не был женат и, насколько мне известно, не имел детей. Его мать умерла, когда ему было два года, отец не обращал на него внимания, и единственным объектом его привязанности была бабушка. Неважно! Он был прославлен, и его дальние родственники и непрямые потомки объединились вокруг его славы в одну огромную, теплую и шумную семью, незримо водворив Михаила Юрьевича во главе стола. Возможно, и правда, что великий предок был немного бирюком, которому недоставало родственных чувств. Но теперь он был прощен.
Они поднимали тосты “за землю, род и родину”. Племя Лермонтовых не могло не нравиться. Они выжили – а это значительное достижение для русских XX века. Они пронесли узы родства через океаны и через железный занавес холодной войны. Когда ржавые ворота между Россией и остальным миром растворились, они нашли друг друга заново и встретились с полчищами незнакомых детей. Они только что совершили совместное паломничество в Пятигорск, на луг, где Лермонтов погиб (окружной прокурор, все еще бледный, признался, что эта поездка по железной дороге была худшими тридцатью шестью часами его жизни), но в действительности их не интересовал Михаил Юрьевич как таковой. Они интересовались друг другом и устроили праздник в честь себя самих.
Под конец я уже не мог за ними угнаться. Я вышел в ночь и вдохнул свежий морской воздух с бухты Анапы. Мой попутчик, казак, приехавший со мной из Ростова, был сердит на все это, на отсутствие “настоящего” Лермонтова. Он проворчал: “Фетишизм!”
Парк в Анапе, некогда опрятное и чопорное место, теперь стал приютом своры бродячих собак, которые чесались целый день и выли всю ночь. За городом начинается Таманский полуостров, длинная стрелка Азии, которая тянется так далеко, что почти касается Европы через Керченский пролив. Лермонтов бывал и там. Он глядел на курганы, возвышающиеся как холмы над плоским ландшафтом: для него они были могилами Оссиана, забвенными местами.
Он ошибался. Во времена Лермонтова научные раскопки еще не начались, и он мало знал о том, что на самом деле находилось внутри этих могильных холмов. Поначалу они действительно возводились, чтобы покрыть единственное, одинокое тело кочевого вождя или царицы, деливших гробницу только с лошадями и рабами, принесенными им в жертву. Но с течением лет могилу обычно захватывала толпа других остовов, набивавшихся туда за компанию. Под дерном происходило другое воссоединение семьи, которое затем перетекало в новый могильный холм меньшего размера по соседству. В России, как случилось обнаружить Толстому задолго до того, как он умер и был похоронен, великому человеку трудно побыть одному.
Глава третья
Ядро этого своеобразного народа [казаков] составляли дезертиры <…> Закон природы и непрерывное прибытие новых беглецов быстро увеличивали их число. Они радушно принимали новобранцев любой национальности, и к ним присоединялись все отщепенцы, чьи преступления вынуждали их покинуть цивилизованное общество. Таким образом, они из простых беглецов превратились в народ. Как можно предположить, их обычаи изобличали пятно, лежавшее на их происхождении.
Генри Тиррелл История Российской империи
Как‑то холодной осенью я отправился в устье Дона и остановился в греческой колонии. На руинах города Танаиса стоит маленькая современная деревня археологов, живущих в деревянных бытовках. Летом на раскопки прибывают экспедиции из российских или германских университетов, и на несколько месяцев это место оказывается наводнено мускулистыми студентами, которые спят в палатках и поют под гитару у костра. Но не в сезон в Танаисе остается только полдюжины мужчин и женщин, их койки втиснуты между полками с черепками греческой керамики и бутылями фотографических химикатов. В это время, пока скифские морозы не покрыли еще Азовское море льдом и снег не занес дорогу в Ростов, пустые бараки сдают посетителям.
Директор Танаиса, начальник этой колонии – Валерий Федорович Чеснок. Как и его коллега в Ольвии, Чеснок оказался на мели: заповедник лишился дотаций, археологов бросили выживать как умеют, будто на льдине, забытой судами снабжения. Вода поступала из источника, отопление было ненадежным, санитарные условия сводились к уборной на улице. Кое-какую еду и сколько угодно водки можно было достать в казацкой деревне Недвиговке (название означает приблизительно “несдающаяся”) в миле оттуда. Овощи в изобилии продавались в богатой, благоустроенной армянской деревне на полпути к Ростову, но только весной и летом. В конце сентября, когда я был там, ученые еще питались неплохо: на завтрак был тушеный карп и свекольный салат, запивалось все это галлонами дымящегося чая из ромашки и степных трав.
Русские археологи обычно описывают всю сферу умственной деятельности, к которой они принадлежат, словом “наука”. В русском языке, в отличие от английского, значение этого слова вовсе не ограничивается естественными или техническими науками; филолог или искусствовед в той же мере является ученым, что и молекулярный биолог, ученым в том смысле, который передает французское слово savant. Ничто – ни сталинский террор, ни тяготы и лишения свободного рынка – не смогло умалить величие этого русского слова. Когда господин Чеснок и его поселенцы называли себя учеными, они, как я понял постепенно, имели в виду не только свои исследования, но и некое духовное, экзистенциальное состояние. В их сознании существует что‑то вроде мраморной стелы с высеченными на ней моральными заповедями, исполнению которых посвящена жизнь ученого. В числе этих заповедей – приверженность истине, верность товарищеским узам, интеллектуальная и личная самодисциплина, аскетическое безразличие к неудобствам или деньгам. Это устав религиозного ордена. Я слышал, как в Танаисе осуждали роман между русским археологом и иностранным исследователем как “недостойный ученого”, поскольку из‑за этого романа женщина-археолог изменила график раскопок.
Однажды я наблюдал, как господин Чеснок разговаривает по телефону с Москвой. Невысокий, энергичный, он стоял у своего стола, расправив плечи, и выкрикивал четкие приказы одному телефонисту за другим сквозь жужжание и шипение помех. Передо мной был артиллерийский офицер на Курской дуге, командующий открыть огонь или связывающийся с командиром батареи, оказавшейся под ударом: “Москва? Алло! Это Чеснок, Танаис. Повторяю: Чеснок, Танаис. Дайте мне Москву! Алло!” Так, через ширящиеся провалы хаоса, через расстояния, которые, кажется, еще удлинились, когда в России ослабели связи периферии с центром, отстаивается единство науки.
Господин Чеснок не потерял присутствия духа. Он написал брошюру под заглавием “Принципы жизни”, с которой могут ознакомиться посетители: его собственный крепкий оптимизм выражен там при помощи цитат из десяти заповедей и американской Декларации независимости. Как‑то ночью, под конец грандиозного спора с одним казаком о коррупции, казацком национализме и судьбе нации, он попытался объяснить мне свою веру: “Все это не такая уж трагедия. Для идентичности важна только культура, а не национальность и не деньги. Россия переживает сейчас бурные времена, но они пройдут, а мы останемся”.
С точки зрения русского ученого, бурные времена, которые после 1991 года принесли с собой первую волну диких капиталистов, часто напоминали новое вторжение степных кочевников. Но когда неведомая орда виднеется со стен черноморского города, у него всегда есть тактический выбор. Первый вариант – запереть ворота на засов. Второй – пригласить вождей кочевников внутрь как почетных гостей. Несколько золотых колец или амфора трапезундского вина могут произвести на них такое впечатление, что они предложат свои услуги для защиты города. Танаис – и как греческая эмпория, и как русский археологический лагерь – как правило, выбирал второй вариант.
Это открытие я совершил как‑то ранним утром, когда брел, спотыкаясь, в уборную через горы глиняных черепков. Я остановился, чтобы полюбоваться видом. Бараки и греческие развалины расположены на северном берегу дельты Дона, над заводью, которая когда‑то была главным его руслом, а теперь называется Мертвый Донец. Вдалеке под низкими облаками свинцом отливало Азовское море. А затем я увидел двугорбого верблюда. Он брел в мою сторону, пока не натянул привязь, потом откусил кусок кустарника, росшего на старом крепостном валу. Позади него я разглядел стоянку ржавых автоприцепов и буксирных тракторов: на них, как флаги, развевалось белье, развешанное для просушки.
Как выяснилось, это был Ростовский государственный цирк, стоящий на своей новой зимовке. Господин Чеснок нашел спонсора: застройщика-спекулянта, который влюбился в дрессировщицу цирковых собак. Цирк переживал тяжелые времена, и дрессировщица были безутешна, поскольку власти Ростова лишили их дотации, позволявшей арендовать дорогое здание в центре города. Спонсор, зная о трудностях господина Чеснока, нашел выход из положения. Он пообещал, что, в случае если Танаис выделит цирку несколько гектаров нераскопанного греческого предместья для зимовки и выпаса животных, он изыщет возможность построить новый кирпичный склад и лабораторию для ученых.
Так и была заключена сделка. Застройщик был счастлив, дрессировщица утешилась, а ученые Танаиса неуверенно вступили в новый мир, в котором культура зависит от милости частных предпринимателей.
С точки зрения городских культур Средиземноморья, от греков до генуэзцев и венецианцев, дельта Дона представляла собой северо-восточный угол мира. И дельта, и дальняя оконечность Азовского моря были местами настолько далекими, они были так подвержены набегам кочевников, туда было так трудно добираться по морю, которое во многие зимы замерзало, что в течение долгого времени купцы из Эгейского и Средиземного морей здесь не обосновывались. Но в хорошие времена здесь можно было нажить состояние. Когда степные правители на материке не воевали друг с другом, караванные тропы – Великий шелковый путь – тянулись через всю Евразию из Китая до дельты Дона.
Это была не просто внутриконтинентальная торговля вроде хлеба, вяленой рыбы и рабов, на которых разбогатела Ольвия, а экспорт предметов роскоши на большие расстояния. Из Китая, Персии и Индии шли шелка, пряности, фарфор, бронза и золотые изделия, которые европейские поселенцы в дельте Дона оплачивали разными способами. Греки экспортировали вино, красно– и чернофигурную керамику, ювелирные украшения и утварь, которые изготавливались сначала в Греции, а позднее в Боспорском царстве на Керченском проливе. И греки, и итальянцы иногда заключали сделки за наличный расчет, и монеты их чеканки путешествовали в обратном направлении за тысячи миль, попадая с караванами в Азию. Итальянцы торговали на экспорт в основном грубым европейским шерстяным сукном, вытканным во Фландрии, Ломбардии или Венеции, большую его часть производили ранние версии того, что позднее получило именование фабричной системы.
Чтобы обслуживать эти дальние пути в Евразию, в дельте выросли два укрепленных торговых города. Первым был Танаис (тем же словом в греческом и латыни называется река Дон). Этот город, основанный примерно в 250 году до н. э., стоит на северной стороне дельты, на бывшем главном русле реки; корабли могли заходить из Азовского моря (которое было на несколько миль ближе, чем сейчас) и швартоваться под его стенами. Танаис простоял около пятисот лет, до тех пор, пока готы не разграбили и не сожгли его в III веке. Некоторые из поселенцев позднее вернулись на развалины, но примерно в 350 году Танаис был окончательно уничтожен пришедшими из Азии гуннами.
Для того чтобы северное побережье Черного моря могло процветать, всегда требовались два условия: прочный мир в степях на материке и свободный проход между Черным и Средиземным морями. Эти условия снова возродились в VIII и IX веках, когда хазарские кочевники установили свое господство надо всем регионом, от Черного моря до северных лесов. Однако Pax Khazarica [“хазарский мир”] не распространялся на Азию, находившуюся далеко на востоке. Только в XIII веке, с завоеваниями Чингисхана и его преемников, распространивших татаро-монгольскую империю на всю Евразию от Японского моря до Черного, сухопутное сообщение между Китаем и Европой снова открылось после почти тысячелетнего перерыва.
Татаро-монголы прибыли на Черное море, когда Византийская империя клонилась к закату, ослабленная борьбой с османскими турками и напором государств крестоносцев с запада. За спинами сухопутных армий крестоносцев стояли морские города-государства Италии (прежде всего Генуя и Венеция), которым не терпелось прорваться через Дарданеллы к черноморским рынкам. Не желая делить Черное море с чужаками, поздние византийские императоры поначалу предоставляли этим “франкам” и “латинянам” проход через Дарданеллы неохотно и нерегулярно. Но после того как крестоносцы взяли Константинополь в 1204 году, эти две морские империи получили возможность проскользнуть через Босфор, чтобы достигнуть крымского берега, Азовского моря и, наконец, Дона.
Тогда и был построен второй город в дельте. Тана – такое он получил название – стояла на противоположной, южной стороне дельты, глядя через десять миль камыша на безмолвные руины, которые когда‑то были Танаисом. Тана, основанная генуэзскими и венецианскими колонистами в XIII веке, поначалу представляла собой открытое торговое поселение и лишь постепенно обзавелась каменными стенами и башнями итальянской постройки. На практике в стенах было мало смысла. Залогом выживания Таны всегда была только терпимость Золотой Орды, западного дивизиона татаро-монгольской империи, который прибыл в понтийскую степь всего несколькими десятилетиями раньше. Дипломатия Таны, как по большей части и ее ближняя торговля, была сосредоточена на “столице” Золотой Орды, Сарае, далеко на Волге. Вытеснив в конце концов генуэзцев, Тана на некоторое время стала самой прибыльной из всех венецианских колоний. Но ее зависимость от монголов, а позднее от крымских татар никогда не ослабевала. Большую часть времени острие монгольской власти было обращено в сторону от итальянцев, но в конечном счете оно их сразило.
Как‑то дождливым осенним днем, изучая то, что осталось от Таны, я посмотрел вниз, в огромный, неряшливый котлован, стены которого состояли из обугленной земли, древесного пепла и обожженной штукатурки. Из них белыми обломками на фоне черной почвы торчали человеческие черепа и берцовые кости.
Неподалеку археологи свалили свои находки в картонные коробки, раскисавшие под дождем: фрагменты амфор, которые импортировали из Трапезунда для перевозки икры, битые бутылки из волнистого венецианского стекла, черепки карамельной византийской керамики и изысканных зеленых глазурованных чаш, изготовленных татарскими ремесленниками Золотой Орды в Сарае. Крупные куски черной ржавчины оказались наплечниками венецианской кирасы, лежащей среди железных стрел для арбалета.
Все это – следы разрушения, оставленного Тимуром (Тамерланом), чьи войска разграбили Тану в 1395 году в ходе последнего великого нашествия кочевников из Центральной Азии. Однако для венецианской Таны это еще не стало окончательной гибелью; итальянцы оставались здесь до тех пор, пока город не взяли штурмом татары и турки, когда в 1475 году их объединенные армии зачищали все, что оставалось от византийско-латинского присутствия на северном побережье Черного моря. Сам город продолжил свое существование как османский порт Азак, а затем как огромная турецкая крепость Азов. Сегодня город Азов с речным портом на Дону покрывает собой все то место, на котором стояла Тана. По какой‑то причине советская власть решила, что с идеологической точки зрения генуэзское наследие менее предосудительно, чем венецианское: там есть разрушенные Генуэзские ворота (на самом деле русские, XVIII века) и обшарпанный угол, где от улицы Розы Люксембург[23]23
Сейчас спуск Александра Невского.
[Закрыть] отходит Генуэзская улица. Память о Венеции была искоренена.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?