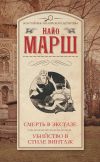Текст книги "Желания требуют жертв"

Автор книги: Нина Халикова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Как ты можешь так говорить, Милена, ведь ты танцуешь Жизель, – вскипел Платон. – Жизель – это тема бесконечного страдания, страдания ради возлюбленного, тема божественного всепрощения.
– Вот именно! Ты верно сказал: я танцую, я исполняю роль, – язвительно сказала Милена. – Я человек искусства, а такие люди, если ты не знаешь, способны к перевоплощению. Чтобы станцевать трагедию, достаточно её себе вообразить, представить, а не упиваться болью самолично, как это делают некоторые.
Напряжение между молодыми людьми стремительно накалялось, и старый Кантор решил несколько разрядить воздух. Он приподнялся со своего места, чтобы поставить пластинку, но Милена поняла его намерения и, не желая вот на такой ноте заканчивать разговор, как можно наивнее сказала:
– Как жаль, что совсем не разбираюсь в философии, Пётр Александрович. Бесконечность… Я никогда не понимала, как это.
Примерно лет с пятнадцати она для себя сделала одно небольшое открытие: иногда, время от времени, бывает выгодно добродушно сознаваться в собственной никчёмности. Так сказать, несколько занизить свои успехи, для того чтобы выслушать в свой адрес ряд лестных высказываний и на прощание оставить о себе самое благоприятное впечатление.
– Напротив, – словно желторотый птенец, попался на удочку старый Кантор, – вы мне показались слишком осведомлённой в некоторых вопросах э… жизненной философии.
Милена приторно заулыбалась. Платона злило её стремление быть любезной с дедом, её нарочитая, обманчивая открытость. Он видел в этом чудовищную неискренность. Мир интересовал её постольку-поскольку.
– У философов и влюблённых, – злобно прошипел Платон, – есть один общий дар: наделять сложным, необыкновенным, необычным всё простое и даже примитивное. Только у философов этот дар, видимо, строго врождённый, а у влюблённых это проходящий недуг.
Часы пробили девять раз. Милена вздрогнула от неожиданности на первом ударе и вопросительно на них посмотрела. Дед уловил её взгляд:
– Нет, нет, прекрасная фройляйн, с этими часами всё в порядке.
– Да, но на них всего лишь одна стрелка. Я посчитала их нерабочими.
– И одной стрелки предостаточно. Всё остальное – это уточнение, оно не всегда нужно. Слишком много суеты, а я предпочитаю неспешность. Видите ли, это не просто часы, а самая настоящая философия. Они тебя не торопят, они тебя не подгоняют. Благодаря им происходит естественное ощущение времени. Более старых и более точных часов я в жизни не встречал. Когда-то давно я их привёз из Германии. Они достались мне от моего деда. Эти часы, можно сказать, родственники египетским гномонам и «нюренбергскому яйцу». Однако прошу прощения, молодые люди, я вас совсем заговорил.
Платон и Милена, не глядя друг на друга, моментально догадались, что сегодняшний вечер внезапно подошёл к концу.
– Вы не сказали фамилию германского профессора, влюблённого в себя и в Платона, – поинтересовалась на прощание Милена.
– Хайдеггер, юная фройляйн, его фамилия Хайдеггер. Благодарю вас за любопытство. В следующий раз я непременно угощу вас шнапсом собственного приготовления, и ещё будем слушать шиллеровские баллады, – озорно, совсем как мальчишка, сказал старый Кантор, провожая гостей до двери.
XV
Выйдя от старого деда, Милена холодно посмотрела на Платона и слишком вежливо принялась прощаться. Ему показалось, что ей не терпится поскорей от него отделаться. Он отвёз её домой на такси, она вела себя с ним просто и равнодушно, как ведут себя воспитанные девушки с незнакомыми людьми. Окончание странного вечера Платон Кантор провёл в своей одинокой холостяцкой квартире. Всю ночь он пролежал без сна то с открытыми, то с закрытыми глазами, представляя холодную Милену в своих объятиях в те самые ушедшие мгновения любви. Его детская сентиментальность рисовала при этом самые обольстительные любовные сцены. В своих мечтах он получал любые блага, ему не принадлежащие, испытывал самые смелые наслаждения, ему недоступные. Платон с детства был безнадёжным мечтателем, а жизнь в фантазиях, что ни говори, сильно отличается от жизни реальной. Сегодня бурные мечты унесли его так далеко, что не было сил возвращаться обратно. Сегодня их полёт настолько увёл Платона от действительности, что вынужденное приземление в реальность вызвало лишь разочарование. Он представлял себе, как Милена с помутившимися от желания глазами впивается в его губы с опьянением. Он видел финальный занавес после спектакля, слышал аплодисменты публики, и уставшая и счастливая Милена улыбалась со сцены только ему одному, и ему же предназначались все её поклоны. После таких видений он был раздосадован и даже обозлён, оттого что не знал, как все эти фантазии приблизить к материальному миру, или уж хотя бы просто научиться не изводить себя вымыслом. Да, он с ней переспал, но не приблизился к ней ни на миг.
Он чувствовал лёгкое удушье. Когда поднимаешься высоко в гору, постепенно становится трудно дышать, как раз и чувствуешь то самое лёгкое удушье от нехватки воздуха. Даже если ты покорил неприступную вершину, то всегда есть шанс потерять равновесие от удушья и сорваться вниз. Нечто подобное сейчас испытывал Платон, представляя Милену, холодную, недоступную, далёкую вершину, рядом с которой всегда перехватывает дыхание. Он пытался найти какую-нибудь зацепку, крючок, слабое место, за которое можно ухватиться, но ничего не находил. «Завтра утром перед репетицией попытаюсь с ней поговорить», – думал Платон, понимая, что говорить с равнодушной женщиной и трудно и страшно, но он всё-таки попробует. Его самоуважение от этого не пострадает.
XVI
Наутро бледный Платон стоял у приоткрытой двери женской гримёрки и внимательно разглядывал, как Милена сидела на стуле посреди безлюдной уборной с пуантами в руках. Она зажимала между колен новую балетную туфельку, постукивала маленьким молоточком по краям её носочной части, чтобы та становилась мягче и удобнее. Потом она несколько раз поднималась со стула, закладывала пуанты в дверную щель и слегка сжимала их перед самым носом Платона. Он терпеливо дожидался, когда же она его уже заметит.
Милена закончила с приготовлением и стала надевать пуанты из белого атласа, обшитые белой кружевной тесьмой. Она с придирчивой объективностью разглядывала свои ноги, точно они не были идеальны и принадлежали вовсе не ей. Платон прямо-таки пожирал глазами шёлковые ленточки, пришитые к корпусу балетной туфли, плотно опоясывающие стройную ногу Милены. Ему хотелось как-то привлечь к себе её внимание, но слова ещё не рождались, а Милена, видно, не собиралась ему помогать, она молчала, и это её безмолвие ещё сильнее придавливало Платона. Вот если бы она сказала какую-нибудь глупость, это существенно разрядило бы воздух и порадовало бы его. Из уст любимой женщины даже глупости звучат восхитительно, особенно глупости и звучат восхитительно.
Она наконец оторвалась от своего занятия, встала на жёсткий «пятачок», от чего сделалась ещё более воздушной, способной оторваться от земли, бросила на Платона короткий непонимающий взгляд и быстро отвернулась. В нём вспыхнуло возмущение.
– Доброе утро, Милена, – начал совсем разозлившийся Платон, но при этом старался говорить ровно, – ты знаешь, я тут вспомнил забавный случай: однажды один инженер, оказавшись на каком-то балете, кажется «Дон Кихоте» или «Лебедином», увидел, как балерина крутит на одном пуанте тридцать два фуэте. Инженер был очень удивлён и загорелся желанием механизировать весь этот процесс, чтобы облегчить такой адский труд. Он долго изучал устройство пуант, а потом предложил встроить в жёсткий носок маленький шарикоподшипник. Ему казалось, что при таком усовершенствовании любая балерина сможет наверчивать хоть сто тридцать два фуэте. Балерина, правда, отказалась. Как думаешь, Милен, это помогло бы классической хореографии?
– О нет, только не это! – она внимательно посмотрела ему в лицо. – Платон, прошу тебя, пощади мои уши. То, что у тебя напрочь отсутствует чувство юмора, не беда. Хуже, когда ты начинаешь шутить. Поверь мне, не надо, это не твоё.
Он смотрел на неё не отрываясь, его переполнял стыд за собственную неуклюжесть и мучил страх окончательной отставки. Раньше, до Милены, Платон считал себя хорошим любовником, искусным в любви, ему казалось, что из его постели женщины выходили счастливыми и благодарными, изумлёнными и жаждущими с ним новых встреч. Сейчас всё совсем иначе, сейчас он был растерян, и от этой самой растерянности был готов обхватить её шею двумя руками и начать тихонько придушивать, пока она не посинеет и не начнет хрипеть.
– Что ты делаешь сегодня вечером? – резко спросил Платон.
– У меня сегодня свидание, – равнодушно ответила Милена и хотела выйти, но он перегородил ей путь, – дай пройти, все давно в зале, репетиция уже началась. Меня ждёт Петровская.
Платон почувствовал себя третьим лишним, от которого в такие моменты полагается как-то отвязаться, убежать, или даже спрятаться. За что такие муки? Она была стихией, океаном, целебными водами, которыми можно либо излечиться, либо бесследно в них утонуть. Как бы то ни было, Платон сейчас понял, что эта женщина, эта самовлюблённая женщина, эта гордячка переменит всю его жизнь. Он не знал, какие изменения она предвещает, но это судьба, с судьбой спорить бессмысленно.
– У тебя новый любовник? Или ты сегодня опять встречаешься с Романовским? – сам себя растравливая, с болезненным наслаждением спросил Платон.
Она опустила глаза, красноречиво давая понять, что не слышит его дурацкого, неделикатного, бессмысленного вопроса, – вопроса, который задавать так же неуместно, как и отвечать на него.
– Возьми меня с собой, я тебе не помешаю, я буду просто смотреть, – чуть слышно металлически-гибельным голосом попросил Платон.
– Ты в своём уме? Это уже слишком! Даже моя аморальность не безгранична, – она брезгливо на него взглянула. – Не строй из себя Отелло. Меня никогда не приводили в восторг ревнивые кретины вроде тебя.
– Милена, почему, ну почему ты равнодушна к страданиям, которые причиняешь мне? Ты что, не видишь, как мне плохо?
– А я предпочитаю людей блаженствующих людям страдающим. Вчера, в доме твоего деда, я тебе как раз об этом и говорила. Да ты, как видно, туговат на ухо и ровным счётом ничего не услышал.
– Мне плохо.
– Ты всё выдумал, ты фантазёр в самом худшем смысле этого слова, и к тому же неудачник. У таких людей надуманные страдания ничем не отличаются от реальных. Дай пройти, я опаздываю.
– Милена, ты ведёшь себя просто неприлично!
– Что? – расхохоталась ему в лицо Милена. – Что за приступ честности, Тоник? Припоминаю, не так давно ты благополучно переспал со мной, позабыв предварительно предложить руку и сердце, а теперь рассуждаешь о приличиях?
– Милена, опомнись, что ты говоришь? Посмотри на меня, я ведь тебе верен. Я хочу быть тебе верным. Мне кроме тебя никто не интересен.
– Что за вздор ты мелешь с утра. Это будет похлеще нашего кордебалета с их потугами порассуждать. Ты мне верен? Верен. Я не знаю, что значит быть верным или неверным. И уж, во всяком случае, ни о чём подобном я тебя, кажется, не просила.
– Скажи честно, я тебя потерял? – не унимался Платон, выжидающе стоя в дверном проёме и загораживая проход.
– Жаль, что у нас не ставят «Идиота», ты бы блистал в главной роли. Тебе не пришлось бы даже входить в образ, потому что это твоя суть.
– Я тебя потерял? – не отступал Платон. Пусть она говорит обидные слова, это всё же лучше, чем ничего, чем полное равнодушие. Пусть с её уст слетают слова, которые трудно простить, пусть их будет как можно больше, ему так будет даже легче.
– Чтобы потерять, нужно для начала иметь, обладать. А постель, мой ревнивец, это ещё не обладание, это животное желание, да и всё. Чтобы по-настоящему обладать женщиной, её нужно завоевать. Ты что-нибудь об этом слышал? Судя по твоему поведению, нет. Завоевать умом, уверенностью, великодушием, Тоник. А за тобой ничего подобного не водится. Кстати, и в постели ты тоже не блещешь. На сцене ты и то более техничен. Так что не обольщайся, мой славный неудачник, нельзя потерять то, чего никогда не имел. Твои фантазии куда более развиты, чем твои физические и умственные возможности.
– А как же любовь, моя любовь? Да, я понимаю, тебе это всё безразлично, – с мужским настойчивым эгоизмом не отставал Платон.
– Любовь? – снова засмеялась Милена пустым русалочьим смехом. – Мне всё равно, каким образом ты распорядишься своей любовью.
– Всё равно? Даже если её финал будет трагическим? А что если я тебя убью?
– Ты? Меня? Ты даже не осознаёшь, насколько ты жалок, – более чем серьёзно отчеканила Милена, глядя Платону прямо в глаза. – Такие, как ты, могут лишь волочиться да клянчить.
Она с силой оттолкнула Платона с прохода и жадно захлопнула дверь гримёрки.
XVII
Генеральная была в самом разгаре, шла сцена на кладби-ще. Все собравшиеся участники репетиции стояли за кулисами и смотрели на сцену. Виллисы в длинных ослепительно-белых пачках-шопенках[8]8
Длинное балетное платье, получившее такое название после балета Михаила Фокина «Шопениана». Обычно используется в балете для создания образа романтического или мифического, неживого существа.
[Закрыть]* из фатина выстроились в две шеренги, Женя Васильева в образе Мирты ждала своего выхода. Серж Романовский в костюме Альберта стоял у левой четвёртой кулисы, и выглядел при этом более чем равнодушно, – казалось, его даже не волновала предстоящая трудная сцена «затанцовывания» принца до смерти с её антраша[9]9
Entrechat (фр.) – лёгкий прыжок вверх, во время которого ноги танцора быстро скрещиваются несколько раз в воздухе, касаясь друг друга (хореогр.).
[Закрыть] и бризе[10]10
Brisé (фр.) – прыжок, во время которого пролёт опорной ноги как бы удерживается ударом работающей (хореогр.).
[Закрыть].
А пока Милена Соловьёва, ослеплённая лучами прожекторов, пожираемая множеством завистливых или восторженных глаз, не видя никого и ничего, танцевала свою партию. Она танцевала так, словно получала величайшее из удовольствий, известных живому существу. Все её движения сопровождались признаками почти животного наслаждения. По её спине пробегала едва заметная нервная дрожь, глаза горели красным углем, сквозь щедро набелённую кожу проступал румянец, рот слегка приоткрыт, и полное, абсолютное ощущение полёта. Она почти не касалась сцены, она парила, и можно было подумать, что воздух её удерживает против всех законов притяжения. Милена крепко держалась за него, подолгу не приземляясь. По сторонам она не смотрела, – казалось, её вовсе не интересовало, какое впечатление она производит на окружавших людей, ей не было до них дела. Собравшиеся всё ждали, что она вот-вот сделает промах, ну хоть какую-нибудь ошибку, и тем самым испортит одно из блестящих мест танца, но Милена всех разочаровывала и продолжала оставаться безупречной.
Вдруг она как-то неловко, не по-балетному, остановилась в неположенном месте, сильно закашлялась, точно поперхнулась слюной, схватилась за горло, ноги её подкосились, и она неожиданно тяжело рухнула на пол, точно лишилась чувств. Никто не понял, что с ней произошло. Всем это падение показалась роковой, драматической импровизацией в спектакле, все присутствовавшие застыли и ждали, что она вот-вот очнётся, зашевелится, поднимется и, как положено, продолжит танец. Но Милена оставалась лежать без движения. Кто-то вдруг испуганно вскрикнул, и музыка тут же замерла. Как по команде, все высыпали на сцену, ярко светящуюся посреди тёмного многоярусного театрального полукруга. Милена была мертва. Собравшиеся стояли с перепуганными лицами, не соображая, что же теперь полагается делать. Поняв, что она мертва окончательно и бесповоротно, каждый почему-то так некстати подумал, какое значение это может иметь для него самого. «Может быть, теперь я получу главную партию», «Наконец-то мальчик избавлен от этих отношений», «Он больше никогда её не обнимет. Какое блаженство», «Теперь уж точно ты никому не достанешься», «Справедливость есть на свете, и она восторжествовала», «Как странно, она мертва, а я совсем ничего не чувствую».
Да, Милена Соловьёва была мертва. Не то чтобы факт её смерти кого-то сильно обрадовал или огорчил, но как-то так получалось, что это было на руку почти всем здесь собравшимся. И при этом практически каждый подумал, достаточно ли в его лице нескрываемой скорби и ужаса, или нужно усилить впечатление.
Все боялись смотреть на Милену, и боялись оттого, что выражение лица её ничуть не изменилось. Она лежала так, словно её голова была увенчана венцом победителя, словно это она выиграла в смертельной схватке с жизнью, а все остальные, как и полагается, побеждённые. Её лицо было красивее, чем прежде, и от этого всем делалось ещё неприятнее. Она точно в последний раз показала живым, кто здесь лучший. Собравшиеся поспешно начали перешёптываться, будто бы нормальная тональность их голоса могла в этой ситуации кому-то помешать. Каждый с тоской подумал о полицейских и медицинских обязательных процедурах, которые вот-вот нарушат привычный уклад жизни своим неделикатным вторжением. А это, скорее всего, бросит тень на безупречную репутацию самого театра. Впрочем, пока нет оснований предполагать, что Милена Соловьёва здесь и сейчас умерла не своей, не естественной смертью. В жизни ведь всякое бывает. Все неопределённо переглядывались, не понимая, что же теперь следует делать: то ли деликатно расходиться, то ли с особым тщанием продолжать скорбеть. А потом как бы встрепенулись и хором уставились на Асю Петровскую, ожидая от неё соответствующих распоряжений. Ася это уловила, она быстро взяла себя в руки и сказала тихо, но веско:
– Никому не расходиться. Дождёмся медиков и полицию.
– А при чём здесь полиция, если человек умер своей смертью? – спросил кто-то.
Ася повелительно подняла брови и, стараясь выглядеть как можно авторитетнее, ничего не ответила, а лишь глубоко вздохнула и, развернувшись, покинула сцену. Она пошла прочь от сцены, по коридору, мимо старой буфетчицы Иветы Георгиевны, которая, прижавшись к стене, безутешно и очень искренно плакала, вытиралась белой льняной салфеткой, долго высмаркивалась и при этом шептала по-настоящему трагическим, насморочным голосом:
– Бозе мой, бедная девочка, бедная ты девочка.
Вслед за Асей Петровской в панике выскочил перепуганный Платон в костюме лесничего. Он бегом понёсся по нескончаемому коридору, чтобы побыстрее оказаться на улице и закурить. До него как будто только сейчас дошла мысль об окончательной смерти, смерти подлинной, не сценической, когда уже ничего нельзя изменить. Ему стало по-настоящему страшно, и этот страх был невыносим.
Платон стоял на улице у входа в театр и курил с закрытыми глазами. Голова работала плохо, с перебоями. Его руки бешено дрожали, попасть сигаретой между губ оказалось для них невероятно трудно. Он не хотел открывать глаза. Он старался запечатлеть в памяти последние образы Милены: форму её головы, матовый отблеск её уже мёртвой кожи, весь её роковой облик от пуант до кончиков волос цвета воронова крыла. Ему хотелось завязать в отдельный узел, поглубже спрятать в своей памяти и бережно хранить до конца дней, доставая лишь изредка, когда сделается совсем тошно. Сигарета давно потухла, а он стоял как вкопанный, глубоко дышал, чувствуя абсолютное бессилие и в голове и в теле. Он с ужасом подумал, что должен сейчас вернуться туда, где её уже нет, неизвестно зачем идти по нескончаемым чёртовым коридорам, и от этого задрожал ещё сильнее. Платон пытался найти повод не возвращаться, чтобы больше не видеть то, что совсем недавно было живой Миленой, не видеть ту, которую он так тщетно добивался. Но подходящего повода разум ему не предложил, и Платону пришлось идти назад.
Когда он вернулся, два доктора в медицинских спецовках уже склонились над телом и осторожно его осматривали. Руки Милены были широко раскиданы, всё ещё тёплые полусогнутые пальцы выглядели почти как живые. Несколько минут оба доктора молчали, а потом один из них сказал:
– Смерть наступила почти мгновенно в результате удушья.
– То есть как это удушья? – не поняла стоящая рядом Соня Романовская, замотав головой. – Кто её задушил? Она ж была на сцене!
– На первый взгляд – острая сердечная недостаточность, отёк лёгких, – сказал доктор.
– Что это значит – отёк легких? – спросил Платон.
– Это значит, молодой человек, что либо у неё было хронически больное сердце, и тогда смерть наступила в результате естественных причин, либо наступлению смерти поспособствовало быстрое действие токсинов, – увесисто отрезал доктор, который и сам был очень и очень молодым.
Милену аккуратно приподняли, словно боялись причинить ей боль или неудобство, и так же бережно положили на носилки. Голова её безвольно повернулась на бок, рот приоткрылся, и изо рта вытекла тонкая струйка в виде жидкой розовой пены. Платон в ужасе отвернулся, закрыв лицо сразу двумя ладонями. Все присутствовавшие задохнулись от неожиданности, наступила тошнотворная тишина, после чего все дружно разбрелись в художественном беспорядке кто куда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?