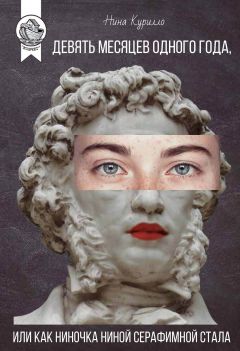
Автор книги: Нина Курилло
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
4
Ноябрь
Из двух друзей один всегда раб другого…
М. Ю. Лермонтов
– Потому что – ну как ты не поймешь? – в произведении главное не сентенции, которые лежат на поверхности и могут быть, в сущности, банальными или провокативными – чтобы читатель захотел разозлиться, поспорить с автором, в произведении главное – образы: вот где зарыта истина, и эта истина может вступать в противоречие с тем, о чем вещают сентенции, – я, кажется, битый час объясняю Варьке, что, помимо сюжета и высказываний героев в романе Лермонтова, как, впрочем, во всяком вменяемом романе, есть образный ряд, включающий в себя не только образы главных героев, но и – страшно подумать! – лошадей, а то и баранов.
– А это почему? – спросила Варька, внимательно изучая мягкие складки бежевой гардины.
Почему?! Что – почему?! Почему – что?!! Нет, вот если бы она спросила «зачем», я бы, может быть, поняла, но – «почему»?!! Меня обуял гнев: «Почему»? «Почему»???!!!
Я молчала – не потому, что ответа не требовалось: Варька, кажется, и не помнила про свое «почему», но потому я молчала, что ждала, когда уйдет гнев, чтобы не дай бог не ответить, почему… Но гнев не уходил: «почему-почему-почему!» – багрово пульсировало в надбровных дугах – почему, почему, почему она мне не родственница – я бы так бы ей врезала! И тут я представила себе, как я бы ей врезала, я прямо ощутила саднящий ожог на ладони от короткого скользящего подзатыльника и на секунду испытала ни с чем не сравнимое счастье: ох, как хорошо! ох, как бы я ей врезала!.. Но – нет, никакого счастья: не врезала бы – у нее спицы в ногах. И я только вздохнула: нельзя бить больных детей, да еще в доме их родителей, да еще если тебе хорошо платят, возят на хорошей машине и кормят вкусными вещами. Но врезать хотелось, потому что вопрос не просто перечеркивал все мною сказанное, вопрос высвечивал с неотменимой отчетливостью: дети отключились где-то на слове «сентенция», а слово «провокативный» отшвырнуло детей далеко за пределы русской классической литературы, и дети вежливо намекнули мне, чтобы я со своими провокативными сентенциями шла далеко за пределы русского литературного языка.
И тогда я решила разозлиться на Нину-Серафимну: а нечего цитировать Червячилу! «Провокативный»! Нашли перед кем выпендриваться – перед больным ребенком, который сделал бы вас, Нина-Серафимна, на раз, если бы речь шла о шмотках, горных лыжах и роликовых коньках. Не говоря уж о шмотках, танцах и любви – здесь бы вы, уважаемая, скромненько себе помалкивали, если, конечно, при вас вообще завели бы такой разговор. Признайтесь честно, такие девчонки, как Варька и ее мама, никогда не дружили с вами, и не потому что у вас никогда не было шмоток, танцев и любви, а потому что с вами просто невозможно говорить о шмотках, танцах и любви! А вам, наверное, хотелось, ой как хотелось, особенно в детстве хотелось – о танцах и любви? Ну, признайтесь, хотелось же? Но Нина-Серафимна упорно не признавалась, как будто говоря своим угрюмым молчанием: нет, это тебе, Ниночка, хотелось, а мне скучно. Скучно – о сумках?! О прогулках на яхте?! С шампанским?! С музыкой??? Да полно врать, почтенная! И я окончательно разозлилась на Нину-Серафимну с ее лживыми сентенциями. Я окончательно поняла, что никогда не смогу подружиться с Ниной-Серафимной, даже если она будет за меня готовиться к занятиям, сидеть в библиотеке, читать сочинения – все равно не смогу. Не смогу, потому что дружба все-таки базируется не на выгоде, а на чем-то еще. Иначе это не дружба, а подлость, потому что это ложь и конъюнктура. Ведь дружба – это когда тебе от друга ничего не нужно, ничего-ничего – кроме дружбы. И ему тоже. Или ей – что бы там Мила с Печориным ни говорили. А они – ну, то есть, конечно, она, Мила, – они вчера говорили:
– Один из друзей всегда раб другого – вот вам и вся тема дружбы по Лермонтову, – сказала Мила. – Никогда такую тему не дадут по Лермонтову. По Пушкину – запросто: хоть по лирике, хоть по романам, а по Лермонтову – нет. Тему одиночества – вполне, но не дружбы.
Я хотела возразить, что можно ведь и связать эти две темы – дружбы и одиночества – с вязать, чтобы подчеркнуть, что лермонтовские герои тоскуют по единению с миром, что они страдают как раз от того, что это единение недостижимо – ни в светском обществе, ни в мире «простых людей», я хотела напомнить про стихотворение «Сосед», про поэму «Саша», про «Монолог» и «Думу» наконец, но меня опередил Савелий-слева.
– А я так не думаю, – сказал Савелий-слева. – А вы? Нина-Серафимна, вы согласны, что из двух друзей один всегда раб?
– А к вам, к Савелиям, это не относится, – сказала я. – У вас, у Савелиев, всегда паритет.
– Я серьезно, – обиделся Савелий.
Мне стало стыдно:
– Мне сложно сказать, и потом, дело же не в том, как думаю я, а в том, как думает Лермонтов…
– А вы-то как думаете? – не отставал Савелий.
– А я думаю, – вздохнула я (вот прицепился!) – я думаю, что все-таки возможна дружба, основанная не на подчинении, а на взаимном уважении, взаимном интересе, что ли. Вот, допустим, ты (ну, в смысле, конечно, вы, но мы же сейчас вроде друзья – значит, «ты») хорошо рисуешь, а я, допустим, так не могу. И дело ведь не в том, что ты кисточку в руках держать умеешь, а в том, что ты видишь мир не так, как я – раз ты художник, значит, воспринимаешь все как-то иначе, острее что ли… при том, конечно, что у нас совпадает система нравственных ценностей – иначе как бы мы дружили, если бы ты захотел убить, допустим, Грушницкого, а я бы, скажем, была против, я бы ведь должна была или тебя отговорить, или вообще с тобой не дружить.
– Так они с Вернером и не дружили, они – приятели! – сказал Савелий-слева.
– Вот именно, а друг – он бы морду набил, поссорился, застрелил бы в конце концов, но убить не позволил.
– Вот оно как! Так это, оказывается, Вернер виноват, что Печорин Грушницкого убил, – лениво протянула Мила. – Свежая интерпретация.
– Конечно, – я даже не взглянула на Милу. – Он – слабак. Спасовал перед Печориным, Недомефистофель.
– А можно я это в сочинении напишу? – не унималась Мила.
– Слушай, достала! – бросил Савелий-слева, тоже не поворачиваясь к Миле, и – мне: – Ну, и…
– Ну, и… Короче, понятно: мы не будем убивать Грушницкого. А в остальном мы, то есть не мы, конечно, а в смысле друзья – разные. Потому что ты – другой. То есть вроде у тебя и мой мир, а вроде и другой, то есть ты мой мир видишь как-то не так. А как? А что ты думаешь о предопределении? О судьбе? А я думаю… Я думаю, что друг – это не другой я. Это другой мир. Дружественный, но очень другой. И потому очень интересный. Но это бывает редко.
И пока я несла всю эту хрень, еще не зная, чем она может закончиться, мне становилось все грустнее и грустнее, потому что чем дольше я ее несла, тем отчетливее я понимала, что друг – это Подкормкин. И что он у меня был, ну не у меня, так у Мити, но все-таки и у меня.
– А разве не Лика? – удивитесь вы. – Мы думали, что ты дружила с Ликой. Или ты, Ниночка, хочешь сказать, что Лика – раб?
Нет, я не хочу сказать, что Лика раб, я хочу сказать, что Лика – говно. А еще паскуда, мразь, тварь, воровка… Я хочу сказать, что она – лакей, потому что она – подлый холоп.
– Стоп-стоп-стоп! – закричите вы. – А ты, Ниночка, ты, можно подумать, такая замечательная, такая благородная, возвышенная и утонченная, настолько утонченная, что не можешь удержаться от бабской злости? Как это пОшло, Ниночка, как банально! – И вы даже головой покачаете от досады и разочарования. – А, может быть, ты, Ниночка, тоже в чем-то перед нею виновата? Не думала об этом?
Я? В чем? В том, что позволяла занимать себе место в аудитории, когда все-таки приходила на лекцию или семинар? брать мне книги в библиотеке? писать за меня шпоры?
– Но ты же принимала это? Тебе было удобно?
Да, удобно, но я же не просила… Ну, хорошо, просила, но это уже потом, а сначала… Я попыталась вспомнить, как это было сначала и как я вообще начала дружить с Ликой – и не смогла. И не потому не смогла, что я всегда дружила с Ликой, а потому не смогла, что Лика, кажется, всегда дружила со мной. А с вами такого не случалось? – вы входите в аудиторию, в которой никого не знаете, потому что вас опять оставили на второй год, и вдруг кто-то кричит вам:
– Нина (Зоя, Савелий – выберете нужное)! Иди сюда, я занял(а) тебе место! – И радостно показывает на пустое место рядом с собой.
И вы несетесь к этому пустому месту, судорожно соображая, кто это вообще такой (такая) и как его (ее) зовут, несетесь, улыбаетесь – потому что вы благодарны ему (ей) за такую неподдельную о вас заботу, улыбаетесь и думаете, как бы не сплоховать, как бы не показать, что вы впервые его (ее) видите. Ведь у вас нет маразма и вообще-то очень неплохая память на лица, и потому вы немного обескуражены и в то же время (что греха таить?) польщены – раз вас знают уже и на новом втором курсе вечернего отделения, значит, вы не последний человек на факультете.
Правда, есть у вас еще одно соображение, которое вы загоняете на задворки подсознания, поскольку вам немного стыдно за это соображение, но оно все же вылезает из задворок и говорит вам: «А, может быть, Ниночка, ты просто раньше считала, что этого человека нет? Да что там считала! Даже говорила!»
И вы, внутренне краснея, припоминаете, как в разговоре с Аленой вы вдруг могли спросить:
– …Лика? Какая Лика?
А Алена снисходительно смеялась и говорила:
– Ну, такая – милая, сочная такая, ну очень женщина… Не помнишь? Ну с каштановыми кудрями – как из журнала «Нива» или с открытки «Люби меня, как я тебя».
И я честно силилась представить себе красавицу с открытки, но выходило что-то совсем уж дурацкое – смесь Софи Лорен со сдобной кафешантанной певичкой с пунцовыми губами и алой розой в каштановых кудрях.
– Ну, она еще приходила на наш спецсеминар к декану, – всегда в таких платьях вроде пятидесятых годов, а с этого года будет ходить постоянно. Не помнишь? Ну да, понятно – ее нет, – подытоживала Алена и снова смеялась: она почему-то считала, что некоторых людей я вообще не замечаю, потому что эти некоторые мне вроде как заранее неинтересны, как подросткам неинтересны, скажем, тетеньки за сорок. И поэтому, когда в начале очередного сентября я уселась в заполненной аудитории рядом с Ликой, я испытала смешанное чувство благодарности, превосходства, смущения и вины. Думаю, это чувство я сохранила на протяжении всего общения с нею. Особенно остро я чувствовала вину на следующий день, после того как мы с Аленой или с Аленой и Пузырем забывали взять Лику с собой в кино или просто куда-нибудь взять. И на следующий день (или на следующую неделю – в зависимости от того, когда приходила на занятия) я не успевала извиниться, потому что Лика говорила:
– На, твой любимый. – И протягивала мне плитку горького шоколада.
Или:
– Знаю, ты давно хотела такую. – И доставала из сумки тетрадку, на обложке которой красовался портрет Кристи Терлингтон.
И мне оставалось только улыбнуться и сказать: «Пойдем после пары ко мне?» И, хотя было поздно, мы шли ко мне, и Лика с удовольствием помогала мне делать салат или печь шарлотку, следила, чтобы шарлотка не подгорела, а потом, толком не успев посидеть за столом, говорила смущенной скороговоркой:
– Ничего-ничего, я доберусь сама, – надевала свое какое-то очень дамское пальто и отправлялась куда-то очень далеко домой.
– А тебя не волновало, Ниночка, что Лика так поздно возвращается одна? – возмущаетесь вы. – Да ты вообще знала, где она живет? Ведь скажи честно – за все эти годы, даже после окончания института, так и не узнала? – И, получив от меня смущенный кивок, вы снова неодобрительно качаете головой. – И тебе не стыдно? Да ты просто не умеешь дружить! Вот Митя умеет: Митя знает, где живет Подкормкин!
Конечно, знает, и я знаю, потому что Подкормкин живет под нами – ну, в смысле, под Митей, ну то есть под Митей и Ликой… а еще потому, что Подкормкин – друг.
– …Да, – повторила я, закругляя свой спич про дружбу и посмотрев сразу на двух Савелиев, – такое бывает редко, и это надо ценить. – И мне стало совсем грустно, потому что я еще раз окончательно поняла: Подкормкин – друг.
– Ух ты! – обрадовался Савелий-слева. – Я тоже так думаю!
И Савелий-справа тоже обрадовался и, немного смущаясь, закивал светлой – почти как у Савелия-слева – головой. А еще очень обрадовалась Виолетта. Она обрадовалась и посмотрела на Савелия-слева таким ясным взором, что стало понятно, что нет у Савелия-слева никаких прыщей, а есть только мальчишески-острые скулы, немного оттопыренные уши и светлый торчащий чуб – как у белобрысых пионеров из фильмов двадцатых или пятидесятых годов, когда волосы как будто зачесаны назад, но торчат не столько вверх, сколько вперед, а не как у Варьки – у нее рассыпающаяся челка вообще не торчит, а падает на глаз, так что ее все время приходится откидывать заносчивым движением головы. Это очень симпатично, но все равно с Варькой – скучно.
– Ага! – обрадовалась Нина-Серафимна! – А я что говорила!
И пока тянулось наше с Варькой вялое занятие, и пока мы с Юлей и Варькой пили чай, и пока я ехала домой в «мерседесе» справа от Алексея, я думала, что Варьке я не гожусь, потому что не могу ее ничему научить. Странно, вот кажется, Васю могу, Савелия-слева – могу, даже Савелия-справа могу, а вот Варьку – никак. И дело не в том, что у Савелиев и Васи есть репетиторы, а в том… А в том, что по-хорошему Варьке нужен другой репетитор – тот, которому плевать, виноват ли Вернер в убийстве Грушницкого или не виноват; тот, который знает, что не было у Петруши Гринева никакого шрама над верхней губой, тот, – да нет, никакой не тот, а та, конечно, та, которая будет надиктовывать Варьке правильные, а не какие-нибудь провокативные сентенции, а потом будет требовать вызубрить их, чтобы вставлять в сочинения, комбинируя с заученными цитатами и другими сентенциями – тоже правильными, потому что вызубрены уже не одним поколением. И – знаете что? – именно этот подход и откроет в Варьке мощные творческие ресурсы: Варька начнет придумывать разные истории про несчастные туфли своей училки литературы, которые настолько безобразны, что кажется, что они больны водянкой или еще какой-нибудь болезнью с волдырями; Варька даже придумает целую поэму про эти туфли, напоминающие башмаки Петра Великого, – и все это для того, чтобы потом, как только зайдет речь о классической литературе, о Пушкине и о Лермонтове, с восторгом и искренней благодарностью восклицать: вот у меня была училка – настоящий зверь!
Да-да, Варьке, пусть она и не догадывается об этом, нужна не я. Варьке нужна Нина-Серафимна. Потому что Нина-Серафимна – альтруист, пусть и за деньги: она ведь знает все свои прозвища, она понимает, что ее обувь рассматривают как диковинные, невиданные доселе башмаки Петра Великого, но она идет на это, потому что иначе Варька никогда не полюбит литературу. А так – полюбит, а вместе с литературой полюбит и ее, Нину-Серафимну.
Проблема в том, что мне такая любовь не нужна. На фиг не нужна.
– …Ты чего дохлая? – Алексей перевел взгляд с дороги на меня. – О пять укачало? Сейчас на шоссе выйдем, трясти не будет.
– Нет-нет! Все хорошо, и сейчас не трясет! – успокоила я Алексея. – Устала просто.
Я сказала правду: не трясло, Алексей плавно вел машину, памятуя о моем слабом вестибулярном аппарате, да и дорога была хоть и ухабистая, но крепкая – без луж и без грязи. Конечно, Алексей знает здесь каждый взгорок, каждую яму и выбоину, но все равно я почувствовала легкий укол зависти – он водит машину явно лучше меня. Хотя, в общем-то, и я не так уж плоха – вожу совсем неплохо… Водила. Мне вдруг остро захотелось самой оказаться за рулем, так чтобы выехать на широкую ровную трассу, встать в средний ряд, включить диск Джорджа Бенсона и хорошую скорость – нет, не лихачить, никого не подреза́ть, а ехать себе где-то не больше восьмидесяти километров в час – так, чтобы только я и Бенсон, я и поздняя осень за окном – та сухая прозрачная осень, которая особенно хороша в городе, и особенно по вечерам, когда зажигаются фонари, и их мягкий свет вливается в чудный коктейль из запаха бензина, аромата хризантем и старинных духов и еще чего-то невыразимого – может быть, просто предвкушения вечернего свидания или похода в гости. Но поздняя сухая осень хороша и за городом, когда прозрачный невесомый воздух напоминает о том, что он, воздух, и есть небо – бесконечно высокое и в то же время близкое – близкое именно сейчас, когда солнце вот-вот уйдет, но пока еще не ушло и свободно проходит сквозь голые ветви деревьев, черепичные крыши небольших домов – так, что и взгляд не успевает ни в чем застрять, а летит себе далеко-далеко – к самому горизонту. И становится и сладко, и грустно. Но больше, наверное, грустно.
А потом мне стало совсем грустно, потому что я подумала о Васе: я вспомнила, что вчера за все время занятия он не произнес ни слова и даже ни разу не поднял на меня глаз. Я не сразу поняла, что произошло, и спросила, что он думает о Печорине и Вернере, но Вася не удостоил меня ответом. И тогда Карен сказал, что Вася объявил мне бойкот из-за Маяковского – Вася не обнаружил в «Облаке в штанах» обсценной лексики, два раза перечитал и не нашел – и теперь не может мне простить впустую потраченного времени, профуканного воскресенья, но – и это главное – не может простить мне коварства. Вася ведь думал, что я своя – тем более своя, что не знаю, что нет в русском языке слова «уезд» как производного от глагола «уехать», а я оказалась такой же, как все – как родители и учителя, словом, взрослые, готовые на любую пакость, лишь бы заставить Васю читать. А ведь это нечестно – заставлять человека читать против его воли. Не уверена, что я бы такое потерпела. А вы бы не разозлились? Если бы вас обманом втянули в чтение какой-нибудь книги, о которой вы до этого и слыхом не слыхивали?
– А мы и разозлились, – вдруг заявляете вы. – Вместе с Васей и разозлились. Только Вася потратил время на Маяковского, а мы вот тратим на тебя! Страдания какой-то бездельницы. Типа – муж ушел! Да у всех муж ушел! А у кого, скажите, он не ушел? А у кого не ушел, – заявляете вы, – та и молодец, потому как не выпендривалась! А у тебя, Ниночка, – возмущаетесь вы дальше, – просто игрушечный мир, кукольный домик, пряничные страдания – вот твоя трагедия, Ниночка. А отца-алкоголика не хочешь? А мать проститутку – не хочешь?? А чтобы жрать нечего – не хочешь??? А чтобы древнегреческая трагедия, но без катарсиса и где-нибудь в Усть-Хреновске да еще с таким количеством дерьма и безысходности, с такими навалами грязи, что ни одному Эдипу не снилось, – не хочешь?
– Не хочу! – отвечу я вам. Или нет, я не так отвечу, а вот как:
– А что – обязана? То есть… чтобы вам понравиться – обязана? И, вообще, если вы, как и Варька, не можете понять, что главное в произведении не смысл, а образы, ну, может быть, еще ритм, и вообще – атмосфера, если для вас любое произведение – это тупо текст, то я вообще не понимаю, зачем вы читаете, рассматривайте себе расписание железнодорожных поездов – там смысла больше: дорога опять же, поезда, езда… Смотришь себе в окно – а там уже осень, глядишь и до зимы недалеко…
Машина наконец вышла на трассу, и Алексей включил высокую скорость. Но в салоне этого не ощущалось – и дорога хороша, и водитель неплох.
– Вы водите машину лучше! – в моем голосе нет зависти, а только искреннее восхищение.
– Чем кто? – польщенно улыбнулся Алексей.
– Чем я. Я на такую скорость не решаюсь.
– И не надо. Тем более когда снег выпадет. – Алексей помолчал и добавил: – Пора переобуваться – резину менять.
– Так до снега еще вроде далеко.
– Не скажи. К следующей субботе точно будет.
– Да ладно!
– А вот увидишь!
…Если Алексей и ошибся, то чуть-чуть: снег выпал не к субботе, а в субботу – как раз в то время, когда я выходила из подъезда. Светящийся, как молодой тополиный пух, нежный и чистый, он падал на сухой асфальт и не таял – драгоценным оренбургским платком, тончайшим и невесомым, он мягко опускался на газон и тротуар, на стекла и крыши машин. Как жаль, что уже к вечеру вся чистая красота будет втоптана в грязь – да ладно втоптана! – сама станет грязью!
– Ну что, переобулись? – в место приветствия спросила я, усаживаясь на переднее сиденье справа от Алексея.
– А то! – разулыбался он. – А ты?
– А я сейчас безлошадная. Так что и переобувать некого, – сказала я.
Сказала и соврала: переобувать есть кого – меня. Мои единственные стильные сапожки вот-вот прикажут долго жить. А не стильные мне не нужны. Лучше уж с сырыми ногами ходить, чем носить что попало.
– К вечеру растает, – сказал Алексей, и мы поехали.
– Да, – согласилась я. – Это еще не настоящий снег, это пока так…
Да, это пока не снег, а так – доказательство бренности существования. Потому что, глядя на этот призрачный снег, понимаешь, что все в мире – суета и тлен, и даже самый прочный автомобиль с самым коренастым шофером с носом-картошкой, и самый красивый дом, пусть и двухэтажный, пусть и на Рублевке – все это тоже призрак, фантом. Как, в сущности, все зыбко и неустойчиво: благополучие дома, Варькино будущее держится на хрупких плечах Юлии Михайловны! Да что там на плечах! На плечиках для ее платьев и блузок, для шуб и полушубков… Как это ужасно: эта вселенная с Алексеем, Азатом, Галей и золотистыми пирожками погибнет, если губошлеп с кулинарными глазками перестанет вожделеть тоненькой Юлии Михайловны… И кто после этого посмеет утверждать, что бег по распродажам не ежедневный выматывающий труд?
Я думала обо всем этом, а может, и не думала, а так – ощущала, пока ехала рядом с водителем Алексеем, пока притоптывала ногами на коврике перед дверью Юлиного дома, пока здоровалась с Юлей, пока не появилась Варька и не начался Лермонтов.
Лермонтов Варьке нравится больше, чем Пушкин, да это и неудивительно: всем в детстве Лермонтов ближе – у Лермонтова Демон и Тамара, Печорин и Бэла, Печорин и княжна Мери, Печорин и Вера… а еще Варенька Лопухина – «У Вареньки родинка, Варенька уродинка». Мы с Варькой смеемся: родинка же у печоринской Веры, но на щеке, а у Вареньки вроде на лбу была, зачем сползла?
– Для конспирации! – убежденно говорит Варька. – Ясное дело, когда писал, от жены ныкался, чтоб не ревновала!
– Какой жены? Не было у Лермонтова жены!
– С Пушкиным перепутала!
И мы снова хохочем, да так, что к нам заглядывает Юля: видно, только и ждала повода, чтобы заглянуть.
– А Варька уже показала свою новую сумку?
– Нет! – радостно отвечаю я. – Заныкала!
– Варвара! – укоризненно качает головой Юля. – Как ты могла?? И это – моя дочь? Немедленно покажи сумку Нине-Серафимне! А я сейчас свою принесу! Я мигом!
И пока Юля бежит за своей сумкой, мы оставляем спор о специфике женских образов в романе Лермонтова и предаемся созерцанию Варькиной сумки-планшета. Ну не люблю я сумки-планшеты, вот хоть убейте меня, а не люблю. Может быть, конечно, и не сумки-планшеты в этом виноваты, а я – не идут они к моей долговязой и худосочной фигуре. Сумка – это ведь что? Если вы думаете, что сумка – это просто кожаный мешок или конверт, то сложно нам с вами дальше будет общаться, ой как сложно. А, может быть, вы полагаете, что в сумке главное – фактура, цвет, фурнитура? Ну, знаете, если для вас первостепенная вещь – фурнитура, да еще золотая, да еще блестящая, то мне и вовсе нечего вам сказать… Да за золотую фурнитуру нужно судить – и потребителя, и производителя! Последнего вообще лишать права на собственный логотип, лицензию и уважение соседей… Потому что сумка – это в последнюю очередь фурнитура, а в первую очередь – это часть вашей геометрии, ну, как бы это лучше сформулировать – это часть вашего силуэта на фоне космоса, потому что именно сумка отвечает за первое впечатление от вас – за первый взгляд, короче, отвечает – какой вы откроетесь этому первому взгляду. Здесь все важно: как вы ее держите – решительно или небрежно, нежно или цепко; держите ее или держитесь за нее – все свидетельствует о вашей пластике, грации и характере. И если вы, допустим, длинная и тощая кувалда, то огромная сумка – это не просто вместительный мешок, как мог бы подумать какой-нибудь профан, и это даже не имитация вашей беззащитной хрупкости, это весь мир, оттеняющий вашу хрупкую беззащитность. Ну, как если бы вы, допустим, хорошо смотрелись на фоне рояля – и что? Вам теперь всюду за собой рояль таскать? Большая сумка – это, конечно, не рояль, но почти пюпитр или мольберт, или как будто такая огромная плоская папка, в которой студентки художественных училищ носят рисунки или ноты. В общем, огромная сумка – это тот большой мир, от которого мужчина, бросивший на вас первый взгляд, немедленно захочет вас защищать. Но, может быть, вы пигалица? Тогда никаких больших сумок! Вас и так нужно защищать – об этом кричит даже кошелек в ваших маленьких, но цепких лапках. Что же вам тогда остается? А всякие клатчи – миниатюрное изящество, блин, ваш удел! И вы со своим недоразвитым клатчем в маленьких, но цепких лапках – вы просто Гретхен с зайчиками или цветочками. А вот если вы вся такая феминная, женственная такая особа (вообще-то, если вы такая, то неясно, на кой хрен вам тогда сумка – вам и без сумки все отдадут – сами все принесут и сами распакуют… и вас упакуют по полной программе), в общем, если вы воплощенная женственность – носите что хотите, вам все по руке и по плечу, как ни прискорбно мне это признавать. Но особенно вам подойдут сумки из мягкой кожи – как у Юли. Темно-коричневая, даже шоколадная, Юлина сумка была, что ни говори, непристойно хороша: мягкая, но держит форму, то есть не сбивается на бессмысленное турбо или, не дай бог, хобо.
– А скажите, моя круче? Правда? – В Варькиных глазах было столько ожидания «правды», что пришлось беззастенчиво врать:
– Да, никогда бы не подумала, что планшет может быть круче. Но – факт: может.
И все-таки врать иногда полезно – хотя бы и для того, чтобы спрятать завистливое восхищение: Юлина сумка была хороша, нет, больше, чем хороша. Она была, она была… Нет, ни один эпитет, ни одно определение не сможет передать ее наглого совершенства. Это была ухоженная, сдержанная, эротичная, знающая себе цену настолько, что ей и в голову не могло прийти вступать в диалог с крикливыми и бойкими однодневками – пусть и дорогими, но однодневками, это была безмятежная и умиротворенная, уверенная в своей безопасности, всеобщем уважении и в неизменных началах бытия – с семейными ужинами в дорогих ресторанах, в которые ходят не для того, чтобы вывести в свет новое платье или кольцо, а чтобы спокойно поболтать с мужем – в дали от детей, с которыми завтра можно сходить на дневной спектакль, – это была именно такая сумка… Да, вы, наверное, спросите, а что же это все-таки была за модель? Может быть, тоут? Да говорят же вам: вечная женственность, синтез добра и красоты – вот модель Юлиной сумки.
– Ну вот! Я же говорила! Только планшет! – радостно завопила Варька. – А как вы думаете, что под нее лучше – мокасины или балетки?
– Так сейчас вроде – сапоги? – очнулась я от созерцания абсолютного совершенства.
– Вы что, какие сапоги? Если только весной. – Варька выразительно посмотрела на свои коленки.
– Ой, прости!.. А что у тебя есть – ну, в смысле, мокасины или балетки?
Повисла неловкая пауза. Варька и Юля обменялись снисходительными взглядами.
– Я имела в виду – нужного цвета, – немного смутилась я.
– А это мы сейчас проверим! – обрадовалась Варька. – Мам! Поехали в гардеробную!
– Поехали? – виновато посмотрела на меня Юля: она поняла, что я поймала их с Варькой снисходительный взгляд.
– Поехали! – махнула рукой я, только чтобы избавиться от чувства нарастающей неловкости.
И мы устремились за Варькой по коридору.
Скажите, а у вас есть мечта? И она вам известна?
– Что за идиотический вопрос? – возмутитесь вы. – Если у нас есть мечта, то уж, наверное, она нам известна – как всякому нормальному человеку!
Ну, значит, я не всякий нормальный человек, потому что когда я оказалась в гардеробной, то поняла, что все это время моя высокая мечта жила здесь. Она обитала здесь все то время, пока я позволяла суетным страстям земным увлекать меня. Нет, конечно, она никогда не оставляла меня, эта высокая мечта, она то и дело мелькала передо мной – то тенью прекрасного прошлого – быть может, и не моего, а бабулиного прошлого, то отблеском непостижимого, но полного счастья, которое у меня, разумеется, когда-то было, хотя бы и в младенчестве – потому что у всех в младенчестве было абсолютное счастье, где бы оно ни скрывалось – в песочнице, в «Детском мире», в бабулиной хозяйственной сумке, в которую ты ныряешь по самые плечи, когда бабуля приходит из магазина и ставит ее на пол в прихожей и улыбается, потому что в сумке что-то лежит… Призрак мечты манил, он дразнил меня – то витриной обувного магазина, то обложкой модного журнала, то ароматом полузабытых духов, то сумочкой из крокодиловой кожи, то темно-вишневым бархатом театральных кулис, то обрывком волшебной мелодии, то снисходительным и очень влюбленным мужским смехом, то желтым электрическим светом фонаря, падающим на тяжелую листву деревьев, то легким прикосновением морского бриза к щеке, когда летним вечером бредешь вдоль кромки воды… Да, это была мечта – всегда неуловимая, ускользающая, переменчивая, и все же неизменная в своем совершенстве – это была она.
И вот она явилась вся – завершенная и законченная – как мироздание, как космос. Только не нужно думать, что гардеробная – это что-то вроде пыльного чулана с полками. Ха! Да это была зала, просторная и чистая, залитая светом и благоуханием старомодных духов. В ней были и зеркала во всю стену, и высокие потолки, и кожаные пуфы, на которых можно было сидеть, изнемогая от неги и наслаждения. Помните фильм «Чего хотят женщины»? – когда Мел Гибсон сидит перед примерочной в магазине на огромном диване, а его дочка выходит к нему в новых нарядах? А «Из 13 в 30» – когда Дженнифер Гарднер входит в гардеробную своей взрослой квартиры? Ну тогда попробуйте поженить Гибсона на Гарднер, а точнее – развернуть комнату Гарднер до размеров магазина, в котором снимался Гибсон – и вы, даже если добавите к этому сцены из Pretty Women – когда Ричард Гир вместе со зловредными и прекрасными продавщицами в роскошнейшем бутике превращают Джулию Робертс в удлиненную Одри Хепберн, – вы все равно не получите представления о величественности картины, открывшейся моему взору.
– Ах! – сказала я полагающуюся по сценарию фразу. И слезы, разумеется, выступили на моих глазах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































