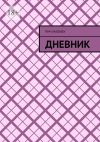Текст книги "Хочу жить! Дневник советской школьницы"
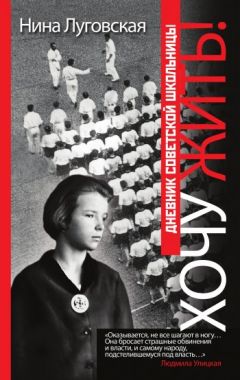
Автор книги: Нина Луговская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Как-то на физике он и Алька что-то нарисовали и бросили бумагу на мой стол. Ксюша передала мне, а я недолго думая разорвала ее. На переменке Алька подошел ко мне и спросил: «Луга, ты прочла наше произведение?» – «Вот еще! Я разорвала ее». – «Ну и хорошо сделала», – вставил Левка, хитро улыбаясь. Черт возьми, а ведь он красивый парень! Надо сознаться, к величайшему стыду моему, что я еще до сих пор краснею, когда разговариваю с Левкой. Не так давно он вдруг на уроке обернулся ко мне, взглянул пристально и долго и так хитро и лукаво, с таким задором прищурил левый глаз. Я, как будто не обратив внимания, отвернулась, а потом все смеялась про себя да вспоминала пару серых блестящих глаз. Все-таки Левка порядочный подлец и хулиган, а я почти и не замечаю этого.
<30 октября 1933>
Сегодня выходной… Я ждала его, ждала всю пятидневку, и вдруг… Что за жизнь? Этот день мне совсем испортили. Надо идти к девяти часам в школу, через десять минут придет Ксюшка, и я тронусь в путь. Ужасная вещь человеческая жизнь, комок сплошных противоречий. Нет в жизни истины и справедливости, все ложь, все обман. Обман даже в самой правде, во всем, во всем, и всегда он будет существовать. Никогда люди не увидят того времени, когда на свете все будут равны, когда один не будет иметь права принуждать и оскорблять другого, когда не будет сильных, правящих всем, и слабых, не имеющих прав. Жизнь – это борьба. В борьбе всегда выигрывает сильный, и сильный возносится до небес, а слабый пресмыкается у его ног. А что такое женщина? Женщина – это собака, которая стремится подняться до хозяина, занять с ним одинаковое положение и не может достичь этого. Что такое освобождение женщины? Это мираж, просто галлюцинация.
<8 ноября 1933>
Лучше бы не было этого отдыха и перерыва, держали бы уж все время в клетке, а то выпустили, дали расправить крылья и вздохнуть полной грудью, а потом опять засадили. Как странно и смешно мне вспоминалось настроение, с которым я шла в этом году в школу, все казалось так легко и интересно. Сколько было планов и надежд у меня, только подумать, до чего же я была наивна два месяца назад. А теперь? Что со мной делается теперь? За ученье взяться нет сил, а не учиться нельзя. Почему? Почем я знаю, я не знаю, все учатся, ну так и я буду.
Опять на меня находит прошлогодняя хандра, но в этом году мне как будто легче, потому что я не молчу уже целыми днями, морщась от боли, а иногда даже подолгу говорю маме и папе о школе и проклинаю перед ними свою жизнь. Я последнее время стала страшно несдержанная, постоянно ворчу и ругаюсь. Что же делать? Ведь так тяжело жить молча, да и ни к чему. Ах, как ужасно жить! Хоть бы школа сгорела и нас бы распустили, право, я была бы рада. Не могу я ничего делать, запустила уроки и продолжаю запускать. Как переменить эту ужасную жизнь? Иногда позавидуешь старине, когда не надо было учиться и целый день можно было делать что хочешь.
Эти Октябрьские праздники странно прошли для меня. Шестого ноября я и Ляля пошли в Малый театр на «Любовь Яровую». Я давно не ходила в театры и в последнее время так отвыкла от них, что просто не тянуло, а теперь так хочется туда. Да, поистине я не видала еще никогда до этого дня настоящих артистов, играли хорошо, но так, как в этот раз, никогда не играли. Просто чудо и прелесть! Жизнь наша обычно пошла, скучна и неинтересна, слишком она переполнена мелочами. Но зато на сцене, там, где нет этих мелочей, она прекрасна, причем прекрасна и в минуты отчаяния, и в минуты безумного счастья. Там ты видишь ее во всех характерных ее проявлениях, не загаженную и испачканную, там сама начинаешь жить и, смотря на чужие человеческие страдания, чувствуешь себя счастливой и действительно живущей. Забываешь обо всем, решительно обо всем и видишь перед собой лишь этих интересных новых людей, полных чего-то неведомого и увлекательного, что называется жизнь.
Только и можно жить чужой жизнью. Уже не принадлежать себе, не быть собой, а чувствовать и переживать то, что чувствует другой. Я никогда не предполагала, что люди могут так играть, ничего неестественного и деланого. Нет, я не могу описать, какое сильное впечатление произвела на меня эта вещь. В антракте сидела безучастная и странная и все представляла себе Любовь Яровую, ее голос, в котором слышались слезы и страдания. О боже мой! Как хорошо она играла! А поручик Яровой? Как дрожал его голос, когда он, схватившись за голову, говорил: «Люба! Я не могу уйти от тебя».
Я страдала вдвойне, глядя на них, страдала вместе с ними и страдала за них. «За что боролись эти люди? – спрашивала я. – За что портили, губили свою жизнь и умирали?» Нередко так было горько, обидно за них, за этих благородных, идейных людей. Как над ними жестоко надсмеялись наши подлые большевики, превратив их идею и мечты в ужасную карикатуру, построив на их страдании, на их жизнях, которые они клали за великое дело, свое благосостояние, богатство Сталина и страдания народа. А после театра еще отвратительней и гаже показалась мне наша жизнь… Вчера с Женей пошла на «Демона». Мне везло в эти дни: второй раз бесплатно попадаю в театр. Эта вещь была совсем в другом духе, и я даже кое-где не слушала, а вспоминала все ту же «Любовь Яровую».
<9 ноября 1933>
Сегодня я не пошла в школу и целый день сижу дома. На улице снег, и меня тянет погулять, но нельзя – некогда… За что я мучаюсь, за что сижу целыми днями и получаю «отлично», ведь все, что проходили в прошлом году, забыла и помню не лучше Альки. Что стоит сейчас плюнуть на все и получать «удочки», и тогда… целый день я свободна: хочу гуляю, хочу играю и рисую, хочу пишу. Как хорошо! Но… я чувствую, что не смогу бросить ученье, не позволю себе стать ниже Ирины и других. Это слишком вросло в меня – непреодолимое стремление добиваться первенства во всем: я чересчур честолюбива.
При этом все думаю устроиться так, чтобы и заниматься мало, и учиться хорошо. Может, попробовать делать все уроки в школе, что возможно, поменьше зубрить и меньше дурачиться. Месяц, другой, а там привыкнешь к этому и втянешься. В прошлом году я хоть спала вволю, а теперь и это не успеваю делать, и с каждым новым днем я все больше ненавижу школу и ученье, мечтаю освободиться от них, но незаметно для себя так сильно втянулась в эту скучную и однообразную жизнь, что не смогу уже бросить ее, если даже и представится возможность.
Иногда так хочется гулять, валяться в снегу, но я знаю, что меня в действительности это даже не обрадует, так отвыкла я от всего этого. В прошлом году я была страшно глупа, записывая про Левку, как это было наивно и в то же время старо, сейчас читаю и удивляюсь, как я могла писать эту чушь. Пройдет года два, и я, пожалуй, перечеркну эти строки. На демонстрацию я не ходила, накануне поздно легла спать, и не хотелось рано вставать. Утром слушала радио: крики «ура» и оркестр. И было как-то больно и досадно чувствовать, что ты не принимаешь участия во всеобщей жизни[29]29
Зачеркнуты четыре строки.
[Закрыть].
Молодость хороша стремлением к борьбе, стремлением к справедливости, она ищет правду, добивается ее, а потом, как наберется опыта и узнает жизнь, охота бороться в ней пропадает. Она смиряется с людьми и с ложью, врастает в них сама, ее уже не удивляет и не коробит подлость, то, что вокруг «все не так». Я теперь уже во многом смирилась с жизнью, и то, что раньше возмущало меня, теперь уже не трогает. Я сначала радовалась, что спокойней стала жить, а выходит, ничего хорошего нет.
<11 ноября 1933>
Любить как свою родину, так и любить ее людей, но еще ужасней жить среди дикарей, необразованной, некультурной народной массы. Среди грубого, дикого русского народа, ничего не понимающего, ни в чем не разбирающегося, свирепого, стихийного, как зверь, признающего только жратву и подачки, не знающего ни чести, ни гордости. Жить с нескончаемой злостью на все и на всех, начиная с самых низов, с темных крестьян[31]31
Зачеркнута одна строка.
[Закрыть], ненавидеть глупую, но до смешного покорную, то ужасающе бунтующую толпу и стремиться всеми силами помочь ей. Нет ни одного государства на свете, равного по своей обширности, даровитости и темноте нашей бедной и «немытой России».
<12 ноября 1933>
Через полтора месяца мой день рождения, но он уже не радует меня, уже прошло то время, когда я подолгу думала о нем и высчитывала дни и часы до него. Заставляю себя радоваться и не могу, несколько лет тому назад я думала, что двадцать пятое декабря будет для меня вечно счастливым днем, но… До прошлого года я любила этот день, ждала его, и вдруг все переменилось, я стала другой, непохожей на прежнюю Нину, у меня появились новые желания и интересы, а все старое, доселе интересное, опостылело.
Старые радости уходят навек, страшно и жутко думать, что с каждым днем и годом они все больше и больше уходят и грустно станет жить. Счастлив тот, кто любит и кого любят, вернее, счастлив тот, кто родится под счастливой звездой. Такие же, как я, «неудачники», могут только страдать и плакать. «Пусть неудачник плачет». Для меня любовь – это лишние мучения, ведь я люблю, люблю маму, люблю И. Ю., но все же как-то мучительно, порывами.
Проклятье быть уродом и иметь человеческую душу. Если бы у меня были деньги. Деньги, деньги! Что вы можете сделать?.. О, я бы каждый день ходила в театры, пересмотрела бы все вещи там. Мне не нужна была бы тогда моя жизнь, я бы смотрела на чужую и жила бы ей. Я ничего не потеряла бы, ведь несчастной я не стану, а может быть, стану счастливой… Зачем же я стала читать книги и учиться? Для чего я стремилась научиться думать и понимать? О, если я была необразованной, темной крестьянской девчонкой, то я была бы счастливой, пусть много работала бы, зато хорошо бы и веселилась. Настанет когда-нибудь день, когда я прокляну минуту своего рождения.
<14 ноября 1933>
Настроение у меня страшно быстро меняется: то безнадежно тоскливое, то вызывающее, полное странных мечтаний и надежд. Эти перемены очень раздражают, злят, заставляют нервничать, хотелось бы всегда быть одинаковой: или радостной и сильной, или ненавидеть жизнь. Но весь ужас в том, что душа моя не слушает разума и воли. Сегодня у меня настроение одно, и я мучаюсь, проклинаю жизнь и готова всех растерзать, а завтра взгляд мой вдруг круто переменится, жизнь покажется не такой уж гадкой. С удовольствием возьмешься за ненавистные уроки и построишь вдобавок блестящий и грандиозный замок желаний о своем будущем. Но цели, определенной и реальной цели у меня нет. Зачем я живу? Во имя чего? Одному богу известно, просто копчу даром небо.
Даже мои писания, о которых так много думалось и говорилось раньше, пошли в отставку, просто нет времени заниматься ими, и постепенно пропадает желание. А было ли по-настоящему у меня когда-нибудь желание? Не иллюзия ли это была, пустая погоня за совершенством? Я любила сочинять только в голове, на бумаге же дело поворачивалось в другую сторону, пыл проходил, и ничего не получалось. Сейчас я и не мечтаю стать гением, ни о чем не мечтаю, даже обычная моя «игра» нейдет на ум.
Интересно иногда рассмотреть свое прошлое, разобрав его по ниточкам. С малых лет у меня появились в характере некоторые слабости: подозрительность, доходящая иногда до нелепости, и мечтательность. О чем думала, что представляла или, вернее, во что «играла», как я называла это, вероятно, не решусь никому рассказать. А в последние годы я любила по целым часам сидеть в комнате и сочинять различные вещи, разговаривать, изображать и переживать, на разные лады переделывая одно и то же.
Когда мне было семь-восемь лет, подозрительность моя дошла до болезненности: я в каждом слове чувствовала скрытый смысл и заговор против себя, всего боялась и, оставшись одна, осматривала все углы и закоулки – нет ли кого? В те годы мне часто снились поразительно яркие и страшные сны, которых я с ужасом ждала и от которых просыпалась в холодном поту и с сильным сердцебиением. Один сон, часто повторяющийся, сам по себе не представлял ничего особенного, но он внушал чисто физическое и тошнотворное отвращение. Несколько лет это ощущение повторялось уже наяву, и я пыталась понять, внимательно изучая его, что же это такое, но не могла…
<18 ноября 1933>
«Проклятье быть уродом!..» В прошлый выходной я встала очень поздно, хмурая, сердитая и готовая заплакать… Настроение было ужасное. И вдруг, совсем неожиданно, как с неба свалилась, пришла в голову мне обаятельная по своей новизне мысль: «Бросить все и заниматься дома». Мое дурное настроение как рукой сняло – целый день я дома, и одна. Я представляла себе всю прелесть этой неожиданно перевернувшей меня жизни: играть на рояле, гулять, писать, рисовать, читать вдоволь и, конечно, учиться. Весь выходной я думала только об этом, эта новая мысль так затянула. А когда потянулись скучные, однообразные и будничные дни, мне уже не было тяжело и горько, я ложилась и просыпалась с неизменной мыслью: «Скоро, скоро». По временам приходили сомнения: «А может, это невозможно? Что за чушь я придумала?» Невесело тогда становилось на душе, школа мне стала невыносима, до того там было все противно и гадко, опротивели педагоги и ученики, боязнь перед опросом – опротивело все.
<29 ноября 1933>
Как и когда это случилось?.. Не все ли равно! Только я уже пятидневку не хожу в школу. Сижу дома одна, настроение все дни хорошее и веселое: подолгу смеюсь, сидя одна, или же начинаю бегать по комнатам, улыбаясь, часами играю на рояле и немного читаю. Каждый день приходит Ксюша, принося известия из школы, оттуда, с чем так хотелось бы совсем покончить. Как злит и раздражает эта неволя и связь с тем миром, гадким и противным, который хотелось бы совсем забыть, но хорошо, что хоть часть моих желаний исполнена. Время идет быстро и незаметно, занимаюсь теперь гораздо меньше и с большим удовольствием, сегодня только немного омрачился мой отдых. У Жени ужасное и тяжелое настроение, которое часто бывало у меня, и я вновь им заразилась, опять появилась какая-то неудовлетворенность, какая-то злоба на жизнь.
Папа за обедом мне в шутку сказал: «Пойдем, Нина, путешествовать по России. Паспорт все равно мне не дадут». «Пойдем», – воскликнула я, так и вздрогнув вся от неожиданной радости. И в уме уже рисовались пленительные картины… Леса, поля, новые лица, новые города… Шумные потоки и широкие, спокойные реки. Темная сеть ветвей и листьев, пахучая и душистая трава, влажная хвоя, бесконечно широкое море колыхающейся ржи, ветер, милый летний ветер, и над всем этим небо, синее, далекое, то сердитое, то ласковое, покрытое тучами или ясное, чуть смеющееся вечером и бирюзовое по утрам…
Лечь где-нибудь в лесу, там, где не ступала нога человека, у мохнатых зеленых стволов берез, прильнуть телом к теплой земле, уткнуться в пахнущую здоровьем и весельем яркую траву и, заложив под голову руки, долго смотреть вверх, где сплетаются, образуя живой трепещущий шатер, гибкие ветки, где бьются зеленые листочки, шумят и блестят на солнце, где плавно раскачиваются стройные верхушки белоснежных берез и виднеется синее небо, вымытое и ликующее, залитое лучами солнца. На что мне книги, ученье? Я не создана для душной комнаты и людской толпы. Свободы! Свободы жаждет сердце… Слиться с природой хочется мне, взлететь высоко над землей вместе с вольным ветром и лететь… в далекие и неведомые страны. А меня держат в тюрьме, мучают, пытают и отравляют мне жизнь.
<5 декабря 1933>
Вторая пятидневка прошла быстро и незаметно. Такой ужасной кажется возможность опять идти в школу, а придется, и очень скоро, уже начались четвертные зачеты, и мама говорит, что мне их надо сдать. Больше пяти дней не просижу, пожалуй, школа мне сейчас не кажется такой отвратительной, как прежде, но боюсь, что вскоре все пойдет по-старому. Сейчас я чувствую себя прекрасно, настроение спокойное и веселое, ведь я совсем не вижу людей, ни с кем не общаюсь, все одна и одна, и некому напомнить про мое косое безобразие.
Сама же забываю я про него, но стоит мне только увидеть постороннего человека, промолвить с ним два-три слова, как с мучительной ощутимостью начинаю представлять свой взгляд, противный и неприятный. Стараюсь не глядеть в лицо собеседника, отворачиваюсь и наклоняю голову, и тупая злость против всех и себя появляется в моей душе. Ужасно ощущать свое безобразие, но еще ужаснее находиться с ним среди нормальных людей, чувствовать, что все видят его. Они думают, что я по натуре такая молчаливая, дикая. Да нет! Недаром говорят, что «чужая душа – лес густой».
Никогда не узнает никто, что такой сделало меня мое собственное уродство. И теперь я урод вдвойне: урод физический и урод нравственный. Одно создало другое. Одно – это физическое уродство исковеркало, переделало на свой лад мою душу, сделало из нее какой-то ужасный комок противоречий, неуживчивый, мучительный. Заставило меня молчать, злиться, заставило страдать. А там, в самой глубине души, все-таки иногда прорывается пламенное желание быть человеком, таким, как Женя, Ляля, мама, все. А сознание, что это невозможно, так невыносимо.
<15 декабря 1933>
Дни идут и идут… Не то что быстро, а как-то незаметно. Но девятнадцатого декабря мне необходимо идти в школу, и это будет еще ужасней, чем раньше, ведь я так отвыкла от людей, стала такой дикой и странной. Чего я требую? Только одного – жить одной, и все, я раньше не думала, что счастье для меня заключается в таком немногом. Мне это временное уединение совсем не принесло пользы, наоборот, я так отвыкла от людей, что даже в присутствии своих родных чувствую себя отвратительно и решительно не знаю, куда девать себя.
Все кажется у меня смешным и безобразным: большие красные руки в непомерно коротких рукавах, сутулая фигура, которую я стараюсь выпрямить и которая от этого становится еще более неестественной и некрасивой. Все время находясь у бабушки, я не забываю об этом – о своем лице, о глазах и фигуре. Может быть, это легкомыслие? Не спорю. Но так тяжело думать, что вещи, которые приносят такую боль и мучение, не что иное, как только легкомыслие. Наверно, это действительно мое болезненное и обостренное самолюбие, хорошо бы мне побольше находиться среди людей, приучая себя не обращать внимания на свое безобразие. А я делаю наоборот.
Мама была права, говоря, что после перерыва мне еще трудней будет среди учеников в школе, но я все-таки не променяю обыденную жизнь среди людей, даже привыкнув к ней, на краткие периоды моего одиночества. Зато как блаженны бывают дни, когда я остаюсь одна, – и тогда я бываю счастлива (почти всегда). Папа, смеясь, говорил, что мне самой скоро надоест мое отшельничество, но он глубоко заблуждается: чем больше я нахожусь одна, тем милее мне мое одиночество. Да, не всякому, конечно, понравится такая жизнь: каждый день ничем не отличается от предыдущего и будущего, а в то же время он так хорош.
В эти дни я много играю на рояле, жаль только, что не могу еще разбирать трудные вещи. Но я должна научиться, я серьезно взялась за это. Сегодня нарядилась в брюки Ляли, специально для физкультуры, и бегала по залитым солнцем комнатам, прыгала, играла с Бетькой. За окном голубое небо, белые неподвижные облачка, а внизу снег и яркие солнечные блики. А у меня на душе тихо и спокойно – словом, рай земной. Ну разве можно променять это на школьный шум и гам, на бесконечные волнения или томительно скучные часы уроков?
Мне очень часто хочется узнать, что думают другие женщины и девочки, тогда бы я окончательно поняла себя. Мы, женщины, не знаем себя, потому что нам не у кого подучиться. Все великие писатели – это мужчины, и, описывая женщин, они смотрят исключительно со своей точки зрения, они нас не знают. А мне так необходимо часто знать мысли женщин, их желания и потребности. Я лично представляю собой бесконечную путаницу и хаос всех желаний и потребностей, как мужчин, так и женщин. И (надо поставить в заслугу) страшно презираю последних за их глупость и бессилие выйти из-под власти мужчин и перестать быть рабынями, за что-то специфически женское.
<16 декабря 1933>
Нынче Ксюша предложила мне вдруг не ходить в школу до каникул. Я сидела и думала, а в душе все громче и смелей звучал голос, говоривший «Останься!». Я теперь почти уверена, что останусь. Все равно решение зависит только от мамы и папы, хотя перед ними немножко стыдно, что так быстро меняю свои решения, но зато как пленительно манят эти десять дней. А там еще пятнадцать свободных и беззаботных дней.
Сегодня я взяла свои старые тетради 1928–1929 годов с сочинениями и, читая их, не могла не смеяться. Как они наивны и по-детски просты. Однако в 1929–1930 годах появляется в рассказах некоторая идейка в связи с коллективизацией и разорением крестьян, я начинаю выступать против большевиков, ругая их от лица своих героев. Вообще, появляется серьезность и кое-что похожее на теперешнее мое писание.
<20 декабря 1933>
Сижу дома… Погода теплая и тихая, тучи сыплют мелким и легким снегом, даже не холодным, а приятно освежающим лицо, поддернутое пленкой синее на западе небо, в тумане виднелась неясная даль. А я сижу дома, по временам так тоскливо становится, я скучаю по морозному воздуху, по голубой дали и синеющему светлому небу. Я дала себе слово каждый день на каникулах гулять, и гуляла бы, если б Ксюша осталась в Москве: ходили бы вдвоем на каток и бегали по Воробьевым горам. Но она уезжает в деревню, единственный человек, с которым я могла бы гулять. А теперь? Ходить одной, оглядываясь каждую минуту по сторонам – нет ли рядом хулигана? Ну нет, это невозможно.
Я как-то услыхала случайный разговор мамы и папы обо мне и папины слова: «Она настолько ограниченна, что не интересуется ничем, ее не касающимся, и даже разговаривать разучилась». Горько и обидно стало мне от этих слов. Хотела вначале поговорить с папой, а потом раздумала. С какой стати унижать себя лишний раз? Трудно будет мне жить на свете. Куда я гожусь? Быть или конторщицей и корпеть всю жизнь над бесконечными цифрами, или учительницей непокорных, противных учеников, которые издеваются над тобой и дразнят. Незавидная судьба! А большего я не достигну, но, может, к тому времени меня покинут мечты и угаснут мои надежды. Но жить будет, я знаю, еще тяжелей, недаром же старики с таким волнением и грустной радостью вспоминают молодость. Чем все это кончится? Моя тоска, моя хандра…
<21 декабря 1933>
В странных, ненормальных условиях протекает моя жизнь. Меня можно сравнить с пожизненным заключенным, у которого нет никакой надежды на освобождение и который, не надеясь, все же мечтает об этом освобождении. Все время я думаю об одном. И эта единственная вещь есть я. И правда, если взглянуть на мой дневник, то нет там ничего, кроме меня. Все я да я. Правда, я как-то давно ничего не писала, пожалуй с весны прошлого года, то есть перед этим летом.
Как я кляла школу и ученье в прошлом году! А все-таки тогда было легче, чем теперь. В общем, я теперь знаю, что ни за что не решусь оставить школу. Тогда меня удержала И. Ю. и отчасти в начале года Левка, теперь И. Ю. ушла, а Левка стал просто хулиганом и мальчиком с дуринкой в придачу. И я опять ненавижу школу, как и раньше. «И скучно, и грустно!» В душе пусто и нерадостно, тоска в сердце. В начале прошлого года было совсем не то, но лучше или хуже – не знаю.
Сегодня я порылась в дневнике, почитала про Левку, и стыдно стало. Боже мой! Какая я была дура, как я могла быть способна на такую глупость? Вся эта история с Левкой отвратительна, а мы были только в пятой группе. Пожалуй, всю кашу заварила я сама, и как вспомню об этом, начинаю презирать себя: и за глупое увлечение, и за то, что не могла скрыть его от девчонок, от Иры и Ксюши. Какой позор! Бегать за ним, краснеть от одного его взгляда и счастливо улыбаться на каждое его слово.
<22 декабря 1933>
Недавно, часа в четыре, вышла из дому, пойдя с Бетькой гулять. Было еще светло, в поле пусто и тихо. Выйдя на дорогу к реке, пошла, не отставая, за какой-то женщиной. Стыдно сознаться, но мне было страшно своего одиночества, которое я так люблю. Ведь это была моя первая прогулка, самостоятельная и без провожатых, поэтому понятно, что я чувствовала себя как-то странно, не находя рядом знакомого человека.
К счастью, дорога была оживленна, изредка навстречу мне попадались пешеходы, за мной шел какой-то мужчина, раз проехал извозчик на чудном вороном рысаке. Если б почаще устраивать такие прогулки, я, пожалуй, перестану бояться всякого встречного мужчину. Эти мужчины, пожалуй, испортили мне жизнь и в дальнейшем испортят ее еще больше. И кто виноват? Мама.
Зачем она мне с ранних лет внушала этот постыдный страх перед ними, не позволяя ходить одной?
Как мучительно было сознавать свое бессилие и ничтожество, невольное и полное подчинение мужчине. Как вырваться из этого подчинения, когда ты всегда находишься в их власти? Из-за этой боязни я теряла прекрасные минуты и даже часы уединения в лесу и поле. Я боялась возможности встретить «мерзавца», который вдруг возьмет и оскорбит. Есть еще время переделать себя, и я буду бороться, как только представится возможность. Я уже не боюсь выходить одна ночью на улицу, ходить по пустым полутемным лестницам, и это уже шаг вперед.
<24 декабря 1933>
Так тянет на улицу гулять, дома скучно и ничего не хочется делать. Последние дни я начинаю запускать уроки, никак не могу собраться, чтобы взяться за них, опять появилась неудовлетворенность, какое-то смутные желания. Можно ли вести отшельническую жизнь в пятнадцать лет? В самую лучшую пору жизни, чтоб никаких удовольствий и развлечений, одна бесплодная, скучная и ненужная наука, пахнущая мертвечиной и гнилью? А мне всего пятнадцать лет!
Правда, я уже отвыкла от какой-либо другой жизни, и нет мучительных резких порывов к веселию, но однообразие, отсутствие интересов и одиночество долгих дней и месяцев вылились в бесконечную тупую тоску. Интересно, что меня сейчас ничего не интересует: ни живопись, ни музыка, ни какая-то наука, ни писание. Все скучно и неинтересно, все представляет лишь необходимые в жизни и скучные обязанности. Даже спорт, коньки и гимнастические упражнения не доставляют удовольствия.
С некоторых пор, за что ни возьмусь, твержу себе «так надо», а не говорю «я так хочу». Излюбленными моими занятиями теперь, да и раньше было лежать по утрам в постели по нескольку часов, время от времени дремать и мечтать об одном и том же, но на разные лады. И это удовольствие я старалась доставлять себе как можно больше, хотя и говорила себе, что надо вставать. Как тянет иногда мечтать, хотя невольно и думаешь: «Зачем, это только мечты?» Мечтать я могу подолгу, целыми часами, ярко все представлять себе и разговаривать, заменяя несколько лиц. Что мне еще хочется – это читать, читать без конца, но и тут противное слово «надо» не дает покоя, запрещает читать романы и велит копаться в скучных, сухих историях. А как я люблю романы… Забываешь про все, живешь интересной чужой жизнью, переносишься в неизвестный чудный мир.
<26 декабря 1933>
В начале этого месяца я очень просила маму записать меня к глазнику в больнице, мне не давало покоя мое уродство, было еще свежо воспоминание о школе и общении с людьми. Каждый день я напоминала маме, но она не обращала внимания на мои просьбы, отговариваясь, что нет денег, а в сущности считая это лишним. Она отчасти права, потому что об операции, конечно, нечего и думать, но я тогда еще надеялась и ждала. Теперь же, находясь все время дома и никого не видя, я забыла о своих глазах и перестала говорить о них с мамой.
Вдруг она сама вчера и сегодня напоминает об этом и просит отца записать меня, и отец, раньше неодобрительно относящийся к моей просьбе, без возражения соглашается. Мне показалось очень странным это их внимание – уж не прочли ли мой дневник? Только из него они могли узнать что-либо, и это вполне возможно, хотя я и не очень огорчилась. Бог с ними! Пускай читают – не все ли равно? Лишь бы не заговаривали, а если заговорят, то я не буду молчать и выругаю их как следует.
У меня отвратительные отношения с родными. Привыкнув к одиночеству и обособленности, я стала не в меру самостоятельной и не терплю, чтобы мне делали замечания и читали нотации. Я не хочу быть такой, но стоит только кому-нибудь на что-либо мне указать, я начинаю ругаться и резко обрываю. Наиболее обостренные отношения у меня с папой. Почему? Не имею никакого представления. Мы с ним более-менее одного характера, и от этого, наверное, все и происходит.
Разговариваю я с ним очень мало, да и вообще я до смешного мало говорю, но уж если мы с ним заговариваем, то обязательно поругаемся. Какое-то непонятное, но неудержимо сильное раздражение появляется у меня против него. И что за чертовщина! Никак не могу с собой сладить. Папа всегда был немножко ворчлив, но к старости (как это большей частью и бывает) эта слабость страшно усилилась. Он ворчит решительно на все: на радио, на маму, на нас и больше всего, пожалуй, на меня, я ведь все время под рукой верчусь. Это для него необходимая вещь, как еда и спанье.
Однако это не мешает мне уважать его, и уважать очень сильно. Если у меня есть авторитет, на который я почти во всем могу ссылаться, так это отец. Его слова для меня все (надо сделать оговорку, что только в политике и в науке)[32]32
Зачеркнута одна строка.
[Закрыть]. Насыщенные злостью и сарказмом слова отца я принимаю за правду, и чем более они резки тем приятнее мне. Папа – молодец, из простого крестьянина стать вполне образованным, умным и поразительно развитым человеком нелегко, и мы ему, конечно, не чета.
Мы сами о себе невысокого мнения, но еще более низкого мнения о нас отец. Он вообще ругает всю советскую молодежь, а мы для него самые глупые, неразвитые и ограниченные во всем люди. Этому еще способствует и то, что мы женщины, а все женщины для него дрянь, да и не только для него, но и для многих мужчин. Хорошо еще, что у меня нет брата: разница обращения с ним и с нами была бы колоссальной.
<1 января 1934>
Недавно пошла с Ирой на улицу, чтобы поболтать, ведь с ней не приходится задумываться, о чем говорить, она сама говорит без умолку. Мне было неинтересно и чуточку смешно ходить с ней и слушать совершенно меня не касающиеся и легкомысленные ее похождения. Возможно, и ей было невесело, но она с большим удовольствием описывала свою жизнь и времяпрепровождение в обществе очаровательных друзей – пятнадцатилетней хорошенькой своей подружки с ее поклонником, тридцатилетним греком. Целый вечер у них фокстроты и флирты.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!