Текст книги "Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам"
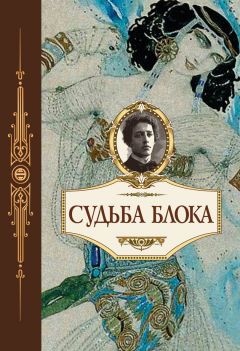
Автор книги: О. Немеровская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава восьмая
Символисты и 1905 г.
И, если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи…
А. Блок. 18 октября 1905 г.
Фабричный район, где жили Кублицкие и Блоки, а также условия полковой жизни дали нам всем возможность видеть то, что не могли знать многие в Петербурге. Задолго до 9-го Января уже чувствовалась в воздухе тревога. Александр Александрович пришел в возбужденное состояние и зорко присматривался к тому, что происходило вокруг Когда начались забастовки заводов и фабрик, по улицам подле казарм стали ходить выборные от рабочих. Из окон квартиры можно было наблюдать, как один из группы таких выборных махнет рукой, проходя мимо светящихся окон фабрики, и по одному мановению этой руки все огни фабричного корпуса мгновенно гаснут. Это зрелище произвело на Александра Александровича сильное впечатление. Они с матерью волновались, ждали событий.
В ночь на 9-е Января, в очень морозную ночь, когда полный месяц стоял на небе, денщик разбудил Франца Феликсовича, сказав, что «командир полка требует г-д офицеров в собрание».
Когда Франц Феликсович ушел, Александра Андреевна оделась и вышла из дому. На улице, подле казарм, весь полк уже оказался в сборе, и она слышала, как заведующий хозяйством полковник крикнул старшему фельдшеру: «Алексей Иванович, санитарные повозки взяли?»
Поняв, что готовится нечто серьезное, сестра вернулась домой, постучалась к сыну и в двух словах сообщила о случившемся. Он тотчас же встал. Сын и мать вышли на улицу. На набережной у Сампсониевского моста, у всех переходов через Неву стояли вызванные из окрестностей Петербурга кавалерийские посты. Тот отряд гренадер, где находился Франц Феликсович, занимал позицию возле часовни Спасителя. Тут же стояли уланы, которые спешились, разожгли костры и вокруг этих костров устроили танцы, вероятно, для согревания. Возле моста рабочий дружески уговаривал конного солдата сойти с поста, объясняя ему, что «все мы, что рабочий, что солдат – одинаковые люди». В ответ на увещания бедный солдат отмалчивался, но видимо томился. Празднично одетый рабочий вышел из квартиры и долго крестился на церковь, но переходы на ту сторону оказались в руках неприятеля, и видно было, как он тычется и тщетно ищет свободного прохода, мелькая издали нарядным розовым шарфом. От Петровского парка прокатился ружейный залп, за ним второй. Сестра зашла за мною. Мы еще долго ходили по улицам. Александр Александрович ушел несколько раньше. Вернувшись в свою квартиру, Александра Андреевна нашла у себя Андрея Белого.
М. А. Бекетова

А. Блок. 1907 г.
В тот день познакомился с милым я Францем Феликсовичем, который тихонько выслушивал все разговоры, явившися к завтраку, от какого-то пункта, где должен стоять был с отрядом… Мне было неловко; старался быть сдержанней я; но А. А., как нарочно, с приходом тишайшего Франца Феликсовича говорил все решительней; мне казалося: тоном старался его – подковырнуть, уязвить, отпуская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, солдафонства, не обращая внимания на Ф. Ф., будто не было вовсе его, – будто мы не сидели в Казармах; как-никак, Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост, мог быть вынужденным остановить грубой силою толпы (к великому облегчению Александры Андреевны этого не произошло); но я думаю, что Ф. Ф. не отдал бы приказа стрелять, предпочтя, вероятно, арест; с каким видом вернулся бы он в этот дом, так решительно, революционно настроенный; да и сам он с презрением относился к «солдатчине»; тем не менее, факт стояния Ф. Ф. у какого-то моста с отрядом все время нервил А. А.; крепко, несдержанно он выражался, бросая салфетку, и – чувствовалась беспощадность к Ф. Ф.
Я заметил в А. А. этот тон беспощадности по отношению к отчиму и в других проявлениях; мне показалось, его недолюбливал он, и – без всякого основанья, как кажется, раз он сказал:
– «Франц Феликсович, Боря, – не любит меня».
– «Таки очень… – прибавил с улыбкой он».
Но этого – я не видел, не чувствовал даже; наоборот: постоянно я видел уступчивость, предупредительность, мягкость, хотя Александра Андреевна поговаривала, что Ф. Ф. очень вспыльчив.
– «Он может кричать – очень страшно!»
Но был он отходчив.
А. Белый
Историческую декорацию 1905 года легко себе представить, но мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такой острою напряженностью, какую едва ли можно сейчас выразить точными и убедительными словами. Возможно ли передать, например, ночь с 8-го на 9-е января в помещении редакции «Сына Отечества»? Тогда все петербургские писатели сошлись здесь, чувствуя ответственность за надвигающиеся события. Самые противоположные люди толпились теперь в одной комнате, сознавая себя связанными круговою порукою. Здесь были все, начиная от Максима Горького и кончая Мережковским. В течение всей ночи велись переговоры с правительством. Наши депутаты уезжали и приезжали. Там, за оградою правящей бюрократии, все ссылались друг на друга. Как будто никто не был повинен в том, что изо всех казарм шли солдаты и что готовится расстрел безоружных рабочих. Вот эти залпы и трупы несчастных, «поверивших в царя», были вещим знаком – особливо для поэтов.
Г. Чулков
Помню я эту страшную ночь – ночь с восьмого на девятое января 1905 года. Мы собрались в одной из петербургских редакций – кучка интеллигенции. Все знали, что «завтра казнь». Забыв идейные распри, сошлись тогда вместе либералы и социалисты, атеисты и верующие, Максим Горький и Д. С. Мережковский.
Г. Чулков. Письма со стороны
Но А. А. в этот день волновался другим: значит был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и – расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей шерсти и каменной гордо закинутой головою на фоне обой; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна (лазурное, светлое – в темно-зеленом): покуривая, на ходу, он протягивал синий дымок папиросы и подходил то и дело к окошку, впиваясь глазами в простор сиротливого льда, точно – он – развивал неукротимость какую-то: а за чаем узнали: расстрелы, действительно, были.
С собой из Москвы привез целые ворохи разнообразнейших впечатлений о том, что меня волновало, с чем ехал я к Блокам; но говорить ни о чем не могли мы; события заслонили слова.
Мы – простились, и я поспешил к Мережковским.
А. Белый
Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной стихии, – прежде всего из ненависти к буржуазии.
Г. Чулков
Необходимо отметить, что именно в это же самое время, т. е. одновременно с тем, когда Блок увидел реальных рабочих и революционеров, он также увидел иреальную Россию.
И. Машбиц-Веров[44]44
И. М. Машбиц-Веров – критик, литературовед («Наша газета» и др.), печатался с 1924 г.
[Закрыть]. Ал. Блок и первая революция
Я политики не понимаю и на сходке подписался в числе «воздержавшихся», но… покорных большинству. Не знаю, что из всего этого выйдет. Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему и спросить, когда нас всех перережут. Близился к сумасшествию, но утром на следующий день (читал ночью) пил чай. Иногда «бормочу» и о политике, но все меньше. Осенью был либералом более. Но, когда заговорили о «реформах», почувствовал, что деятельного участия в них не приму. Впрочем, консерваторов тоже почти не могу выносить.
Письмо к С. Соловьеву. Январь 1905
Узнал много о наших литераторах и о здешней революции. Нервы у рабочих так приподняты, что они все лето и даже до сего дня по четыре раза в неделю устраивают собрания числом в 1000 человек.
Письмо к матери 29/VIII – 1905
С этой зимы равнодушие Александра Александровича к окружающей жизни сменилось живым интересом ко всему происходящему. Он следил за ходом революции, за настроением рабочих, но политика и партии по-прежнему были ему чужды. Во всем этом он вполне сходился с матерью. Любовь Дмитриевна сначала относилась к событиям безразлично или даже враждебно, но понемногу и она зажглась настроением мужа.
М. А. Бекетова
Блок в октябре ходил по Невскому с красным флагом.
Письмо Брюсова к Перцову от 17/II 1906
Тревожный, ищущий, обворожительно кроткий, встретил Блок пятый год. Помню, как Любовь Дмитриевна с гордостью сказала мне: «Саша нес красное знамя» – в одной из первых демонстраций рабочих… Помню, как значительно читал он стихотворение, только что написанное, где говорится о рыцаре на крыше Зимнего Дворца, склонившем свой меч. Бродили в нем большие замыслы. Он говорил, что пишет поэму – написал только отрывок о кораблях, вошедший в «Нечаянную Радость».
С. Городецкий
Широкому читателю обычно известны «Двенадцать» и «Скифы» – это замечательные поэмы об Октябре. Но у Блока есть также исключительно-ценные стихотворения, посвященные революции 1905 года. Первую революцию поэт приветствовал прекрасными и восторженными песнями. И, зная эту раннюю революционную поэзию Блока, по-иному воспринимаешь «Двенадцать» и «Скифы»: они оказываются органическим продолжением прошлого революционного творчества поэта.
И. Машбиц-Веров. Блок и современность
В 1905 году издавался журнал «Вопросы Жизни». Я принимал в нем ближайшее участие, и Александр Александрович был в нем постоянным сотрудником. Печатались его стихи и рецензии. Революция 1905 года как факелом осветила сумерки нашей тогдашней культуры. И все, для кого революция была не только внешний, социальный и политический факт, но и нечто большее, некоторое внутреннее событие, искали встреч друг с другом – даже одинокие люди, как Александр Блок. Я хорошо помню белые бессонные петербургские ночи, наши ночные блуждания с Блоком, ночные беседы за стаканом вина где-нибудь в углу сомнительного кабачка. Какие были предчувствия! И как ужасно они оправдались! Та «мистическая ирония», о которой любили толковать немецкие романтики, отравила ночные души тогдашних лириков. И это было, быть может, начало смертельной болезни.
Г. Чулков. Наши спутники
1905 год. Редакция «Вопросов Жизни» в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового – все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковского, помните: «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми письмами я подписывался: «старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что мой «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усумнилась в вашей настоящей фамилии:
– Блок! Псевдоним?
И когда вы пришли в редакцию – еще в студенческой форме с синим воротником – первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.
И с этой первой встречи, а была весна петербургская особенная – и пошло что-то, чудное что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.
А. Ремизов. Из Огненной России
В этом году мне удавалось получать довольно много литературной работы: с марта меня печатали в большом количестве «Вопросы Жизни» (преимущественно – рецензии). Осенью я познакомился с С. А. Венгеровым, для которого перевел несколько больших и маленьких юношеских стихотворений Байрона, в издании Ефрона, для III тома, и теперь жду новых переводов Байрона от него же. Кроме того, Венгеров заказал мне историко-литературную компиляцию: «Очерк литературы о Грибоедове», на которую пошло довольно много труда. Если жизнь всех издательских фирм не прервется окончательно (а это становится, по словам того же Венгерова, очень возможным), – моя работа войдет в какое-то новое школьное издание Грибоедова. Таким образом я все-таки доволен работой истекающего года. Стихов писал много, чувствую, что в них еще много неустановившегося, перелом длится уже несколько лет. Появления новых стихов в печати жду в начале будущего года, – основываются бесчисленные журналы, из которых иные, впрочем, могут и прогореть. Все это ужасно шатко теперь.
Письмо к отцу 30/XII – 1905 г.
Журнал «Вопросы Жизни» издавался в 1905 году. Официальным редактором журнала был Н. О. Лосский, издателем – Д. Е. Жуковский. Этот журнал возник по инициативе Е И. Чулкова после того, как журнал «Новый Путь», куда в конце 1904 г. вошли С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев, прекратил свое существование из-за разногласий, возникших между Д. С. Мережковским и Г. И. Чулковым. «Вопросы Жизни» был тогда единственный толстый петербургский журнал, который оказал широкое гостеприимство символистам, в то время еще не признанным критиками и широкими кругами читателей. На страницах «Вопросов Жизни» печатались замечательнейшие произведения эпохи – роман «Мелкий Бес» Федора Сологуба, трактат Вячеслава Иванова «Религия Диониса», стихи Александра Блока и др.
Письма, примеч.
Последние месяцы существования «Нового Пути», а затем год журнальной работы в «Вопросах Жизни» характеризуются не столько богословским творчеством, сколько академической работой.
Г. Чулков. Об утверждении личности
После обеда (в б час.) я пошел в редакцию, которая оказалась на седьмой Рождественской. (Надо сказать, что Достоевский воскресает в городе.) Нашел и лез на лестницу, и услыхал из-за одной двери крик: – Мистический богоборец! Почти по этому и догадался, что кричат «Вопросы Жизни». Квартира их оказалась темной и маленькой; в ожидании электричества при свечах в бутылках сидели в конторе Булгаков, Чулков и Жуковский и Б-в высмеивал Жуковского, крича: «Мистический богоборец!». Почти без речей, как я вошел, пустили залп новых стихов Брюсова (не особенных) и Вяч. Иванова (особенных). После этого Булгаков взял у Чулкова галстук и, хохоча, увел Жуковского к Вяч. Иванову. Мы же с Чулковым и сестрой Чулкова стали пить чай при тех же свечах в бутылках. Тут-то, в запахе Достоевского, и узнал я сбивчиво, что «В. Ж.», может быть, и совсем прекратятся, что у Жук(овского) нет денег и что идеалисты очень против меня.
Письмо к матери 29/VIII – 1905 г.
Отношение мое к «освободительному движению» выражалось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и одно время даже в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу (из «общественности»), отбросив то, чего душа не принимает. А не принимает она почти ничего такого, – так пусть уж займет свое место, то, к которому стремится. Никогда я не стану ни революционером, ни «строителем жизни», и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто, по природе, качеству и теме душевных переживаний… В смысле моих последних «дум» о государств, думе я все-таки «мещанин» (по Горькому), так как не прочь от «земцев», Струве и пр. «умеренных» партий (разумеется, не для жизни, а для «государственной думы» и т. и.).
Письмо к отцу 30/XII – 1905 г.
Блок не «пошел в революцию», но душевно равнялся по ней. Уже приближение 1905 года открыло Блоку фабрику (1903 г.), впервые подняв его творчество над лирическими туманами. Первая революция пронзила его, оторвав от индивидуалистического самодовольства и мистического квиетизма.
Л. Троцкий. Внеоктябрьская литература
Часть вторая
Глава девятая
Среды Вячеслава Иванова
Пришелец, на башне приют я обрел
С моею царицей – Сивиллой,
Над городом – мороком – смурый орел
С орлицею ширококрылой.
Вячеслав Иванов
На башне
Тут появилась впервые в России фигура двусмысленного Вячеслава Иванова, давшего обоснование символизму, с одной стороны; но с другой – что-то слишком расширившего его сферу и тем затопившего символизм расширением в декадентство, с одной стороны, в александрийство – с другой; вскоре «среды» Иванова в Петербурге явились рассадником синкретических веяний, вдохновляя творцов популярных газетных статеек: фигура Иванова – фатум в истории русского символизма, вписующий в эту историю светлые строки и темные строки; сыграл этот крупный ученый поэт не последнюю роль в распылении наших тенденций; под влиянием плохо понятных, недостаточно оговоренных взглядов Иванова ставился как бы знак равенства между театром и храмом, мистерией и драматической формой, Христом и Дионисом, богоматерью и просто женщиной, символом и сакраментальной Эмблемой, между любовью и эротизмом, меж девушкой и менадой, Платоном и… греческой любовью, теургией и филологией, Вл. Соловьевым и Розановым, орхестрою и… Парламентом, русскою первобытною общиною и… «Новым Иерусалимом», народничеством и славянофильством.
А. Белый
Вячеслав Иванов, один из образованнейших писателей сегодняшнего дня. Профессор по служебному своему положению, он объездил чужие края вдоль и поперек. Он так долго жил в Италии и Греции, что при своей любви к античному миру имел всю возможность изучить эти страны до мелких подробностей: он стал чистым эллином и чистым римлянином… Он почти не может мыслить образами иными, чем древний грек или римлянин, весь ушедший в мифологию.
И знания его – не дилетантская осведомленность человека, случайно увлекшегося. Из каждого его стихотворения, из каждой его статьи глядит настоящее изучение предмета. К каждому собственному имени он, очевидно, без труда и без справок в энциклопедиях мог бы подставить научное примечание.
В его эпиграфах, которые он так любит, пестрят языки греческий, латинский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. В «прозрачности» вы найдете его шестистишие Бальмонту, написанное по-латыни с настоящим чувствованием и языка и ритма. В последней его книге «Сог ardens» («Пылающее сердце») несколько страниц отведено искусным строкам на немецком, что сейчас мог бы еще сделать, вероятно, один Фидлер. И как предел учености, совсем необычной в наши дни, – в издании археологического общества сейчас печатается его диссертация на латинском – «De societatibus vectigalium publicorum populi Romani».
А. Измайлов
Нельзя сказать, чтобы литературный Петроград радушно его принял, скорее наоборот: это Вячеслав Иванов принял тех, кто был ему интересен и близок из литературного мира: вместе с женой, интересной и своеобразной писательницей Зиновьевой-Аннибал, радушно, в самом прямом смысле этого слова, стали они принимать по средам в скромной квартире шестого этажа на Таврической.
Е. Аничков[45]45
Е. В. Аничков (1866–1937) – литературовед, участник сред на «башне» Вяч. Иванова. После Октябрьской революции эмигрировал.
[Закрыть]. Новая русская поэзия

Вячеслав Иванов. Рисунок К. Сомова. 1906 г.
П. И. Безобразов, которого выбрали председателем беседы-импровизации на тему «Любовь», – заложил первый камень фундамента «сред»; если память не изменяет, на этом собраньи присутствовали: Мережковский с женою, Бердяев с женою, В. Розанов, П. Безобразов, Иванов с женою, Александр Александрович, кто еще – не упомню (Г. И. Чулков, может быть); помню я, что о любви говорили: Иванов, Бердяев, я, Л. Ю. Бердяева; говорил ли Д.С. Мережковский – не помню; молчал В. В. Розанов…
Александр Александрович сидел в дальнем углу, прислонив свою голову к стенке, откинувшись, очень внимательно слушая, с полуулыбкой; когда обратились к нему, чтоб и он нам сказал что-нибудь, он ответил, что говорить не умеет, но что охотно он прочитает свое стихотворение: и прочел он «Влюбленность»; он был в этот вечер в ударе; уверенно, громко, с высоко закинутой головой бросал в нас строками:
Влюбленность! Ты строже Судьбы!
Повелительней древних законов отцов!
Слаще звука военной трубы!
А. Белый
Осенью 1905 г. Вячеслав Иванович Иванов и покойная жена его Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал устроили у себя на «башне» журфиксы по средам. В начале это были скромные собрания друзей и близких знакомых из литературного мира. Ивановы недавно переехали в Петроград из-за границы и завязывали литературные связи. Но как-то сразу сумели они создать вокруг себя особенную атмосферу и привлечь людей самых различных душевных складов и направлений. Это была атмосфера особенной интимности, сгущенная, но совершенно лишенная духа сектантства и исключительности. Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения. Много талантливой энергии тратили они на людей, много внимания уделяли каждому человеку, заинтересовывались каждым в отдельности и заинтересовывали каждого собой, вводили в свою атмосферу, вокруг своих исканий. Сразу же выяснилось, В. И. Иванов не только поэт, но и широкий ученый, мыслитель, мистически настроенный, человек очень широких и разнообразных интересов. Всегда поражала меня в Вяч. Иванове эта необыкновенная способность с каждым говорить на те темы, которые его более всего интересуют – с ученым о его науке, с художником о живописи, с музыкантом о музыке, с актером о театре, с общественным деятелем об общественных вопросах. Но это было не только приспособление к людям, не только гибкость и пластичность, не только светскость, которая в В. Иванове поистине изумительна – это был дар незаметно вводить каждого в атмосферу своих интересов, своих тем, своих поэтических или мистических переживаний через путь, которым каждый идет в жизни. В. Иванов никогда не обострял никаких разногласий, не вел резких споров, он всегда искал сближений и соединений разных людей и разных направлений, – любил вырабатывать общие платформы. Он мастерски ставил вопросы, провоцировал у разных людей идейные и интимные признания. Всегда было желание у В. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозион, всегда призывал он Эрос. «Соборность» – излюбленный его лозунг. Все эти свойства очень благоприятны для образования центра, духовной лаборатории, в которой сталкивались и формировались разные идейные и литературные течения. И скоро журфиксы по средам превратились в известные всему Петрограду, и даже не одному Петрограду, «Ивановские среды», о которых слагались целые легенды. Все увеличивалось число лиц, посещавших среды, и беседы становились планомерными, с председателем, с определенными темами.
Н. Бердяев. Ивановские среды
Начинались среды обычно чем-то вроде ученого диспута. Спорили и говорили парадоксы. При этом по какому-то молчаливому соглашению никогда о книгах. Начитанность должна была быть превзойдена и оставлена дома. Только от себя надо было высказываться, не разводя публицистику, а поднявшись над переживаемой минутой; если удастся, то пусть в аспекте вечности. Тут выступали гости не поэты: профессора Ростовцев[46]46
М. И. Ростовцев – историк-эллинист.
[Закрыть], реже Зелинский, высоко ценившие Вячеслава Иванова как эллинисты, и другие, случайные, часто из любопытства добивавшиеся приглашения в это святилище; чаще других бывал Луначарский. Слушал эти споры, молчаливо сидя в стороне, заколдованный своей еще не высказанной мудростью, Федор Сологуб. А сам хозяин, прохаживаясь по комнате, прежде всего всех примирял и досказывал мысли, угадывая все ценное, что кто-либо сказал, и уже этим самым любезно, но уверенно поучая.
Ему, однако, редко удавалось договорить какое-либо свое сложное, ученое и возвышенное прозрение.
Врывалась всегда облеченная в античные разноцветные хитоны, подобранные ей Сомовым, Лидия Дмитриевна и объявляла, что довольно умничать, поэты хотят читать свои стихи. Они уже шумели и шалили в соседней комнате, потому что все они были тогда еще юны и веселы, а быть мальчиком, шутить, радоваться всему, что бодрого дает жизнь, полагалось. Ведь прозвучали уже в этом смысле стихи о солнечности Бальмонта. И споры сразу обрывались. Стихи, стихи! Как им было не загореться в этом поэтическом доме.
Гурьбой входили поэты, их бывало много… Весь Петроград, блестевший огнями там, внизу, за Таврическим садом, будто слушал то, что читалось «на башне». Слушал, потому что прислушивался тогда к поэтическим событиям, а на «башне» они чередовались неугомонно, не переставая и никогда не спускаясь до какой бы то ни было, даже самой новомодной рутины. Оттого, когда в одну и ту же ночь Александр Блок прочел на башне «Незнакомку», а Сергей Городецкий свои стихи об Удрасе и Барыбе, вошедшие в его лучший первый сборник «Ярь», в эту среду русская поэзия обогатилась двумя новыми и не дальше как через две недели всем литературным миром признанными поэтами, признанными, хотя, конечно, непонятными и высмеиваемыми за свои странные новшества.
Е. Аничков
Душой, психеей «Ивановских сред» была Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало все наше общение, все наши разговоры. Л. Д. Зиновьева-Аннибал была совсем иной натурой, чем Вяч. Иванов, более дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной, вечно толкающей вперед и ввысь. Такая женская стихия в соединении с утонченным академизмом Вяч. Иванова, слишком много принимающего и совмещающего в себе, с трудом уловимого в своей единственной и последней вере, образовывала талантливую, поэтически претворенную атмосферу общения, никому и ничего из себя не извергавшую и не отталкивавшую. Три года продолжались эти «среды», отвечая назревшей культурной потребности, все расширялись и претерпели разные изменения. Я, кажется, не пропустил ни одной «среды» и был несменяемым председателем на всех происходивших собеседованиях.
Н. Бердяев
Быт жизни «башни» – незабываемый, единственный быт… внутри круглого выступа – находилась квартира, – на пятом, как помнится, этаже; по мере увеличения количества обитателей стены проламывались, квартира соединялась со смежными: и под конец, как мне помнится, состояла она из трех слитых квартир или путаницы комнатушек и комнат, соединенных между собой переходами, коридоришками и передними; были – квадратные комнаты, треугольные комнаты, овальные чуть ли не комнаты, уставленные креслами, стульями, диванами, то прихотливо разными, то вовсе простыми; мне помнится: коврики и ковры заглушали шаги; выдавалися: полочки с книгами, с книжицами, даже с книжищами, вперемежку с предметами самого разнообразного свойства; казалося: попади в эту «башню», – забудешь, в какой ты стране и в какой ты эпохе; столетия, годы, недели, часы – все сместится; и день будет ночью, и ночь будет днем; так и жили на «башне»: отчетливого представления времени не было здесь; знаменитые «среды» Иванова были не «средами», а «четвергами»; да, да: посетители собирались не ранее 12 часов ночи; и, стало быть: – собирались в «четверг»…
А. Белый
Квартира до такой степени в знаменитые «среды» заполнялась литературным и иным народом, что присутствующие сидели на полу, очищая небольшой круг для тех, кто хотел говорить на общественно-философские темы или читать свои произведения. Здесь с бесконечным снисхождением и радушием встречали и пестовали всех, кто, нося в себе искру таланта, приходил сюда за советом. И редкие, я думаю, уходили отсюда душевно неудовлетворенными. С каждым годом, несмотря на смерть Лидии Дмитриевны, квартира все расширялась и, в конце концов, в ней было не меньше 8 комнат. Некоторые из посторонних, как, например, М. А. Кузьмин, жили здесь годами на положении оседлых жильцов. Другие, наездами, гостили здесь по целым неделям и месяцам. Гости ежедневные здесь почти не переводились. Ночи здесь постепенно превращались в дни, а дни – в ночи. Обедали здесь нередко в 9 час. вечера, ужинали в 2 ночи, а расходились в б утра. Как сводились «материальные» концы с концами, при минимальном заработке всех, мне непонятно… Умолкал рояль, стихали голоса, гасился свет и отдергивались темные тяжелые занавески. Открывались окна, и рассветный ветер, внося изначальную свежесть, пробуждал какие-то сладкие и молодые воспоминания о непосредственной когда-то близости к праматери-земле. В Таврическом саду начинали перекликаться птицы, и в своеобразных комнатах постепенно оживали: старинная мебель, привезенная с Запада, небольшая статуя Геркулеса с малюткой Дионисом на руках, виды афинского акрополя и Парфенона, гравюры Пиранези и боги и герои Эллады по стенам… Так продолжалось до весны 1912 г., когда все оборвалось и кончилось.
В. Н. Княжнин
В период «Снежной Маски» среды сыграли для Блока большую роль… Большая мансарда с узким окном прямо в звезды. Свечи в канделябрах. Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал в хитоне. И вся литература, сгруппировавшаяся около «Нового Пути», переходившего в «Вопросы Жизни». Собирались поздно. После двенадцати Вячеслав и Аничков или еще кто-нибудь делали сообщение на темы мистического анархизма, соборного индивидуализма, страдающего бога эллинской религии, соборного театра, Христа и Антихриста и т. д. Спорили бурно и долго. Блестящий подбор сил гарантировал каждой теме многоцветное освещение – не лучами одного и того же волшебного фонаря мистики. Маленький Столпнер[47]47
Б. Г. Столпнер – философ-марксист.
[Закрыть] возражал язвительно и умно, но один в поле не воин. Надо отдать справедливость, что много в этих средах было будоражащего мысль, захватывающего и волнующего, но, к сожалению, в одном только направлении. После диспута, к утру, начиналось чтение стихов. Это происходило превосходно. Возбужденность мозга, хотя своеобразный, но все же исключительно высокий интеллект аудитории создавали нужное настроение. Много прекрасных вещей, вошедших в литературу, прозвучали там впервые. Оттуда пошла и «Незнакомка» Блока. В своем длинном сюртуке, с изысканно-небрежно повязанным мягким галстуком, в нимбе пепельно-золотых волос, он был романтически прекрасен тогда, в шестом-седьмом году. Он медленно выходил к столику со свечами, обводил всех каменными глазами и сам окаменевал, пока тишина не достигала беззвучия. И давал голос, мучительно-хорошо держа строфу и чуть замедляя темп на рифмах. Он завораживал своим чтением, и, когда кончал стихотворение, не меняя голоса, внезапно, всегда казалось, что слишком рано кончилось наслаждение и нужно было еще слышать. Под настойчивыми требованиями он иногда повторял стихи. Все были влюблены в него, но вместе с обожанием точили яд разложения на него.
С. Городецкий
«Снежная Маска» имела особый успех на вечерах Вячеслава Иванова… Высоко образованный, талантливый, вкрадчиво любезный хозяин авторитетно руководил направлением башенных сборищ. Тут царила «богема», часто безвкусная в своей бесшабашности. Но здесь же читались новые произведения, шли утонченные беседы, здесь Блок прочел свою «Снежную Маску» в присутствии той, которой она была посвящена.
М. А. Бекетова
БОГ В ЛУПАНАРЕ
Александру Блоку
Я видел: мрамор Праксителя
Дыханьем Вакховым ожил,
И ядом огненного хмеля
Налилась сеть бескровных жил.
И взор бесцветный обезумел
Очей божественно-пустых;
И бога демон надоумел
Сойти на стогна с плит святых —
И по тропам бродяг и пьяниц
Вступить единым из гостей
В притон, где слышны гик и танец
И стук бросаемых костей, —
И в микве смрадной ясно видеть,
И, лик узнав, что в ликах скрыт,
Внезапным холодом обидеть
Нагих блудниц воскресший стыд, —
И, флейту вдруг к устам приблизив,
Воспоминаньем чаровать —
И, к долу горнее принизив,
За непонятным узывать.
Вяч. Иванов
На «Ивановских средах»… преобладал тон и стиль мистический. Сразу же создалась атмосфера, в которой очень легко говорилось. В постановке тем и в характере, который приняло их обсуждение, быть может, не хватало жизненной остроты, и никто не думал, что речь идет о самых жизненных его интересах. Но образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории. Многое зарождалось и выявлялось в атмосфере этих собеседований. Мистический анархизм, мистический реализм, символизм, оккультизм, неохристианство, – все эти течения обозначались на средах, имели своих представителей. Темы, связанные с этими течениями, всегда ставились на обсуждение. Но ошибочно было бы смотреть на среды как на религиозно-философские собрания. Это не было местом религиозных исканий. Это была сфера культуры, литературы, но с уклоном к предельному. Мистические и религиозные темы ставились скорее как темы культурные, литературные – чем жизненные. Многие подходили к религиозным темам со стороны историко-культурной, эстетической, археологической. Мистика была новью для русских культурных людей, и в подходе к ней чувствовался недостаток опыта и знания, слишком литературное к ней отношение. То было время духовного кризиса и идейного перелома в русском обществе, в наиболее культурном его слое. На «среды» ходили люди, которые группировались вокруг журналов нового направления: «Мира Искусства», «Нового Пути», «Вопросов Жизни», «Весов». Повышался уровень нашей эстетической культуры, загоралось сознание огромного значения искусства для русского возрождения. И как-то сразу же русское литературно-художественное движение соприкоснулось с движением религиозно-философским. В лице Вяч. Иванова оба течения были слиты в одном образе, и это соприкосновение разных сторон русской духовной жизни все время чувствовалось на «средах». Но ничего не было узко кружкового, сектантского. В беседах находили себе места и люди другого духа, позитивисты, любившие поэзию, марксисты со вкусами к литературе. Вспоминаю беседу об Эросе – одну из центральных тем «сред». Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди как сам хозяин Вяч. Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный проф. Ф. Ф. Зелинский и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов. Но господствовали символисты и философы религиозного направления. Нередко «среды» были посвящены поэзии, и многие молодые поэты впервые читали там свои стихи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































