Текст книги "Из смерти в жизнь"
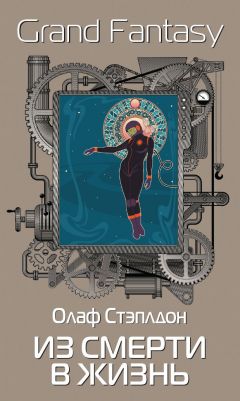
Автор книги: Олаф Стэплдон
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Спустя мгновение или вечность тот, кто был кормовым стрелком самолета с мотыльком, очнулся от беспамятства. И проснулся словно бы новым существом.
Он снова подхватил нить размышлений, однако теперь весь настрой его существа переменился, словно освеженный сном. Он улыбался, вспоминая последнее отчаяние, сознавая слабость человеческого рассудка. Мог ли двуногий зверь, прямоходящий червь, предсказать суть вечности? А если бы последний миг предварял окончательную и вечную смерть, не было бы и это благом? Что может быть лучше сна, когда все дела окончены? И, как бы то ни было, важно ли это? Глупо оплакивать столь отдаленную и столь сомнительную катастрофу!
Он снова взялся перебирать пестрые четки прожитых дней и ночей. Конечно, в них насчитывалось немного достижений. Но он рассматривал их теперь без досады, без обиды и самообвинений. Как будто спала с плеч тяжкая ноша, словно самолет сбросил груз и летел свободно. Жалость осталась, но не жалость к себе. Перебирая пальцами четки дней, он говорил себе: «Бедный мальчик. Как он был жаден до радости, как неумело использовал мир и самого себя. Каким бесчувственным был ко всему, кроме мелких желаний и боли. Нет, не я! Я никогда не был этим несчастным лунатиком».
И все же, нащупывая все новые бусинки времени, пристальней вглядываясь в эти прозрачные шарики, он видел, что были в жизни кормового стрелка моменты, о которых он без колебаний объявил бы: «Вот теперь да, это истинно я. Здесь, здесь и здесь я, настоящий я пробудился в глубине сердца спящего, и я, я на время взял власть в свои руки».
Он видел школьника, потрясенного вдруг новым взглядом на отверженного одноклассника и горячо защищающего его словом, кулаками и сердцем. И когда он с трепетом приветствовал божество в знакомой школьнице, его поклонение, пусть ребяческое, пусть загрязненное самодовольством, было по сути бескорыстным. Отзываясь на ее незнакомую сладость, он по-детски чтил в ней бога. Поклонение другому существу, жажда отдать себя ради другого, смутная тоска по неуловимому, изысканному единству возрожденного «мы». И еще были минуты, когда деревья, цветы, облака открывали ему странные окна. И порой на прогулке какая-нибудь математическая формула вдруг трогала его лаконичной простотой и широтой смысла. Порой и музыка высекала в нем искру непостижимого трепета. И, в конце концов, разве он не отдал себя целиком жизни экипажа, службе делу, которое он смутно понимал, но тем не менее признавал своим долгом? За это дело он, боявшийся смерти, как ребенок боится темноты, и умер.
«Да, – подтверждало пробудившееся в кормовом стрелке существо, – в эти минуты то был действительно я, именно я видел, ощущал, говорил, действовал». И, всматриваясь в тускло светящуюся сердцевину каждого дня, он узнавал всюду отблески света, который мог признать своим, хотя и заслоненные тупостью бедного лунатика. «Пусть он был не я, – размышлял пробудившийся, – но каждый день, каждую ночь я шевелился в сонном темном лоне его существа».
«А я? – гадал он. – Кто есть я? Что я на самом деле? Существо, породившее меня, существо, молившее о бессмертии, исчезло без следа. Ему нет места в моем будущем, я же, освобожденный его смертью, отрезан и от пищи, которую давала мне его прервавшаяся жизнь. Но я живу. Пуповина перерезана, но первый вдох в новом мире еще не сделан. Если не кончится это темное одиночество, я тоже скоро исчезну от простого отсутствия переживаний. О, где мир, где небеса, в которых я мог бы наконец исполнить все, что обещает моя природа? Где столкновения и согласие, где творческое взаимодействие с мне подобными, с кем я мог бы подняться к новым богатствам, к новым прозрениям?»
ЭкипажРазмышляя так, он вдруг осознал, что его окружает целый мир. А он, поглощенный внутренней драмой, не замечал его. Теперь же он увидел, что все это время парил в небе над горящим городом. Он был центром прозрачной сферы. Тело больше не загораживало ему обзора во все стороны. Под ним лежали огненные соты, над ним поднимались клубы дыма и пробивались иногда луна и редкие звезды. Со всех сторон он видел столбы света и взрывы огненных солнц. А внизу смутно расплывалось облачко, оставленное недавним взрывом бомбардировщика. Вот близкий разрыв погрузил его в свет и звук, но боли не было. А потом и самолет с ревом прошел через ту самую точку, из которой он смотрел.
Но его внимание снова отклонилось от физического мира, когда он ощутил мысленное присутствие шести убитых товарищей.
Все прошлые жизни были обнажены, выложены напоказ всем семерым. Как будто все семеро собрались для обзора своих прошлых жизней из последнего мига смерти: как будто все вместе заглядывали в семь светящихся тоннелей своих биографий. Все были смущены самыми интимными переживаниями других. Потому что, хотя все избавились от смертной природы, они не были еще вполне подготовлены к душевным прозрениям. Каждого еще сковывали невежество и предрассудки прошлой жизни. И привычное товарищество, и самопожертвование ради команды подвергалось сейчас новым испытаниям. Ведь каждый прежде, исполняя свои обязанности в общей жизни, хранил в себе внутреннюю святыню, недоступную вторжениям. Теперь же в одно мгновение всех швырнули друг другу в души. Открылось то, чего стыдились, что скрывали. Вспыхнули конфликты, которые сдерживали прежде ради общего дела, но которые тлели под спудом.
Пилот всегда втайне презирал кормового стрелка за его выговор, а стрелок злился на самоуверенность пилота. Преданность команде удерживала их от взаимных уколов, но теперь каждый с ужасом и зарождающейся ненавистью видел эту невысказанную, но нескрываемую враждебность. Застенчивость штурмана, заставлявшая его всегда последним проходить в дверь, оказалась плодом тайных обид и зависти. Заикание бомбометателя – повод для добродушных подначек и тайного презрения – открыло свои корни, заставившие всех в отвращении отвернуться.
Был среди семерых один: механик, новичок, в воздухе – один из команды, связанный нитями единства, но вне службы отделенного от команды грубостью речи и манер, непроницаемой замкнутостью. Теперь он предстал перед шестью остальными чуть ли не варваром из чуждого племени, созданием иного мира, неведомого шестерым. Они, выросшие на лужайках пригородных вилл, в хороших школах, чувствовали себя полноценными членами общества. Они видели в полисмене если не слугу, то хотя бы необходимого защитника упорядоченной, спокойной жизни. А тот, вскормленный рабочим поселком на севере, где заводы в последнее время почти встали, где голод, болезни и социальное бессилие составляли общую судьбу, видел во всех общественных структурах средство, которым богатые удерживают бедных в покорности. Каждый полицейский был для него врагом. Заглядывая в начало своих дней и ночей, этот седьмой, и остальные шестеро вместе с ним, видели грязного оборвыша, играющего в канаве с разбитой бутылкой, в то время как детство остальных проходило на зеленой травке. Они видели мальчика в переполненном классе, открывающего свою природную силу и непрерывно подрывающего ее мятежом и следующими за ним наказаниями. Они видели юношу без работы, в стальном капкане тщетных поисков места, слушающего гневные речи на уличных митингах и в обшарпанных залах, впитывающего революционные идеи и тоже заводящего понемногу серьезные подрывные разговоры или задирающего полицейских. Кроме этой безнадежной жизни они видели разгорающуюся с каждым днем страсть – страсть иконоборца и революционера. Они были потрясены, потому что, при всем их цинизме светских людей, они никогда не подвергали сомнению основы общественного устройства, и им представлялось, что эта страсть произрастает лишь из гордыни и зависти.
А молодой революционер недоумевал, заглядывая в жизни этих сыновей бизнесменов, клерков, ассистентов и инженеров. Их родители, все до одного, были вынуждены сражаться против бесчисленных конкурентов, отчаянно искать опоры на крутом склоне, подъем по которому вел к высокому положению в обществе, а спуск – к нищете. Однако эти отцы и их сыновья, редко знававшие свободу и довольство, винили во всем исключительно свое невезение, или состояние экономики, или козни большевиков, или евреев, или неискоренимое зло в человеческих сердцах. Им в голову не приходило связать свои беды с глубинной болезнью общества, с тем, что они – бедные зараженные клетки общественного организма. А седьмой член команды, механик, видел их именно такими, и единственную надежду для каждого человека находил только в понимании великих общественных процессов, порождавших все это смятение и нищету. А понимание неизбежно должно было привести их к действию.
Все семеро были охвачены отвращением и протестом, длившихся для них целую жизнь, полную болезненных уроков, но в физическом времени все это заняло один миг. Понемногу – хотя и мгновенно – ошеломление и ужас принесли в души экипажа нечто новое. Для каждого из них, прошедших те же странные преобразования, что и кормовой стрелок, пришла пора учиться. Они уже не были просто погибшими мальчиками. Они были тем, что нечувствительно родилось из этих погибших и пробудилось к ясному сознанию с уничтожением смертных тел. И потому, преодолев первое отвращение, они потянулись друг к другу, приветствуя чужую личность с уважением и ища взаимопонимания. Пилот и кормовой стрелок со смехом простили друг друга. Мания бомбометателя представилась остальным уже не дьявольской похотью, а шрамом, оставшимся от несчастного случая. Революционер уже не был изгоем, потому что шестеро увидели в своем презрении к нему аморальный снобизм, бездумное отвержение понятий чужого племени. Они напомнили себе, что этот «враг общества», движимый, казалось бы, чистой ненавистью, был также и надежным членом экипажа, отлично работавшим в связке и заслужившим у них особое, хотя не слишком душевное восхищение.
С жаждой справедливости прояснилось их зрение. Они видели школьника, корпевшего над домашними заданиями в голой комнате, где мать баюкала кричащего младенца. Видели, как его родители изо дня в день пытались скрыть взаимное раздражение под стершейся до мозолей добротой. Они видели, как сам паренек с каждым днем яснее понимал, что источник всех их бед – в бедности. И видели, как страдание и взаимопомощь помогали ему различить в некоторых одноклассниках и приятелях из уличной банды страсть к товариществу, нарастающую потребность отдать себя единому общему делу.
Они более осмысленно воспринимали досаду юноши на отсутствие работы и его вхождение в общественную жизнь радикальной партии, где он наконец нашел душевный покой, отдавая свою энергию революции. С любопытством, с усиливающимся интересом, а потом и с теплым согласием он наблюдали, как формировалась чтением и социальной активностью мысль молодого человека, как он целиком подчинил себя главной идее – представлению о человечестве как об общности, подающей большие надежды, но обокраденной на исполнение этих надежд.
Сквозь чужую страсть эти шестеро сами впервые ощутили силу человеческого единства. «Действительно, это во многом так, – сказали они, – хотя смертные мальчики, давшие нам бытие, ничего об этом не знали».
Но теперь они своим развившимся пониманием видели и то, что величественное видение классовых конфликтов и социальной эволюции, во многом верное и годное для дела, не достигает глубинной истины; что их товарищ, завороженный теорией, воспринимал мир слишком поверхностно. Огорчало их и то, что в служении революции тот нередко нарушал законы морали, принятые ими безусловно. Он, никогда не лгавший ради личной выгоды, часто лгал ради политической: лживо истолковывал факты, очернял личности оппонентов и слишком равнодушных друзей революции. В своем посмертном просветлении они хорошо понимали, как оправдывала такие проступки его революционная страсть, но их смущало, что такое поведение насиловало нечто святое: тот характер, образ жизни, универсальный дух, который все они, смутно задетые отзвуками древней религии, молчаливо и стыдливо признавали в некотором смысле божественным. Однако по совести они не могли обвинять товарища за его ошибки, если то и вправду были ошибки, потому что источником их было великодушное стремление освободить человечество от рабства. И шестеро стыдились теперь своей прошлой слепоты к бедам мира, к смыслу великих событий, среди которых протекали их жизни.
Седьмой, революционер, со своей стороны теперь полностью понимал личную реальность шестерых своих спутников и, осуждая многое в собственном прошлом, боялся, что в слепой преданности цели легко выбирая низкие средства, он часто вредил тому, без чего цель – истинная цель – не может быть достигнута.
Итак, бестелесные семеро, в прежней жизни едва ли уделявшие внимание глубоким проблемам, теперь озадаченно завязали философский диспут, если позволительно так назвать это странное непосредственное слияние разумов, которое быстро привело их к взаимному согласию.
Так, наконец, посредством взаимного проникновения, единство семерых восстановилось и стало глубже прежнего. Каждая из этих разрозненных душ, порожденная жизнью одного из семерых молодых англичан, обогатила своей уникальностью общность. И дружба их достигла вершины в разумной любви.
Но в финальном акте любви эти семеро как отдельные существа были обречены не только достичь полнейшего воплощения, но и найти свой конец. В том мистическом оплодотворении, когда каждый стал всеми, они объединились или, может быть, собрались в единый дух, в коем сохранилась живая личность каждого. Каждый в муках и ужасе, в затмевающем все на свете экстазе терзался муками смерти и рождения. И в общих родовых схватках, смертельных для семерых, рушившихся сейчас в ничто, появился на свет и встал на крыло единый новорожденный дух.
Новорожденный? Или вновь пробудившийся? Зачатый, быть может, много раньше, в активном товариществе семерых, но до сих пор дремавший и бессильный, а теперь наконец проснувшийся к свободе. Каков бы ни был метафизический смысл происшедшего, но семеро умирали сейчас в идентичное, более исполненное жизнью существо – не бывшее ни одним из них, но суммой всех, наследником семи жизней.
Дух экипажаСущество это, пробудившись, осознало себя поначалу лишь фрагментарным, эфемерным и устремленным к единственной цели духом экипажа одного из бомбардировщиков.
Странное дело – семеро растворились и слились в общем деле, которое, что ни говори, владело ими лишь поверхностно. Каждый прожил большую часть жизни вне команды. Только последний год, последние несколько месяцев, свели их вместе. Возможно, все они, а некоторые наверняка, имели связи куда более соответствовавшие их внутренней природе, чем молодая, угрюмая в своей простоте команда. И все же все они умерли в этот мощный дух. Как видно, так произошло оттого, что в миг смерти все были поглощены единым действием экипажа. Более того, лишь в команде они выучились полностью подчинять свою волю общей цели.
Но воистину скоро этот простой дух экипажа обнаружил в себе неведомые глубины и высоты. Размышляя над прошлыми жизнями семерых своих членов, он ощутил, что каким-то, еще смутным для него образом, он стал чем-то большим, нежели единство семерых мальчиков. Этот дух экипажа помнил семь тел как собственное семерное тело, хотя органы этого тела зачастую бунтовали против власти общего духа. Ведь каждый из семи его членов обладал собственной жизнью, разумом и волей, и душа каждого было много богаче этого прямолинейного командного духа. Лишь в воздухе они целиком подчинялись единой воле и фанатичной простоте экипажа. И даже в воздухе каждый оставался индивидуальным разумом, вынуждавшим себя к верности единой цели.
Теперь же он, возникший из семерых, чувствовал, что всегда присутствовал в каждом из них, одинаковый во всех, хотя большей частью неосознанный, скрытый в глубине, проявляясь только в тех случаях, когда команда действовала наиболее единодушно. Если единодушие было не столь полным, если некоторые члены экипажа стремились в бой, а другие чурались его, то сам он (так теперь ему представлялось) побуждал слабодушных к отваге, как человек иной раз побуждает усталые мышцы к отчаянному рывку.
Оглядываясь назад, он видел частью своего тела не только этих семерых, но и заключавшую их в себе машину. Ведь отточенные чувства семерых и их инструменты, их мышцы и их рычаги управления давали ему сложное, биомеханическое бытие. Как человек, ведущий машину, иногда шинами ощущает дорожные ухабы, напрягающимся мотором – крутизну склона, так он ощущал через семь тел, и через крылья, и элероны, и напряжение мотора самую текстуру атмосферы, подъемы и повороты летающей машины. И, как человеческая воля правит машиной, так он посредством семи умов, служивших лишь органами его собственного разума, правил и вел в бой самолет. Глядя в прошлое, он видел себя с самого основания команды как единую волю, направленную на точно исполненный полет, оборону, атаку и возвращение. В прошлом он лишь смутно, почти неосязаемо участвовал в личной жизни экипажа вне полета, вне общей жизни команды. Он знал мальчиков лишь постольку, поскольку они знали друг друга. Ныне же в их смерти и взаимном прозрении он приобрел весь их опыт.
При жизни каждый из них был отдельным мальчиком, временно одержимым единством экипажа. Более того, каждый из них был членом и иных общностей. Каждый был связан с семьей, школой, спортивной командой, рабочей бригадой и иными бесчисленными, но менее прочными группами. Оглядываясь на прошлые жизни семерых, дух экипажа говорил себе, что до того, как они сошлись вместе, он не участвовал ни в одной из их жизней. Казалось, в те дни (хотя ему почему-то в это не верилось) он вообще нигде не существовал. И даже потом, во времена экипажа, одним из его драгоценных членов порой завладевала забота о себе или иной группе, не связанной с экипажем. В самом деле, молодой революционер, хоть и был самым дисциплинированным из них, оставался самым чуждым экипажу, ведь душа его была отдана иной, высшей цели.
– Но я, кто же я? – вопрошал дух команды. – Действительно ли я – не более как эфемерная общность семерых, чьи жизни проникли в меня и в чьей смерти я себя обнаружил? И какое будущее лежит передо мной, да и есть ли оно у меня? В каком мире могу я действовать, чтобы выразить свою природу полнее, чем мог проявить ее каждый из семерых?
Чем более этот простой дух экипажа размышлял над жизнями семерых, тем более поглощали его семь их индивидуальностей. Его природа делалась глубже, обогащенная семью отдельными существами.
Далее, ему казалось, что хотя его связь с миром ограничена опытом семерых его членов, но он некоторым образом был много большим, чем сумма семерых. Хотя все они были как бы его родителями, но ему упорно представлялось, что всю их жизнь, начавшуюся много раньше формирования экипажа, он присутствовал в каждом, питаясь разнообразием опыта этих молодых человеческих существ и будучи единым в каждом. Но до самой их смерти он существовал как во сне.
Нет, больше того. Ему чудилось, что он пребывал не только в этих семерых, но и во всех, кого те когда-либо знали: в их любимых, друзьях, коллегах, врагах жил дух, который, если бы до него дотянуться, оказался бы им же или если не им самим, то еще более просветленным духом, который странным образом ютился в нем, как и во всех остальных.
Пристально обдумывая эти семь жизней, оценивая их неуклюжее общение с другими смертными и миром, то существо, что родилось из мощного единства действия, теперь ощущало себя куда старше каждого из семерых: быть может, древним, если не вечным, – и прозревало в себе бездонные глубины и сложности. Им овладевала смутная, но страстная тоска по более полному, более светлому «я», по деятельному общению с миром. Как спящий порой отчаянно и тщетно рвется из сна к пробуждению, а члены его между тем бессильны, глаза закрыты, и ум словно под тяжелой массой воды, так это существо стремилось к бодрствованию, где могло бы сталь собой настоящим и приветствовать незнакомый мир, великую реальность вне его существа.
Общество убитыхДух того экипажа, в котором недавно метался пойманный мотылек, вдруг заметил небо с луной в облаках и горящий город далеко внизу. Сирены выли, объявляя о неспокойном, недолговечном мире.
Он осознал рядом полчища существ, таких же бестелесных, как он сам. Словно бы вавилонское смешение голосов оглушило его: в действительности же то был рой духов, возникавших и исчезавших, звуча прямо в его сознании дикими диссонансами и сладкими созвучиями.
Преодолев потрясение, он обнаружил, что эти сущности, контакт с которыми так ошеломил его, были души, пробудившиеся в последний миг всех, убитых в этом бою, как на земле, так и в воздухе. Эти духи вырвались из отдельных убитых, не бывших в момент смерти глубоко поглощенными единой жизнью группы: духи, отдельных летчиков, стрелков, солдат, артиллеристов, горожан. Были здесь и составные духи, пробудившиеся при внезапной гибели тесно сплоченных экипажей самолетов и бригад противовоздушной обороны.
Новое переживание оказалось болезненным для духа команды с мотыльком. Смятение и конфликты всех этих существ глубоко проникали в его личность. Силы притяжения и отталкивания то и дело пробуждали и влекли прочь одного из членов экипажа, казалось бы, так надежно интегрированного в его суть. Да и все общество духов было странным бурливым потоком, испещренным узором индивидуальностей и единения. Индивидуальности сливались друг с другом или разрывали связь, стремясь к новому единству, которое могло стать более разделенным или утонуть в большей общности.
Говорят, что электрон внутри атома вовсе не имеет индивидуальности. Он – просто фактор существования целого атома. Так и эти бестелесные духи растворялись в составных сущностях. Однако электрон способен вернуть себе индивидуальность и вырваться из атома на свободу, быть может, чтобы соединиться с другим атомом и вновь умереть как личность в новой общности. Кроме того, электрон может связать атомы воедино в большее целое. Так и с этими духами.
Например, революционер из экипажа, погибшего вместе с мотыльком, теперь вновь пробудился как личность под влиянием родственных ему душ. Однако он так прочно влился в единый экипаж, что, не думая вырываться прочь, он стал связью, соединившей семерной дух экипажа со всеми убитыми, желавшими нового мира.
Личности и общности в среде убитых кишели, как пузырьки в кипящей воде, возникая, пропадая, сливаясь и разделяясь, или же как непостоянный узор морщинок на пенке поставленного на огонь молока.
Но среди этих убитых была по меньшей мере одна личность, более тонкая, чем остальные, и с особенной судьбой. Она, как и все, выстрадала уничтожение прежнего «я», но дух ее, будучи в земном существовании не слишком ослепленным плотскими заботами, пробудившись в смерти, мог бы легко и быстро пройти все странные формы бытия, через которые с таким трудом пробивались другие.
То была городская святая. Рожденная в роскоши и от рождения наделенная искренностью, воспитанная в высшем духе старой религии, она рано взломала безмятежную позолоченную жизнь своего класса. Она искала дружбы с бедняками. Долгие годы те отвергали ее, но под конец ее служение и упорство завоевало их сердца. Когда город подпал под власть тирании, она со скромной отвагой, со всей твердостью цельного характера, защищала гонимых и спасала преследуемых.
Она охотно открывалась в дружбе и служении, но источник ее внутреннего тепла и силы крылся во внутренней созерцательной жизни. Она восхваляла дух во всех формах, в каких он открывался ей: в полях и в лесах, в небе и человеческом милосердии, в значении человеческого слова, но, превыше всего, в людской любви. Не для нее были тонкости теологии и скептицизма. Ей выпало понимание божественности любви, высокий и крутой путь.
Когда смерть уничтожила ее, выпестованный добродетельной жизнью дух, пробудившись в умирании, взмыл на сильных крыльях, казалось ей, к чистому единению с тем самым Богом, которого она восхваляла всю жизнь. Но об истинной и окончательной ее судьбе здесь пока говорить неуместно.
Та святая, одна среди всех погибших, ринулась прямо к блаженству – или не она сама, но то существо, которое пробудилось с ее смертью и вырвалось на свободу. Немногие из других: летчики, горожане и артиллеристы, быстро собирались в некие церкви или партии, в группы по убеждениям и страстям. Большинство же надолго осталось метаться среди подобных им мертвецов.
Это слияние и единение душ всегда было болезненным. Хотя некая глубинная общность воли всегда влекла души к союзу, едва они сходились в полной и безраздельной интимности, внезапное отвращение снова разделяло их.
Весь опыт прошлой жизни мучительно втискивался в другие души, так что поначалу единственным желанием каждой было избежать нестерпимой тяжести противоречивых мнений и желаний. Ведь среди убитых были молодые и старики, мужчины и женщины, властные и покорные, простые и умудренные, богатые и бедные, мерзавцы, герои и святые. В конечном счете здесь были налетчики и враги, бомбардировщики и горожане.
Мало того что противники с обеих сторон теперь мучительно изливали друг в друга свои сознания и проникали в разум врага, что самые священные для них ценности словно рвали на части прямо в святыне их душ; хуже того, некоторые из сражавшихся на одной стороне с ужасом открывали теперь в соратниках чуждые побуждения и идеалы. Потому что глубже раскола, созданного войной, была рознь между теми, кто присягнул самой сути духа – разуму, любви и творчеству, и теми, чьи сердца втайне было отданы личной или племенной власти или тысячам иных фантомов, увлекающих человека. По обе стороны множество простых душ были слепо, но искренне преданны свету, и по обе стороны были такие, кто повенчался с тьмой. А в городе миазмы племенных догматов поразили жестокой слепотой даже тех, кто ратовал за дух.
Казалось, у всей этой толпы исторгнутых убитыми душ общим было только одно: все они были порождены жизнями, прерванными насильственно. Лишь жестокая безвременная смерть свела их вместе.
Но, поскольку все эти существа, отягощенные невежеством и предрассудками своих моральных предков, были духами светлой натуры, общая трагедия прерванных жизней послужила им ступенью к взаимному прозрению. Мало-помалу за срок, представлявшийся тем душам целой жизнью преодоления, хотя в физическом времени еще не кончилась короткая атака бомбардировщиков, духи наконец победили противоречия. Все как будто распознали под множеством своих ошибок общую для всех истину. Конфликты все еще смущали их, но лишь так, как смущают различия связанных доверием друзей, и они жадно стремились к взаимному пониманию.
И вот они воскликнули хором: «Если бы те несчастные смертные, что породили нас, могли заглянуть в сердца и умы друг друга, как мы теперь, меньше было бы схваток на земле и чаще встречалось бы счастье. Но мы, владея всем наследием общего опыта, можем вместе создать истинное товарищество духов, и каждый из нас в этом союзе может перейти в более привольное и богатое существо.
Но, едва достигнув восторга взаимопонимания, все ощутили, как ускользает от них сознание. Ведь в единении они как личности обрекли себя на уничтожение. Вместе они стали родителями или, быть может, скорее повитухами единого существа. Каждый из этого сборища погиб окончательно, но опыт их собрался в единый плодотворный дух, в котором индивидуальные сознания не нашли себе места.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































