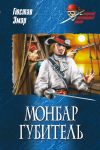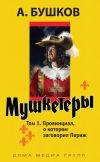Читать книгу "Бесы Лудена"

Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Иезуиты, задействованные в нашей странной драме, определенно отличались от добрых патеров из «Писем к провинциалу». С политикой они связаны не были, контактов с «миром» и «мирянами» не имели. Жизнь вели аскетичную до героизма, граничащего с безумием – и тот же аскетизм внушали своим сторонникам и последователям, которые, в подражание патерам, стремились к христианскому совершенству. В учебном заведении иезуитского мистицизма все были мистиками – но среди прочих выделялся отец Альварес (он же – Хуан де ла Крус), наставник святой Терезы Авильской. Альварес подвергся гонениям за медитации, которые он практиковал и которым учил – по мнению одного из генералов ордена, они противоречили духовным упражнениям Игнатия де Лойолы. Впрочем, Альвареса оправдал Аквавива, будущий генерал ордена; этим деянием он определил то, что можно назвать официальными взглядами иезуитов на медитативную молитву. «Виновны те, кто, будучи незрелым и не готовым, отдается духовному созерцанию. Но не следует осуждать тех святых отцов, которые тяготеют к созерцанию, равно как не следует воспрещать сие нашей братии. Ибо опыт и влияние многих святых отцов показывают, что созерцание, производимое с искренностью и глубиной, куда сильнее способствует умалению гордыни, лучше воспламеняет вялые души к исполнению послушаний и труду во спасение, нежели все прочие способы свершать молитву». Таким образом, всю первую половину семнадцатого столетия членам ордена, которые являли признаки того, что мистическая жизнь – их призвание, дозволялось предаваться созерцанию; порой их даже поощряли, даром что в целом орден склонялся к активной деятельности. Позднее, уже когда был осужден Мигель де Молинос, в период яростных прений о квиетизме, пассивное созерцание стало восприниматься большинством иезуитов с подозрением.
В двух последних томах одиннадцатитомника «Литературная история религиозной мысли во Франции» Анри Бремон живописует, местами драматизируя, конфликт в ордене иезуитов между «аскетическим» большинством и приверженным созерцанию меньшинством. Алоис Поттье, серьезно занимавшийся историей иезуитов, в частности описавший жизнь Луи Лалемана и его последователей, подверг тезисы Бремона резкой критике. По мнению Алоиса Поттье, созерцательная молитва никогда не осуждалась официально, и ее широко практиковали в частном порядке даже в самые тяжелые дни антиквиетистского движения.
Однако в тридцатые годы семнадцатого века квиетизм еще не появился (до его зарождения оставалось около пятидесяти лет), и дебаты о созерцательной молитве не отравлял яд обвинений в ереси. Генералу ордена Муцио Вителески, да и его покровителям, проблема представлялась сугубо практической. Вправду ли лучшие иезуиты получаются из тех послушников, что практикуют созерцательную молитву? Или тут эффективнее молитва дискурсивная?
Отец Луи Лалеман, выдающийся иезуит – последователь созерцательной молитвы – с 1628 года занимал пост наставника в Руанском коллеже. В 1632-м проблемы со здоровьем вынудили Лалемана уйти. А Жан-Жозеф Сюрен был отправлен в Руанский коллеж осенью 1629 года вместе с двенадцатью или пятнадцатью другими молодыми священниками. До конца весны 1630-го они проходили свое «второе послушничество». В течение всего памятного семестра Сюрен ежедневно слушал лекции Лалемана и готовил себя, посредством молитвы и покаяния, к христианскому совершенству точно по заветам Лойолы.
Сюрен кратко изложил основы учения Лалемана; его однокашник, отец Риголек, вдался в подробности чуть сильнее, а уж отец Шэмпьон, из поздних иезуитов, переработал заметки этих двоих и издал их в самом конце семнадцатого века под названием «Духовная доктрина отца Луи Лалемана».
Ничего принципиально нового в этой доктрине не было. Да и откуда взяться новому? Цель – прежняя: жаждешь просветления для себя – познай сперва Бога. Как? Да все так же – почаще причащайся, точно исполняй иезуитские обеты послушания, систематически занимайся умерщвлением плоти, сам себя проверяй, будь «на страже сердца своего», размышляй о страстях Господних (ежедневно!), а если дозрел – молись и жди, что во время созерцательной молитвы сподобишься увидеть Господа. Итак, темы самые что ни на есть ортодоксальные, сиречь древние; зато Лалеман пропустил их через себя и подал совершенно по-новому. Доктрина от наставника и его учеников имеет собственную тональность, особый стиль, специфический аромат.
Акцент сделан на очищение сердца и абсолютную покорность Святому Духу. Иначе говоря, Лалеман учил, что на союз с Отцом можно надеяться лишь тому, кто трудами и верою достиг союза с Сыном, а чуткой пассивностью созерцания – союза со Святым Духом.
Очистить сердце можно поклонением Господу, регулярными причащениями и бдением души – то есть необходимо улавливать в себе малейшие намеки на чувственность, гордыню и себялюбие – и безжалостно их искоренять. Поговорить о чувствах верующего, о видениях и их отношении к просветленности у нас будет повод в следующей главе. Пока что наша тема – процесс умерщвления «человека естественного» – ибо он должен быть умерщвлен. Вывод из молитвы «Да приидет царствие Твое» следующий: «Наше царствие да сгинет». С этим, кажется, никто не спорил. А вот насчет способов уничтожить царствие человеков имелись разногласия. Следует ли завоевать его силой? Или лучше по-хорошему – обращением на путь истинный? Лалеман, сей ригорист, взирал на тотальную человеческую порочность по-августиниански, то есть не обольщался, будто в данной сфере что-то можно исправить. Как истинный иезуит, он ратовал за снисходительность к грешникам и тем, кто погряз в мирской суетности. Впрочем, тон Лалемана отличался безысходным пессимизмом; по отношению к себе и ко всем жаждущим совершенства Лалеман не допускал ни малейшего снисхождения. Им, как и ему самому, следовало умерщвлять, умерщвлять и еще раз умерщвлять плоть – буквально до тех пределов, за которыми настает реальная смерть. «Безусловно, – пишет Шэмпьон в краткой биографии отца Лалемана, – аскеза, принятая отцом Лалеманом, была не по силам его организму; близкие друзья признавали, что она, аскеза, изрядно сократила ему жизнь».
В данном контексте любопытно почитать, что думал о самобичевании современник Лалемана, Джон Донн – католик, принявший англиканство, и поэт, раскаявшийся и ставший проповедником и богословом. «Чужие кресты суть чужие, как и чужие достоинства. Кресты, кои взвалил я на себя без раздумий, сразу после того, как согрешил, – не мои; не стану я тащить и крестов в угоду моде на оные. Если уж так надлежит, пусть крест будет сугубо моим, пусть Господь сколотит его лично для меня за мои страсти, и пусть я мучусь под его тяжестью. Да не сверну с пути, не забреду в дебри в поисках креста, который не мне предназначен, не меня дожидается. Да не стану нарываться на травлю, не дам себя в обиду, не полезу в зачумленное место, не спровоцирую несправедливость к себе, да сумею защититься. Да не подвергну себя ненужному посту, не притронусь ни к плети, ни к розге с целью самоистязания. Но да приму свой личный крест из рук Господа – приму как неизбежное следствие моего призвания и моих страстей, как собственную мою горесть».
Взгляды, характерные не только для протестантства, – в разное время их высказывали выдающиеся святые и богословы от католичества. Что не мешало истязаниям плоти (порой ужасным) на протяжении веков оставаться обычной практикой римско-католической церкви. Тому есть две причины: одна – доктринальная, вторая – психофизиологическая. Для многих самоистязание являлось субститутом Чистилища, предлагало альтернативу: страдания сейчас взамен куда как худших страданий после телесной смерти. Но имелись и другие, менее вразумительные причины мучить собственную плоть. Кто имел целью просветление, тот рассматривал голод, недосыпание и физическую боль как стимуляторы (выражаясь на жаргоне фармацевтов); эти средства изменяют состояние пациента, делают его другим. Перебор с такими средствами означает, на физическом уровне, болезнь или даже, как в случае с Лалеманом, преждевременную смерть. Однако на пути к этому нежелательному финалу, или же когда физические страдания практикуются в разумных дозах, возможно расширение сознания – горизонтальное, а то и устремленное вверх. Известно: на голодающего в определенный момент нисходит ментальное просветление. Недостаток сна размывает границу между сознанием и подсознанием. Боль, если только она не слишком сильная, действует как тонический шок на организмы, погрязшие в удобном, размеренном существовании. Стало быть, для человека набожного подобные самонаказания и впрямь способны стимулировать процесс восходящей самотрансценденции. Правда, чаще они открывают доступ не к божественной Основе всего сущего, а затягивают человека в причудливый «психический» мир, расположенный, так сказать, между Основой и высшими, более личными уровнями подсознания и сознания. Проникшие туда обычно приобретают способности, которые наши предки называли «сверхъестественными» или «чудесными», мы же можем с полным правом заявить, что физические лишения и страдания прямиком ведут в оккультизм. Так вот, о «сверхъестественных» способностях: их, вкупе с психическим состоянием адепта, ошибочно принимают за духовное просветление. На самом же деле такая разновидность самотрансценденции – сугубо горизонтальна; вверх она не ведет. Однако, раз испытав это состояние, мужчины и женщины жаждут новых пыток – лишь бы мнимое «просветление» повторилось. Будучи богословами, Лалеман с последователями на этот счет не заблуждались: не приравнивали так называемые «особые дары» к союзу с Господом, вообще не видели связи между двумя феноменами. (Далее мы докажем, что в слишком многих случаях «особые дары» ничем не отличаются от «бесовских козней».) Впрочем, одно дело – понимать умом, и совсем другое – чувствовать; Лалеман, а пожалуй, и Сюрен весьма тяготели к физическим лишениям, от которых сподоблялись «особых даров»[33]33
Сюрен в одном из писем утверждает: «Утешение и сладость молитвы идут рука об руку с умерщвлением плоти». Читаем также: «Плоть ненаказанная, не страдавшая – не удостоится посещения ангелов. Чтобы заслужить Господнюю любовь, нужно либо страдать душевно, либо бичевать плоть свою». – Прим. авт.
[Закрыть], объясняли же они свое тяготение посредством ортодоксальных представлений: мол, «естественный человек» по сути своей грешен и дурен, надо любой ценой, любыми средствами его уничтожить.
Суровость Лалемана ко всему «естественному» была направлена как вовне, так и внутрь. Мир после Грехопадения представлялся Лалеману полным хитроумных ловушек. Любование всем сущим, любовь к красоте мирской, игра ума, многообразие жизни – все это способно запутать изучающего суть человеческую, внушить ему опасное заблуждение: будто суть человека – природа, а не Бог. Этак заблудший займется изучением природы, вместо того чтобы постигать Бога. Заметим: для иезуита проблема достижения христианского совершенства отличалась особой трудностью, ведь орден не принадлежал к изолированным сообществам, братия не могла себе позволить проводить жизнь в молитвах. Нет, орден был из числа активных, состоял сплошь из апостолов, которые все свои усилия направляли на спасение душ, на битву за Церковь. Представление Лалемана об идеальном иезуите сохранилось благодаря Сюрену, который записывал за своим наставником. Вот она, цель ордена Иисуса: «соединять противоположное – например, ученость и смирение, юность и целомудрие, милосердие ко всем племенам и народам». «Нам, – продолжает Сюрен, – следует сочетать глубокую любовь к божественному с научными изысканиями и прочими естественными занятиями. Ибо слишком легко впасть в крайность. К примеру, воспылать страстью к наукам в ущерб молитве и духовным практикам. Или, наоборот, жаждая духовного совершенства, не заниматься науками, не упражняться в красноречии, позабыть о благоразумии». Иезуитство тем и сильно, что «славит единение всего божественного и человеческого в Иисусе Христе и стремится ему подражать, обожествляя разом и душу, и телесные члены, и кровь… Но такой союз труден. Поэтому те наши братья, которым непонятно совершенство духа нашего, склонны цепляться за природное и мирское, отворачиваясь от сверхъестественного и божественного». Иезуит, не способный жить по духу ордена, становится этаким клише иезуита (подобные примеры во множестве сохранила история); то есть, в обывательском воображении, это человек порочный, амбициозный; это заговорщик и интриган. «Всякий, кому неведомо блаженство, даруемое внутренним миром, неизбежно впадет во грехи сии, ибо душе изголодавшейся и обделенной свойственно утолять голод любыми способами»[34]34
«Иезуиты пытались соединить Бога и мир, но добились лишь презрения обеих сторон» (Паскаль). – Прим. авт.
[Закрыть].
Для Лалемана жизнь совершенная – значит такая, в какой уравновешены деятельность и созерцание, финальность и бесконечность, время и вечность. Поистине, высочайший из идеалов, притом – достижимый, реалистичный, максимально согласный с данностями как человеческой, так и божественной природы. Однако при обсуждении практических проблем, неизбежных на пути к этому идеалу, Лалеман с последователями впадали в отупляющий ригоризм. «Природа», которую следует соединить с божественным, понималась ими не в широком смысле, но лишь как ограниченный сегмент в человеческом разуме, вроде способностей к учебе, проповедничеству, бизнесу или управлению. Все природное, но с человеком не связанное, Сюрен в своих конспектах опустил. Коснулся этих понятий лишь Риголек, который записывал за Лалеманом полнее и подробнее. Впрочем, и Риголек не уделил им достаточно внимания. А ведь Христос в Нагорной проповеди предлагал ученикам взглянуть на лилии – причем рассматривать их почти с точки зрения даосизма. То есть не как символы чего-то слишком присущего человеку, но как нечто совсем иное, однако благословенное; как создания независимые, живущие по своим законам и в согласии с Порядком Вещей. В Притчах сказано: «Пойди к муравью, о ленивец, посмотри на действия его»; однако Христа в лилиях восхищает вовсе не трудолюбие – они, как известно, не трудятся, не прядут, а все-таки даже богатейшему из царей иудейских с ними не сравниться. Примерно об этом писал Уолт Уитмен в стихотворении «Звери»:
Не трудятся в поте лица и не сетуют ни на что, нет;
Не знают бессонниц, не каются, пялясь во тьму;
Речей тошнотворных о долге пред Богом не держат.
Из них ни один ущемленным себя не сочтет,
ни один не объят
Стяжательством и накопительством, и ни один
Колен не клонит пред другим, ни пред жившими ране
На тысячи лет; знаменитых и ушлых средь них
Не сыщешь – на суше ли, в небе иль в море
возьмешься искать.
Лилии Христа очень далеки от цветов, которыми святой Франциск Сальский открывает главу об очищении души. Филотее он говорит, что цветы – это добрые намерения сердца. «Вступление» изобилует отсылками к природе – такой, какой она предстает у Плиния и авторов бестиариев; к той природе, что эмблематична для человека, да не простого, а ученого и высоконравственного. Зато «лилии полевые» наслаждаются славой, которая имеет нечто общее с девизом ордена Подвязки («Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает»). Вот в чем суть; вот почему для нас, человеческих существ, лилии полевые столь живительны, и вдобавок на уровне куда как более глубоком, чем простая мораль, являются столь удачным примером для подражания. Мастер Сосан, третий патриарх дзен-буддизма, говорит в «Великом Пути»:
Великий Путь прост для тех,
Кто отказался от предпочтений.
Где нет омерзения, где нет восхищения,
Там и кроется Путь.
Как всегда в реальной жизни, мы пребываем среди парадоксов и антиномий; мы вынуждены отдавать предпочтение хорошему, а не дурному. В то же время, если мы желаем союза с божественной Основой всего сущего, наша задача при выборе – забыть о сожалениях и корысти, не тащить во Вселенную собственные представления о пользе и морали.
Лалеман и Сюрен не касаются природы, не связанной с человеком; они проецируют человека на природу, ставят его неизмеримо выше, а роль природы сводят к полезности или бесполезности для человека – то есть их наставления полностью соответствуют месту и времени написания. Птицы, звери, цветы, пейзажи если и фигурируют во французской литературе семнадцатого века, то лишь в утилитарном или символическом смысле. Например, в «Тартюфе» находим одну-единственную строку, отсылающую к природе; да и то, строка малопоэтичная.
«Не процветает нынче сельская местность, ох не процветает!» С этим не поспоришь. Французская литература того периода (и по Великий век включительно) цветов в сельской местности не видела в упор, даром что они, по крайней мере, лилии полевые – наличествовали. Разумеется, имелись исключения – Теофиль де Вио, Тристан Отшельник и, позднее, Лафонтен; эти пусть редко, а все же писали о животных не как о человеках в шерсти или перьях, а как о существах иного, хоть и родственного человекам, порядка, которых следует рассматривать отдельно и любить хотя бы потому, что их любит Господь. Во вступлении к басне «Две крысы, яйцо и лиса» (каковое вступление посвящено мадам де ла Сабльер) Лафонтен спорит с философскими постулатами своего времени. Вот эти постулаты, вот этот блестящий пассаж:
…И каждое животное – машина,
В которой действует известная пружина,
В движение приведена.
Не таковы ль часы с заводом,
Идущие всегда одним и тем же ходом?
Откройте же ее, взгляните в глубину,
Пружину вы увидите одну,
Она ближайшую спешит привесть в движенье,
Пока не зазвонит известный механизм.
Таков, по мненью их, животных организм[35]35
Перевод О. Чюминой.
[Закрыть].
Перед нами – кратко изложенная одиозная картезианская доктрина – кстати, она недалеко ушла от традиционных католических представлений о том, что животные лишены душ, а значит, человек может использовать их без сожаления, как вещи. А вот Лафонтен ниже говорит о звериных чувствах и разуме, беря примерами оленя, уходящего от погони, куропатку, спасающую своих птенцов, и бобров, которые строят удивительные плотины и хатки. Весь пассаж – великолепный образчик созерцательной поэзии.
Впрочем, во французской литературе он чуть ли не единственный. Выдающиеся современники Лафонтена, как мы уже говорили, не уделяют внимания природе. Мир, в котором действуют герои Корнеля, представляет собой четко организованное общество со строгой иерархией. Октав Надаль пишет: «Мир Корнеля – это Город». Еще больше ограничена вселенная расиновских героинь и весьма вяло прописанных героев (которые, кажется, нужны только как объекты воздыханий); те и другие также обитают в Городе, только еще и в домах без окон. В безвоздушном пространстве умаляется величие этих трагедий постсенекианского периода, сходит на нет весь пафос – ибо в них нет простора, героям негде развернуться, они заперты в комнатах. То ли дело «Король Лир», или «Как вам это понравится», или «Сон в летнюю ночь», или «Макбет»! Практически в каждой пьесе Шекспира – будь то комедия, трагедия или хроника – не прочтешь и двадцати строк, чтобы не встретить намек: за этими шутами, убийцами, героями, кокетливыми девицами и безутешными королевами, за агонией и фарсом сугубо человеческой природы находится вечное знание, данности, факты о Вселенной и Космосе. Ничто не упущено – одушевленное, неодушевленное, лишенное разума и разумное; учтен каждый уровень, учтена связь всего и вся – с человеком, его сознанием и подсознанием. Вывод: поэзия, представляющая человека в изоляции от природы – представляет его однобоко. По аналогии, духовность, жаждущая познать Бога только в пределах человеческих душ и игнорирующая Вселенную без человека, – такая духовность никогда цели не добьется. «По моему глубочайшему убеждению, – пишет выдающийся католический философ наших дней, Габриэль Марсель, – по моему глубочайшему и абсолютно незыблемому убеждению (если оно – ересь, тем хуже для традиции); так вот, что бы там ни говорили мыслители и доктора, Божья воля не в том, чтобы нам любить Его, противопоставляя Творению, но в том, чтобы любить и славить Его через Творение, взявши Творение за отправной пункт. Вот почему столь многие религиозные труды мне отвратительны». В этом отношении минимум отторжения в религиозной литературе семнадцатого века вызывает труд «Столетия медитаций» Томаса Траэрна. Этот английский поэт и богослов не противопоставлял Бога Творению. Наоборот, призывал славить Бога через Творение, постигать Его через Творение; в песчинке видеть бесконечность, в цветке – вечность. По Траэрну, «человек, обретающий Мир» посредством бескорыстного созерцания, обретает и Бога, а с Ним – и все остальное. «Не сладко ли насытить алчность и амбицию, избавиться от подозрений и предательства, напитаться отвагой и радостью? Так случится, когда обретешь Мир. Ибо тогда узришь Господа в Его мудрости, мощи, доброте и славе». Лалеман имеет в виду слияние на первый взгляд несовместимых элементов – естественного и сверхъестественного – в жизни совершенной. Но как мы уже видели, то, что Лалеман зовет «природой» – на самом деле не природа в ее полноте, но лишь выборка из этой полноты. Траэрн ратует за то же слияние несовместимого, но принимает природу без остатка, со всеми мелочами. Лилии и вороны существуют вне зависимости от нас, а сами по себе. Иными словами, в Боге. Есть песок, и есть цветок, вырастающий на песке: созерцай их с любовью, и увидишь преображенными неотделимостью вечности от бесконечности. Стоит добавить, что и Сюрен умел разглядеть божественное в объектах природы. В нескольких лаконичных пассажах он сообщает: было время, когда и дерево, и бегущий вдалеке зверь наполняли его ощущением Господнего величия. Странно другое: почему Сюрен не останавливается подробнее на идее Абсолюта во всякой малости? Ничего об этом не сказано даже в духовных посланиях последователям: Сюрен не советует послушаться Христа и созерцать лилии, дабы вернее постичь Бога. Возможно, причина в следующем: всеобщее отрицание греховной природы подавляло в Сюрене его личные ощущения. Догматы, усвоенные в воскресной школе, сумели снивелировать очевидный Факт. Третий патриарх дзен-буддизма пишет: «Желающий узреть Это своими глазами да отрешится от устоявшихся идей об Этом, как в пользу Него, так и против». Все верно, да только богословы как раз и имеют дело с устоявшимися идеями, а Сюрен и его учитель были прежде всего богословами, а уж потом – людьми, жаждущими просветления.
По Лалеману, очищение сердца, по крайней мере полное, невозможно без постоянного послушания Святому Духу. Один из семи Даров Святого Духа – Разум, а противопоставлена ему «закрытость для всего духовного». Этой закрытостью характеризуются нераскаявшиеся – те, кто абсолютно или частично слепы к внутреннему свету, абсолютно или частично глухи к голосу сердца, через которое Господь обращается к своему созданию. Бдительно удушая эгоистичные порывы и «выставив стражника, дабы следил за движениями сердца», человек способен настолько обострить свое восприятие, что ему будет нетрудно уловлять и расшифровывать послания из самых темных глубин разума. Послания сии подаются в форме интуитивного знания, либо как прямые приказы, либо как вещие сны и видения. Сердце преисполняется всех благодатей и становится «одержимым и руководимым Святым Духом» – конечно, при условии, что его, сердце, постоянно контролирует «стражник».
Однако на пути к столь желанному финалу в сердце может вселиться и нечто, никак не относящееся к Святому Духу. Ибо не всякое вдохновение имеет божественную природу, не всякое – нравственно, и даже не всякое – просто приемлемо. Как отличить приказ, исходящий от «не-я», одержимого Святым Духом, от приказа другого «не-я» – того, которое иногда – идиот, иногда – безумец, а иногда – и вовсе злодей, убийца? Пьер Бейль описывает случай с одним очень набожным молодым анабаптистом, который однажды ощутил порыв обезглавить родного брата. Брат, предполагаемая жертва, также читал Библию, знал о подобных случаях и поэтому счел природу порыва вполне себе божественной. При многочисленных свидетелях (таких же сектантах) бедняга, подобно второму Исааку, позволил снести себе голову. Кьеркегор изящно именует такие эксцессы «телеологическими временными отключениями сдерживающих нравственных факторов»; они недурно выглядят в Книге Бытия, но в реальной жизни это чересчур. В реальной жизни следует остерегаться маньяка, что заключен в каждом человеке и склонен к неожиданным проявлениям себя. Лалеман отлично знал, сколь многие из человеческих порывов идут не от Бога, и постоянно был начеку, в смысле, предпринимал все возможные меры предосторожности от иллюзий. Тем своим коллегам, которые утверждали, будто его доктрина покорности Святому Духу подозрительно смахивает на кальвинистскую доктрину о внутреннем духе, Лалеман отвечал: во-первых, известно, что никакое благодеяние не может совершиться без руководства Святого Духа (в форме откровения), а во-вторых, божественное откровение подразумевает, что человек – добрый католик, что он принадлежит к традиционной Церкви и послушен пастору. Если человеку внушено нечто противное вере и Церкви, значит, внушил сие отнюдь не Святой Дух.
Вот вам и способ – притом весьма действенный – беречься внутреннего маньяка. Квакеры, правда, подстраховываются: по их традиции, всякий, на кого снизошло какое-нибудь необычное или подозрительное откровение, должен посоветоваться с определенным количеством «уважаемых Друзей» – они-то и решат насчет природы откровения. Лалеман в данном вопросе согласен с квакерами. Он даже идет дальше – утверждает, будто Святому Духу «угодно, чтобы мы советовались с мудрыми и прислушивались к мнению ближних».
Итак, ни одно благое дело не завершить, если на то не вдохновил Святой Дух – в этом, по Лалеману, суть католической веры; так он своим критикам и отвечал. Некоторые коллеги, правда, сетовали, что «Святой Дух ими не руководит и что откровений на них не снисходило»; таким Лалеман говорил следующее: если человек пребывает в благодати, откровения ему без надобности, хотя они и есть; человек их не замечает. Впрочем, если человек ведет себя как до́лжно, он их и заметит, и поймет. Однако, по словам Лалемана, люди «предпочитают жизнь внешнюю, крайне редко возвращаются к себе и заглядывают в собственные души, а если и проверяют собственную совесть (согласно данным обетам), то – поверхностно, учитывая лишь те проступки, которые очевидны окружающим. Люди не пытаются докопаться до причин своих страстей и дурных привычек, не вникают в состояние души, не стремятся понять, в каком направлении душа развивается, не размышляют о движениях сердца». Неудивительно, что этим заблудшим представляется, будто Святой Дух никуда их не зовет и ничему не наущает. «Да и как им услышать глас? От них и собственные дурные помыслы ускользают, они не отдают себе отчета в своих поступках. Но, едва они искренне пожелают создать себе условия для познания, едва создадут их – тут Святой Дух себя и явит».
Мы имеем объяснение, почему столь многие благие дела оказываются бесполезными и чуть ли не дурными. Выражение «Дорога в Ад вымощена благими намерениями» следует понимать так: большинство людей, будучи слепы к внутреннему свету, не способны и замыслить нечто действительно доброе. Следовательно, учит Лалеман, деятельность должна быть прямо пропорциональна созерцанию. «Чем пристальнее мы вглядываемся в себя, тем лучше подготовлены к деяниям; чем невнимательнее мы к своему внутреннему миру, тем больше нам следует воздерживаться от попыток творить добро». Как это понимать? А вот как: «Человек усердствует в благотворительности – но каков его истинный мотив? Искреннее желание помочь обделенным? А может, жертвуя беднякам, человек тешит свое тщеславие? Или ему лень молиться и учиться, скучно и тяжело сидеть дома, наедине с собственными воспоминаниями?» Священник может иметь многочисленную и набожную паству, но его речи и труды принесут плод «пропорциональный единению с Господом и отречению от собственных интересов». То, что выглядит как добро, очень часто добром не является. Свою душу спасает набожный, а не деловитый. «Действие не должно становиться препятствием к союзу с Господом; предназначение действий – укреплять узы любви к Господу». Ибо «как существуют гуморы, избыток коих губит тело, так и в религиозной жизни избыток деятельности, не умеряемый молитвой и созерцанием, неминуемо парализует дух». Отсюда и бесплодность столь многих жизней, на первый взгляд достойных, блистательных, продуктивных. Ни один талант не даст плодов, усердие и труды не обретут духовной ценности, если человек не умеет или ленится заглянуть в глубь себя самого, ибо лишь при таком условии можно ожидать озарений. «Искренно молящийся в один год достигнет большего, нежели иной – во всю свою жизнь». Деятельность, направленная вовне, может стать эффективной для изменения внешних обстоятельств, но желающий изменить поведение людей (каковое поведение бывает деструктивным и самоубийственным даже в лучших условиях) – тот должен всечасно очищать душу, дабы она восприняла озарение. Человек внешний, трудись он хоть как император Траян или будь красноречив как Демосфен, «не произведет такого впечатления на сердца и умы, как человек внутренний – одним-единственным словом, если только оно вдохновлено Господом». Никакие усилия, никакая ученость не идут в сравнение с этим словом.
Но каково оно на практике – быть «одержимым и ведомым Святым Духом»; что при этом ощущает человек? Извольте, состояние осознанного и растянутого во времени озарения прекрасно, тонко описала младшая современница Сюрена, Армель Николя, в своей родной Бретани любовно прозванная «доброй». Неграмотная служанка, Армель вела жизнь деятельную (мыла полы, стряпала, нянчила хозяйских детей) и в то же время созерцательную, то есть святую. К сожалению, сама она не могла написать свою историю. Однако нашлась образованная монахиня, которая заставила Армель раскрыться и практически слово в слово передала потомкам ее ощущения и мысли[36]36
См. Ле Гувелло. Армель Николя, 1913; Бремон А. История французской сентиментальной религиозной литературы. Париж, 1916. — Прим. авт.
[Закрыть]. «Забыв себя и все движения собственного ума, Армель уже не считала, что сама совершает некие действия; она была уверена, что лишь пассивно подчиняется Господу, который задает ей ту или иную работу. Армель казалось, будто и телесную оболочку Господь дал ей с той только целью, чтобы она сделалась обиталищем Святого Духа, чтобы Святой Дух управлял ею. Такое настроение овладело девушкой, когда, по ее убеждению, Господь велел ей освободить для Него место… С тех пор она больше не говорила „мое тело” или „мой разум”; она вовсе запретила себе произносить слова „мой”, „мое”, „моя” – ибо ничто не принадлежало ей, но всё – Господу».
«Однажды Армель сказала, что с тех пор, как Господь сделался абсолютным хозяином ее существа, она сама получила расчет». (Выражение из лексикона служанки на все руки; точно так же до того Армель «рассчитала всех лишних» – то есть дурные привычки и эгоистичные порывы.) «После „расчета” ум уже не вправе был наблюдать за работой Господа в глубинах души; не мог он, ум, ни постичь сути Господних трудов, ни тем более вмешаться в них. Армель представлялось, будто ее ум дежурит под дверью центральных покоев, доступ в которые имеет только сам Господь; будто ум, подобно лакею, дожидается Его распоряжений. Правда, там, под дверью, ум не один – с ним дежурит множество ангелов. Их задача – не подпускать к порогу ничего постороннего». Такое положение вещей длилось, длилось – да закончилось. Господь разрешил сознательному «я» Армель войти в покои собственной души – и узреть божественное совершенство, которым душа была отныне наполнена (и о котором Армель, подобно многим другим, не подозревала). Внутренний Свет оказался слишком ярок для ее глаз, и некоторое время ее тело испытывало крестные муки. Впрочем, Армель пообвыкла и перестала столь болезненно реагировать на факт собственной просветленности.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!