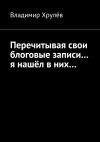Текст книги "Сгустки. Роман"
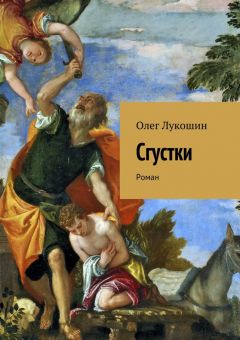
Автор книги: Олег Лукошин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Тризна
Последовательность действий уныла и однообразна. Скука, лень – усердие сжалось в комок и чувства затуплены. Им случается бывать оголёнными, и всплеск эмоций – он хорош как акт, как намерение, но и болезнен и оставляет ссадины. Хочется раздвинуть вязкость и вывалиться из набухшей почки – лишь падение за этим, но оно же и полёт, возможно долог он. И ясность движений тоже: и в ладонях сила, и в плечах твёрдость, и в ногах упругость. А мозг – он блаженствует от рабочего напряжения, он пульсирует решениями и позывами. Где же ты, вечная незыблемость, что движет механизм причинности? Может не ушла ещё…
«Сегодня Серёже десять лет, одиннадцать месяцев и два дня, – говорит жена. – Он совсем уже взрослый. Я так и вижу: он подходит ко мне, целует в щёку и бежит в школу – его уже ждут товарищи. А я смотрю ему вслед и радуюсь».
Андрей медленно отводит глаза в сторону. Это умиление на её лице вперемежку со скорбью тяжело для него. Сейчас всё тяжело – ходить, думать. Дышать – и то тяжело. Какая-то великая и могучая тяжесть опустилась на них. И раздвоение. На конкретность и рыхлость. Свои границы, своя суть. Но кажется спаянным. Чтобы не разрушили? Чтобы не стремились вовне? Величины несопоставимы, и та же тщета. Всё само собой, само в себе. Ведь движение это огромно, безумно. Миг, искра – а может казаться вечностью. Но проходит, тает. Неумолимо, безжалостно. Лучше уж так – постепенное, планомерное, но скольжение. Остановки исключены. Остановишься – пепел. И как бездна – красная полоса посередине, впиться хочется. И высасывать, высасывать… Бугорки, неровности – закрыть глаза если. Это сильно, бороться бесполезно, но сам – часть его, иного не представишь. Лучше отбирать, отсеивать – оно загадочней, захватывающе. Да и искренней.
«А ты знаешь, – жена поглаживает пальцами лоб, – мне почему-то кажется, я даже уверена в этом, что он с нами ещё. Просто стал невидимым, неслышимым. Я иногда чувствую его за спиной; я замираю тогда, а потом резко оборачиваюсь в надежде увидеть хоть что-то… и ты знаешь – я вижу. Хотя не уверена, Серёжа ли это, или что-то иное, но думается, что Серёжа. Это лишь пятнышко, помутнение какое-то в глазах, но это он и есть, он такой сейчас и должен быть. А ночью он садится рядом с кроватью и смотрит на меня. Я чувствую его взгляд, но глаза теперь не открываю. Раньше открывала, но он обижался и уходил. Он не любит этого. Поэтому я лежу сейчас с закрытыми, а он смотрит на меня… Ты не чувствуешь этого, нет? Он ведь и на тебя смотрит тоже».
Пустыня, ветер. Я строил здесь город, но его занесло песком. Это как память, у неё чудные свойства. Она может стереть что-то значимое, сущее и оставить глупую безделицу. Да и явное, оно хранится и извлекается преломленным. Эмоции, вот чего не хватает! Одни голые картины, в них шлёпают губами, а слова подбираешь ты сам. Можно даже движения, поступки, если присыпано немало. Здесь интерес, здесь новые грани и давно забытое может заблистать неведомым и неожиданным. В сущем, память – лишь часть воображения, они оба рождаются из одного атома, одно зовётся так, другое иначе, подмены не возбраняются, такая функция имеется. Она как игра поначалу и увлекает немало. А может стать явью, да и становится, потому что по-другому не выходит, такова природа этого. Память… а истинно ли то, что хранит она?
Жена сейчас тиха и скромна. Если бы не этот блеск в глазах, то такой она бы нравилась ему больше, чем во всех других ипостасях. Она сейчас сосредоточена, пластична, её движения завораживают. Она редко улыбается, но если делает это, то улыбка её – знак небес и одаренный ею открывает нечто. Сейчас она счастливей, чем когда-либо, но считает себя несчастнейшей из живущих. А почему? Да потому что грусть – это её стихия, скорбь – её музыка, отчаяние – её вера. Раньше так не подумал бы, раньше казалось всё иначе. Но образы, как скорлупа, спадают; не всегда, но если спали, увиденное поражает необычностью. Оно будто из другой мысли, из иной дрёмы, но оставшееся – и есть настоящее. Потому-то настоящего и мало. Оно появится – к нему тянутся, трогают пальцами, а на них грязь, жир – вот и нет уже настоящего, вместо него – лоснящееся что-то, смердящее. Оттого моменты общения с ним ценны, и хоть один – то удача. Ну, а тут не моменты, тут жизнь целая. Только сколько ей отпущено, жизни этой – неведомо, может краткость малая, но название всё же не «миг», не «мгновение», а «жизнь».
«А я ведь даже не хотела его поначалу, – слышит Андрей голос жены. – Я была глупой, я воспринимала всё несерьёзно. И серьёзность, такая громадная, что стояла за этим, она подавляла меня. Я лишь потом, постепенно добиралась до сущности. Первый момент – это роды, а за ним каждый – целое откровение. Просто держать на руках – в этом было уже что-то немалое. А кормить грудью – тут целый мир рушится… Он и рухнул в конце концов, только не тот, другой. Подменили его чем-то иным, а меня оставили там, где была. Неужели в этом логика какая-то, смысл? Я не вижу».
Тронуть, лишь раз коснуться… Но страшно, распадётся. Лучше так лицезреть. Это как сфера, которая всегда над. Там солнце, зелень и водопады. Там извилистые горные тропы и сочные плоды фруктов. Там воздух пьянит сказкой и маленький мальчик на бегу тянет к тебе руки. А потом росчерк, и стены со своим изощрённым узором возвращаются. Андрей ходит по квартире, нагибается за соринкой, выходит на балкон, потом заходит в комнату снова, включает телевизор, садится в кресло. Тягостно и лениво ворочается внутри собственная сущность. Бег. Три дороги, выбираю центральную. Сзади – варвары. Лёгкая дрожь и капельки влаги, они как смазка. Здесь раньше были леса, теперь лишь гладкие брёвна. На них скользит нога и при падении рассекаются губы. Забери меня к себе, женщина! Я добр, я нежен, я рождён из любви. Я оберегу твой сон холодными лунными ночами, я разведу в твоём доме костёр. Я буду сидеть тихо, я буду слушать небо. Если ты будешь зла на меня и единственным чувством ко мне будет ярость, я смирюсь. Покорюсь и умерщвлю себя так же тихо и скромно. Будь счастлива, ясноокая.
«На вот, – подаёт она ему тарелку с супом. – Серёжа его очень любил. Он вообще-то ел плохо, помнишь наверное. Худющий такой, да глазастый ещё – всегда его накормить хотелось. Ел плохо, да, всё потаском таскал. Да конфеты ещё всякие, мороженые, настоящей-то пищей и не питался практически. А вот суп такой любил. Просил даже: мам, свари мой любимый. Я его сейчас столько же варю, как и раньше – кастрюля та же, так что ешь теперь за двоих. Ты тоже ведь худой какой-то… Да глазастый, он прям в тебя весь был. Все так и говорили: Серёжа в отца. От меня и не было в нём ничего… Характер если только. Он тоже ведь спокойный такой был, вяловатый даже, стеснялся будто чего-то. Но если уж примется за что со всем рвением, разозлится – то уж спуску ни себе, ни другим не давал… Ты кушай, Андрюш, кушай, у меня пюре ещё да компот».
А ведь опустошение – оно тоже одно из. Только что его причиной? Будто отверстие в трафарете, справа, чуть ниже рёбер. И сквозняк продувает. Оно потом затянется корочкой, лёгонькой такой, шершавой. А мясо раздастся вширь и полость зарастёт. Ничего не останется, может и воспоминаний. Будут бить туда кулаками – мышца твёрррдая и упррругая, больно совсем не будет. Скульптуру лепят из гипса, высекают из мрамора, отливают из бронзы. Из мрамора лучше, он белый и гладкий, хоть и бьётся. Памятник в поле, на скрещении дорог; не пройдёшь, чтобы не приблизиться. Увядшие цветы, опавшие листья, шелуха и мусор под ногами. Он велик, он ужасен, раз в столетие из его левого глаза выкатывается слеза. Он скорбит, плачет. Море вздымает валы и обрушивает их на скалы. Ветер взъерошил волосы и надо прищуриваться, иначе лицом к нему не выстоишь… Нет, нет, не то… Оно опять повторяется, эта цикличность нудна и кажется – от неё не избавиться. За этим последует лодка, уплывающая вдаль и бездыханный труп, выносимый волной на берег – логика мысли однобока, даже если видится изысканной. Она зиждется на химерах прошлого – они разрастаются в теле с возрастом. Приглядись, принюхайся, спираль и здесь выделяет свои контуры. Уж если не видно, то на ощупь всегда определишь. Снова прорыв, опять уныние – чистота и звучность исчезают, хрустальность мутнеет. Круги расходятся, борозды опускаются, ещё секунда – и ровная поверхность. Далека от зеркальности, но и от тревожности тоже. Успокоения не несёт, но и страха не вызывает. Папа, а почему бывает страшно? Тебе бывает страшно? Да, иногда. Не знаю, сынок, не знаю… Жена моет посуду. Он слышит звук льющейся воды, звон тарелок и её бормотания.
Она часто теперь разговаривает сама с собой. С ним бесполезно, он закрыт на десять оборотов. Что же, общение с собой ценней и естественней. Понимание и сочувствие обеспечены. Она теперь любопытней, чем раньше. Она открыла дверцу… Запахи бьют в нос, звуки оглушают, а видения ослепляют. Отражение протягивает руки и улыбается. А шаги – какой ценой они даются.
«То, что его не нашли – в этом есть что-то, – её слова заполняют его всего, с ног до головы. – То ли мука, то ли облегчение. Нам оставили надежду, но быть может это более жестоко, чем если бы без неё. Я теперь до конца дней буду верить в возвращение. Я и сейчас при каждом звонке, при каждом стуке в дверь, понимая, что чудес не бывает, замираю. Разочарование следует за разочарованием, но надежда – это большое слово, она неистребима. Я не видела его неживым, потому он всегда будет живым для меня».
Андрей идёт по улице, мимо домов, деревьев и заборов. Слова звучат в голове раскатистыми отзвуками эхо и не устают повторяться с нудной неизбежностью. Причудливо… Причудливо, как и остальное. Оператор в самом центре, в переплетении мозговых волокон. Он – зрение, слух и обоняние, но единение отсутствует. Он лишь руководит. Оттого-то и чудно всё так, через призму, сквозь дымку. Он напрягает мышцы, шевелит ногами, приводит в движение руки. Он поворачивает голову, потом в другую сторону, и опять её, но уже иначе. Изображение дрожит, мутнеет порой, но в целом чёткое и поддаётся объяснению. Потому что усвоены правила, понята логика. А вообще оно должно быть бессмысленно, содержание – откуда оно в этом? Мимо проходят люди, они совсем такие же, пробежала кошка, проехала машина. Звуки бурлят и не упорядочиваются. Молоко, хлеб, масло. Продавщица улыбается почему-то… Впечатление прокручивается назад, декорации те же. Оператор усерден и старателен, хотя впадает часто в дремоту. Ему бы поспать, увидеть сон, помечтать. Не бесконечно же это длится, увидит.
«Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придёт серенький волчок и утащит за бочок… Серёж, не балуйся. Что за баловство такое!? Отдам вот сейчас тебя какой-нибудь тётеньке чужой. Не отдам? Вот зайдёт кто-нито – сразу отдам. Если вести себя плохо будешь. А то что это – такой хулиган вырос, его спать укладываешь, а он безобразничает. Это ты маленький ещё, а как большой станешь – что с тобой делать? Из дома бежать что ли? Ну-ка, ложись давай. Закрывай глазки, ни о чём не думай, сейчас угомон придёт… Конечно, конечно, никому я тебя не отдам! Как я могу отдать тебя кому-то, Серёженька? Единственного своего сыночка! Маленького моего мальчика! Кровинушку свою крохотную! Спи, Серёж, и ничего не бойся. Никогда не разлучимся мы с тобой, всегда будем вместе. Никто, никто тебя у меня не отнимет, так и знай!..»
Позы – фрагментарная череда реальностей. Их можно наблюдать без диалогов и комментариев. Они значимы сами по себе. Надо лишь составить ряд и зрелище будет занимательным. Вспышка – впечатление, вспышка – впечатление… Воспоминания – они тоже состоят из одних поз. Вокруг взмахивают саблями, кровь брызжет фонтаном и куски мяса стелятся ровными рядами. Битва не утихает. Трава колышется и солнце неумолимо уходит за горизонт. Птицы кружат и бродят по полю призраки. Чудную музыку слышу я, но лучше заткнуть уши – она одаривает безумием.
Она гладит тряпочкой фотографию мальчика. Дует нежно, прикасается ласково. Даже что-то шепчет ему. Когда Андрея нет дома, она целуется с ним и роняет на рамку слёзы. При нём стесняется, ей хочется казаться сильной. Она и так сильна, без всяких скрытностей и умалчиваний, она сильнее его. Порой она упрекает его за безразличие, за чёрствость, но она не права. Она видит лишь внешнее. Внутрь он её не пускает, эта пучина отчаяния поглотит её и неизвестно, выбраться ли ей на поверхность. Сама она наоборот, открыла все шлюзы и свободна всем ветрам. Иногда он проскальзывает сквозь неё, но сейчас это не интересно, острых ощущений там не сыскать. Мечи затупились, колья поломаны, она лишь царапает ими – это неприятно, но не более того. Она проста и понятна, как моросящий дождь. Нудна, как он. Хотя… былое, оно ещё шевелится в ней, привлекательность не утеряна, она ещё влечёт.
«Я сейчас понимаю, – снова слышен её голос, – что Серёжа… он как бы чувствовал что-то в своей судьбе. Я даже уверена в этом. Вспомни, о чём он с тобой разговаривал. Со мной – очень часто о смерти. А как это вот так – умереть, а что бывает, когда умрёшь – мне даже страшно становилось от таких вопросов. А ведь он совсем ещё мальчонка… Впечатлительный очень был… Возможно, мы его и испортили в этом плане. К книгам рано приучали, к фильмам умным. На размышления провоцировали. В его возрасте резвиться надо, на природе бывать, а он за книжкой сидел».
Лучезарная дымка, почему ты манишь? Почему рождаешь в груди беспокойство и неудовлетворённость? Почему стремиться заставляешь к нереальному и сеешь семена скорби и печали на полях бренности? Почему? Они утоляют поначалу, семена, освежают, и лишь потом, созерцая взращенный злак, понимаешь, что за истина скрывалась в них. Сожаление имя ей. А ещё раскаяние, а также тщетность – имён много, а суть одна – потеря. Или может в скрижалях вечности моё имя так и значится для утрат лишь и горьких покаяний? Не читал, не прочту, не дано, да и «почему» неуместно здесь и глупо. Тут не «почему», тут «ради чего» бы надо, но этот вслух не могу, лишь про себя. Так и надо, да пусть и будет так, по-иному уже не умею. Мани, разрешаю.
«Ты видишь, Андрюш, как складывается всё, – что-то саркастичное в её голосе теперь, голосе и взгляде, странно, – о другом мы даже не задумываемся. Чтобы взять и решиться на ещё одного – такого даже в мыслях нет. Одного горя достаточно. Это пережили как-то, второе – нет уже. На нас теперь проклятие. Духи смотрят сверху и думают: „Это проклятые, с них спроса нет. Пусть живут себе так же горестно“. И самое страшное – прошло то время, когда можно было что-то предпринять, мы из него убежали. Теперь решаем не мы, за нас уже всё решено, мы лишь покорно исполняем. Нет, я даже не злюсь: если бы нас оставили сейчас, мы бы вообще разучились существовать, растворились бы просто, сами по себе. Я знаю, ты согласен со мной. Ты со мной редко когда соглашаешься, но сейчас – абсолютно и полностью. Да ведь?»
А мальчонка всё тянет и тянет руки. Проклятие? Да, проклятие. Слово верное. Уже просто убегаешь, но он не отстаёт, преследует. Отшвыриваешь от себя его ладошки – и он плачет. Садится на корточки, прячет лицо в руки и ревёт. И его жалко, но пожалей – и гонка продолжится с новой силой. Холод и льдины. Они дрейфуют, в них трещины и от неосторожного шага можно провалиться. Северный Полюс, он справа по борту. Здравствуйте, белые медведи, теперь мы будем жить вместе. И за чертой, казалось, всё – иная субстанция и структуры. Иной я. Но за первой следуют другие и лишь усмехаешься, пересекая их: где же былой восторг и чувство победителя? Смена сезонов, переход циклов – всё в окружности, размерено и вычислено. Стрелы летят и врезаются в тела – куда же? – а на остриях яд. Кружатся насекомые, их отгоняют опахалами, но они настырны, они за нектаром. Тот в подземелье – подземелье скрытности, том, что в замке отчуждения, который в долине безверия за горами отчаяния. В стране зыбкости у моря беспамятства на материке вечного ожидания. Том, что крупнейший на планете безумия. Имя этому нектару – смирение. Я не пробовал его ещё, но мне обещали. С нетерпением жду, с нетерпением.
«Почему-то сын, не дочь… тоже вот, а почему? Я как-то даже не задумывалась… Потому наверно, что иначе быть не могло, всем ходом вещей предусматривалось лишь так, а не по-другому. Где же выбор, почему его не было? Я понимаю сейчас, что у меня никогда и ни в чём не было выбора. Как всё-таки ужасно это, неподвластно уму, кошмарно: дать жизнь человеку, произвести из небытия… ежедневно видеть его, смотреть ему в глаза, слышать его голос – а потом, в один момент понять вдруг, что это всё блеф, обман, что его нет…»
Андрей трогает жену. Она лежит на кровати, он смотрит на неё сверху – она голая и желанная. Она до ужаса нравится ему сейчас и это немного странно —
Он взирает на неё с неким удивлением, будто открыв что-то доселе неведомое. Они иногда любят друг друга, но всё больше по инерции. Сегодня вот почему-то выходит более сердечно, и неожиданность момента ощущается сразу. Жёлто-синие дуги порхают меж стен, сливаются в кольца спирали. Меж ними искры и полосы света. То лучи, они бьют снизу, но источник невидим. Иллюзион цветов и их сочетаний. Дальтоникам не понять. Пластины наслаиваются одна на другую, идеальность их форм изумительна, они складываются в ромб. Удлинённые концы его – стрелки, они указывают направление. Двенадцать и тринадцать до старого дуба. В дупле – весточка, сохрани, пригодится. Ящеры ползают, ищут, но вверх не смотрят, не могут. Меж камней и трещин, некоторые глубоки. В стенах лазы, там можно укрыться. Женщина смотрит, молчит, заметен лишь блеск глаз. Она не тронется с места, пока не уйдёшь, а на ощупь – не найти. Лишь пыль, земля, да блеск – примитивная мистика, но средства против не найдено. Слои воздуха, сквозь них не видно, а пролезать надо так: сначала голова, потом левой стороной и так дальше. Женщина, почему ты рядом, кто призвал тебя? Я – нет, хоть и нужна ты, но без тебя лучше.
«Всё-таки сознание бесконечно, – шепчет она едва слышно. – Сущность не может исчезнуть совсем, она лишь изменяет формы. Значит, мы встретимся с ним когда-то и ждать осталось немного. Быть может, мы являем с ним что-то общее, вычерчиваем одну линию в безднах причинности. Серёжа, ведь ты должен слышать меня! Сыночек, мы скоро свидимся! Я скучаю по тебе, мне без тебя плохо. Пусть быстрее наступит то мгновение, когда я снова почувствую тебя рядом».
Краткость. Рассечение. Пропасть.
– Знаешь что, – сказал вдруг Андрей и пристально посмотрел на жену. Она взглянула в ответ и замерла. – Знаешь, что я сейчас подумал?
Он схватился за голову, а мысль, она переполняла.
– Скажи мне пожалуйста, – шевелил он губами и ей стало страшно от его взгляда – он был полон ужаса и безумия. – Скажи мне… а был ли у нас вообще сын?..
Остановка. И мгновенная передышка. Утомление.
Жена отворачивается, медленно опускает голову на подушку и сжимается в комок.
«Я спать хочу, – отвечает едва слышно. – Устала очень…»
Он молчит. Он опустошён и потерян.
«Серёженька… – шепчет она. – Мой Серёженька…»
Забытые чувства
СТЫД
Она была валетом крестей, он купил её у соседского пацана, довольно дорого. На ногах туфли и какой-то цилиндр на голове, а больше ничего. Она сидела в плетёном кресле, смотрела прямо и ухмылялась. Ноги задраны и согнуты в коленях. Пышные груди, большие соски. И густая чернота – она водила по ней пальчиком и так засняли. Складки, розовость, но даже если в упор – всё равно не совсем понятно. Отверстие, но можно и по-другому. Рана, нагноение. Кожа зудит и пылает. Она стонет и мечется, прижимается лицом к железным поручням и пробует их кусать. Ей больно. Полость увеличивается, опухоль разрастается. Уже полживота и до колен. Занялась спина и движется выше. Доходит до горла и поглощает лицо. Гниль, и кожа отваливается клочьями.
Вначале он носил её с собой. В нагрудном кармане. Одноклассники подходили: «Дрон, закажь на секунду?» Он доставал и, держа обеими руками, показывал, оглядываясь. Потом быстро засовывал обратно. «Чё так мало?» «Всё, хватит, засекут а то». Перед домом перекладывал в учебник, под обложку – она была коричневой, непрозрачной. Совсем незаметно. Делая уроки, вытаскивал и любовался. Мама спрашивала из кухни: «Что задали?» «Два номера и упражнение», – отвечал он, а сам смотрел, смотрел. Когда мать выходила в зал, накрывал её тетрадкой. Сердце стучало, руки дрожали – стало даже нравиться. Он повторял раз за разом.
Он даже подрался из-за неё. Один пацан выхватил её тогда и побежал по коридору. Бежал, орал. Размахивал ею. Вокруг учителя, школьники – идиот. Он гнался долго, по всем этажам, но догнал. Возле двери в подвал. Пацан бросил её. Она упала на пол, в пыль, он подобрал, вытер рукавом. Дрались с ним отчаянно.
Стал прятать её дома. В туалете, за трубами. Бегал туда каждые полчаса, мама спросила даже: «Что с тобой? Заболел что ли?» Пришлось ходить реже. Раз в два часа, а иногда и в три. Самым мучительным стало – отсидеть в школе. Мчался затем домой, радостный – ещё немного, уже совсем скоро. Закрывшись, целовал её.
Самым лучшим, долгим – когда не было мамы. Он сидел тогда там час, больше порой, было здорово. Кресла качались, море плескалось, сияло солнце. Сначала он дотрагивался до неё быстро, в первые же секунды – не хватало выдержки. Но потом научился и удовольствие растягивалось. Она ложилась на топчан, он был вдалеке, он шёл к ней. Вскакивала вдруг и отбегала. А иногда не бежала, иногда становились длинней дороги. Он шёл по песку, в пустыне, ноги вязли, или же в джунглях, там лианы, и обезьяны цепляли за руки, он шёл всё же. Она дразнила и давала трогать другим. Он злился и распалялся. Она разрешала и ему в конце концов, как же, она не могла по-другому. Он прикасался, а она – к нему. Если тишина, никаких шумов за стенкой и в трубах не гудит – то получалось очень ярко и захватывающе.
Труба дала течь однажды, она намокла. Сильно текло всю ночь, она расползалась по пальцам, он был в отчаянии. Потом через тряпку водил по ней раскалённым утюгом. Она высохла, затвердела, но пожелтела, чёрт возьми! Пожухла как-то, поблекла. Но всё ещё являла, всё ещё манила, звала. Она и такой была хороша для него.
Хранил теперь её в книжном шкафу, в одной из книг, между страницами. Чтобы посмотреть, с умной миной доставал книги, делал вид, что читает. «Ты хоть понимаешь чего?» – спрашивала мама. «Понимаю, не тупой», – огрызался.
Ему нравилось её постоянство. Она всегда скалила зубы и ноги её всегда были разведены. А пальчик с длинным ногтём указывал верную дорогу. Бежали минуты, менялись состояния – она всегда встречала приветливо. Звала, уносилась, но разрешала в итоге, разрешала. За это была достойна нежности.
Шла суббота, в тот день мама убиралась. Протирала в серванте, в шкафах. Доставала зачем-то книги. Из одной вдруг выпало что-то, опустилось на пол, лицевой стороной вверх, но боком как-то. Он был рядом, он всё видел. Мама уже наклонялась, рука тянулась, он сорвался вдруг с места. Опередил, схватил её с пола и вылетел из комнаты. Закрылся в туалете. Мама разглядела, поняла: «Ну-ка! Открой, негодник? Я тебе сейчас такой порки задам!»
Он рвал её на мелкие кусочки и кидал в унитаз. Потом спустил воду, но с первого раза все не потонули. Смывал ещё. Было жалко, ужасно жалко. До слёз просто. Он не плакал, однако.
Мама потом долго терзала. Бить, впрочем, не била.
СКУКА
У него не выходило, даже когда казалось, что удача близка и вот-вот комбинация сложится в логическую законченность. Заряды менялись вдруг, злорадная фея поворачивалась спиной и ужасная непредвиденность под названием теория вероятности заставляла костяшки складываться совсем иными цифрами. Досада вспыхивали тотчас же, хотелось ударить по столу кулаком и разметать эти гнусные прямоугольники в стороны. Он так не делал конечно. Поглаживал в глубокой задумчивости лоб и пытался вспомнить, в какой же момент он дрогнул. В какой момент складывавшаяся в верном развитии гармония искривилась и исказила свои линии. Обозначила углы и колкость. Эмоции мимолётны, ветрены, они имеет свойство забываться. Притворяться иными. Он вспоминал как будто, выявлял мгновение, но не был всё же уверен. Сомневался. Тяжело потом поднимался из-за стола, подходил к окну. Весёлые люди шли мимо дома, яркие автомобили проносились стремительно, листва шумела и искрилась солнечными бликами. Люди смеялись и ели мороженое. Переполненный мыслями, отходил он от окна и ложился на кровать.
У игры было два варианта. В первом надо было разобрать пирамиду. Всё домино сваливалось в кучу, смешивалось; по одной тянул он костяшки, строя конструкцию. Потом переворачивал. Первая линия самая длинная, наткнуться на тупик здесь было обидно. Но не обидней, впрочем, чем на всех остальных, которые были короче и ближе к надежде. Самым ужасным было проиграть у финиша, когда одна-две удачные цифры на костяшках принесли бы победу и завершение пирамиды. Увы, но цифры на очередном перевёрнутом домино всегда оказывались не те. Вторым вариантом был квадрат, четыре штуки клались на углы, с них начиналось. Начиналось разочарование – результат был идентичным.
«Силы зла, это они. Они выбрали меня ещё до рождения. Я ёмок, я объёмен. Хрусталь блестит в темноте, сам по себе, свет не падает. Чарами окутанный, хожу, они поблизости. Много теряли, отчаянны, жаждут возмездия. Разматывают нить не прямо, с изворотами. Руководства нет, явного, но помехи доступны. Затем выбор, потерянный куда же? В указанное и будет нравиться. В сжатиях, знаю. На скрещении. Но не обряды, не ими же. Можно, но натура испорчена, тянет на проверку. Угрюмость итогом, но кидаешься. Чтобы взмахом кисти, по мановению – от одного к другому, в третий, и все бы в плюс. И в принципе можно, ну а неровности? А дрожь? Они не так, не в лоб, не сразу, но это – пожалуйста. Пространства сужаются. Вынужден двигаться – поэтому. Знаешь, чувствуешь, а что можно. Но, но… Есть одно, возможно повернётся. Если да, то уж… Предоставьте только, откройте, я пролезу и в малое. Воспользуюсь минимумом. Самым мизерным шансом».
Он пытался не играть совсем, какое-то время удавалось. Но сущность ужасна, промахи забываются, разочарования подёргиваются пылью, а надежды снова гнетут вероятностью, возрождаясь. Он снова садился за расклад.
Один раз показалось – всё. Будто бы не может быть другого. Будто бы истина открылась, распахнулась, впустила свежесть и яркость… Но итог был тем же, несколько минут сидел он в трансе, теребя в руках эту злополучную градацию цифр – непостижимым образом они снова оказались не те. Он подошёл к окну. Солнце было ярким, приветливым, небо голубым. Развесёлая парочка целовалась под самыми окнами взасос. Отрывались, хохотали, сближались снова. Он ловил моменты – из них узловой, ставший неверным. Один можно было вычленить, но он знал – всё равно не тот.
Он бросился к столу снова. Разложил, перевернул первую, вторую… Тупик. Он начал заново; проиграв и в этот раз, разложил опять, потом ещё и ещё, но все эти не приближались даже к предыдущим раскладам; раздосадованный, бросил наконец никчемное своё занятие. За окнами жизнь всё так же кипела: дети возились в песочнице, радостные жёны дёргали за руки мужей, благодушные пенсионеры, щурясь, грелись на солнце.
«Причина во мне. Во мне самом. Я не могу переломить себя, переступить через что-то. Возможно дело в том, что неизвестно то, через что перешагиваешь. Но оно громоздко и вредно, раз не можешь. Оно преградило путь, перерезало дороги, но и назад уже не пойти, постоянно его толкать придётся, пока не найдёшь способ справиться. Если он вообще имеется. Но уверенность явная – проходы должны быть. Хватит ли времени? Всё дело в мыслях, их ходе, развитии. Оно не чисто, затуманено где-то. Это оттого, что чисто бы если, то секунды скользили непосредственно, и дрожания, вибрации засекались бы тотчас же. Звуки преломлялись, появлялась бы музыка. Мне кажется, кажется порой, что слышу её, но ведь не явно, с искажениями. Да и моменты мимолётны. Должно же быть чётко, сочно, должно быть постоянно. Должно проноситься сквозь и задавать направленность. Чувственность, ритмику. Тогда песчинки не станут ускользать из пальцев, а цифры в уравнении будут истинными».
Когда же наконец пирамида раскрылась и партия была выиграна, он долго сидел, всё так же потирая лоб, на этот раз – двумя руками, и был ещё более задумчив, чем при проигрышах. Он сложил домино ещё раз, теперь в квадрат, но и он раскрылся до самого конца. Уже с бурлившим в груди восторгом он разложил костяшки в третий раз и результат был тем же – они переворачивались все, уравнение складывалось, цифры притирались друг к другу без сбоев и охотно.
Он сдержался от бурных изъявлений чувств. Лишь скромное удовлетворение, шептал себе, самое минимальное. Подойдя к окну, окинул взглядом улицу. Поначалу не происходило ничего, он засомневался было, но явь обозначила всё же свою перемену. Из дома напротив, из крайнего подъезда вышел облезлый мужичонка и прислонил к стене красную крышку гроба. Достав из кармана пачку сигарет, закурил. Чёрный крест на красном фоне был зловещ и казался огромным. Именно его и не хватало, именно здесь. В этих домах, в этих окнах, между этих деревьев. Красного прямоугольника с чёрным знаком.
Облачко, оно пронеслось как облачко. Он стоял у окна, напряженный, прищурившись и наморщив лоб. Потом улыбнулся вдруг.
«Да нет, нет. Просто совпадение…»
И улыбнулся шире.
ЗЛОСТЬ
Мерзкая псина, когда всего лишь в одном, и отдаление манит, вокруг размеренность, ветер в спину и часто холод. У него пена, он бешеный. Рыжий, шерсть свисала клочьями, а кое-где свалялась. Грязь и наверняка личинки. Ярость. Напор – это и пугает. Он урчал и норовил вцепиться, слюна капала, и ещё глаза – в них отрешённость. Он из чуждых сфер. Они здесь же, поблизости, но вывернуты. Ходы имеются и варианты возможны, но чаще оттуда. Чаще монстры.
Происходило изо дня в день. Практически на том же месте. Пёс выскакивал, он не понимал – откуда, набрасывался. Прыгал. Целился в самое лицо, бывали моменты – зубы щёлкали в сантиметрах. Он закрывался руками, замирал, даже не дышать пытался – не помогало. Мимо шли люди, шли спокойно, им позволялось. Не позволялось лишь ему. Он всегда знал о своей исключительности, она грела его, отрадно – собакам тоже известно, но почему же вдруг так категорично? И именно этот.
И он действительно терялся. Страх ли это – он не говорил себе страх – но он был явен. Он был чёток, он пульсировал внутри. Вокруг всегда было много псов, они бежали мимо, шарахались, некоторые урчали, но глухо, от таких можно было уйти. Некоторые лаяли, бросались даже, каким-то хватало смиренной позы, каким-то – одного замаха, какие-то были упорнее, но таких не было раньше. Он ходил пешком, он вынужден был. Он пытался наказать его поначалу, он знал – псы трусливы, один удар, хороший, крепкий, делает их послушными. Но тот ускользал, отбегал, он не попал в него ни разу.