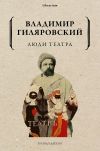Текст книги "Мечта о театре. Моя настоящая жизнь. Том 1"

Автор книги: Олег Табаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Коммуналка в доме Бродта
Мы жили в коммуналке на втором этаже так называемого бродтовского дома на углу Мирного переулка и улицы 20 лет ВЛКСМ, ныне опять Большой Казачьей. Когда-то дом принадлежал известному саратовскому врачу доктору Бродту.
После революции его, естественно, реквизировали и устроили коммуналки.
Наша квартира состояла из семи комнат. В одну из них поселили Нелли и Эсфирь Кадышес, уплотнив важную семью поляков Ткачуков, состоявшую из Софьи Леопольдовны, Ивана Романовича, их сына Бориса, его шумной жены-полуэстонки и дочки Таньки. Ткачуки-мужчины были «технической косточкой». Иван Романович был то ли майором, то ли полковником железнодорожной службы – с усами, в выглаженных брюках, в выглаженном кителе, в изящной шинели. Его облик гармонично вырастал из того, что когда-то называлось инженерным корпусом императорской России. А в соседней комнате жили деклассированные люмпены Клюшниковы с целой кучей детей, среди которых особо выделялся Волька-даун, – хронически гулявшие, жившие широко, шумно и босо. В комнате Марии Николаевны (Колавны) и дяди Володи Кац все было связано с дяди-Володиной психиатрией. Он вел прием на дому – колдовал над элитой Саратовского облисполкома и горисполкома, людьми сильно пьющими, запойными. Я залезал под кровать и подслушивал, как он говорил, громыхая страшными басовыми раскатами: «Вы перестанете пить от первого стакана, от первой рюмки водки…» Меня так и подмывало посмотреть, движется этот стакан под волшебным взглядом дяди Володи или нет, но обнаруживать свое присутствие было бы недальновидно. Как только пациенты из комнаты выходили, дядя Володя вдруг преображался и начинал ворковать с женой тоненьким голоском: «Мусенька, Мусенька! Твой котик ждет компотик!» Пожалуй, единственной комнатой в нашей квартире, в которой я не бывал никогда, была комната Гребенщиковых. Она казалась таинственной с самого начала. Я никого не стеснялся, когда шел в сортир, оккупировал его, сидел, пыхтел, но когда мое ухо улавливало шум открывающейся двери в комнату непонятных соседей, то даже мои, так сказать, естественные отправления случались быстро и пугливо.
И совершенно очаровательно-трогательной была одиночка Маня-цыганка, Маруся, то ли воспитанница Ткачуков, то ли бывшая горничная. Когда она выросла, Ткачуки каким-то образом выхлопотали ей крохотную комнатку. Она пережила несчастный брак: рассказывали, что когда-то они с мужем работали в Монголии, потом муж погиб, и Маруся доживала свой век одна.
В коммунальной квартире всегда все на виду – кто и к кому приходит. Одинокой женщине от этого становится особенно тоскливо. Когда я впоследствии стал ходить в самодеятельность, Марусе это очень нравилось, и иногда она выкрикивала такую странную присказку: «Ой, нет в жизни счастья, любви, а я жить хочу!»
А в последней комнате жили мы: мама, я и Мирра.
Мама владела огромной комнатой в сорок пять метров, а отцу, по стечению обстоятельств, удалось заполучить двадцатиметровую комнату за стеной. Входы в родительские квартиры были через разные подъезды, поэтому их комнаты сообщались… через книжный шкаф. На верхних полках стояли книги, а внизу была дыра, через которую я свободно дефилировал из комнаты в комнату.
Меня почему-то очень манило пространство под лестницей в подъезде, ведущей с первого на второй этаж. Быть может, потому, что летом в Саратове очень жарко, а там было прохладно. Бабушка Оля постоянно твердила: «Лёленька, нельзя выходить из дома, когда темно. Там шпана под лестницей». Никакой шпаны, конечно, у нас в доме не водилось. Иногда жена не пускала пьяного соседа домой, и он ночевал там. Отчетливо помню, как позже уже сам говорил кому-то из приятелей: «Туда низя, там сапана под лестницей».
Должен признаться, что почти все мои детские воспоминания – желудочно-кишечного плана. Обжорой и сластеной я был жутким. Однажды отец, обычно приходивший домой очень поздно, вывалил из своего черного институтского портфеля с двумя пряжками огромный ворох леденцов. И для того, чтобы мы активнее их поглощали, налил в блюдечко воды, куда петушки опускались, а затем усердно облизывались. Очевидно, собственной слюны для должной интенсивности процесса не хватало.
Или еще одно воспоминание. Кажется, все детство состоит из праздников. Возраст четырех-пяти лет, перед войной. Новый год. Я болею коклюшем, но страданий особых не испытываю; мне дают удивительно вкусную и сладкую вишневую настойку. Долгое время встреча Нового года была просто-напросто запрещена в Советском Союзе, но вдруг тогда – в тридцать девятом – разрешили. Фантастическое впечатление от появившегося в комнате душистого и нарядного дерева. Елочные игрушки тогда в магазине не продавались, и вот отец взял и выдул их из стекла сам. А тетя Шурочка клеила игрушки из бумаги, а потом раскрашивала их.
Все безоблачные радости кончились в июне сорок первого. Началась совсем иная жизнь.
Война
Многое, многое мне дала война. Не зря Рощин написал: «Будь проклята война, наш звездный час», имея в виду, что библейское выражение «человек человеку брат» в наибольшей степени приближения было реализовано между людьми в этот отрезок времени.
Уже в июне отец ушел на фронт добровольцем. Он был врачом. Наша семья получилась насквозь медицинской. Врачи – папа, мама, тетя Шура. В медицину пошли мой двоюродный брат Сергей и сводный брат Женя, сестры Мирра, Люся, Наташа. И их дети тоже.
Отец служил начальником военно-санитарного поезда № 87. Объездил почти все фронты. Был на Кавказе, на Южной Украине, под Сталинградом, в Румынии. Поезд перевозил раненых с передовой в тыл, нередко становясь мишенью для воздушных бомбардировок.
В конце 1942 года мама заболела брюшным тифом. Комнату с помощью немудрящей перегородки поделили на две части; «детскую», где обитали мы с Миррой, и «большую», куда поместили маму. Даже выкарабкавшись из инфекции, из-за истощения мама долго не могла встать на ноги, потому что каждый появляющийся в доме съестной кусочек совала мне или Мирре. Помню, как приходила мать тети Шуры, баба Катя, приносила в кастрюльке бульон, сваренный из четверти курицы, скармливала его маме, сидела рядом, наблюдая, чтобы мама съела все сама и не отдала бы этот кусочек курицы мне.
Все ценные вещи – и золотые бабушкины червонцы, и библиотека – были проданы. Осталось лишь несколько книг, но среди них очень важные: «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо; книга Эль-Регистана, соавтора Сергея Владимировича Михалкова по гимну, называвшаяся «Стальной коготь», – про беркутов, которых наши высокогорные среднеазиатские братья использовали на охоте; жизнеописания Суворова, Кутузова, Багратиона, Барклая де Толли, Нахимова, Корнилова, Синявина, Макарова… Марксовские, дореволюционные, очень красочные издания. Остались отдельные непроданные тома Шиллера: «Для чего стремится Гектор к бою, где Ахилл безжалостной рукою за Патрокла грозно мстит врагам? Кто малютку твоего научит дрот метать и угождать богам?» – с замечательными иллюстрациями, так же, как и «Мертвые души», иллюстрированные Доре и Боклевским.
Читать я научился года в четыре. А за войну выучил эти книжки наизусть.
«Маршал Лёлик Табаков»
В начале войны отец еще не мог присылать «аттестат». Аттестатом называли деньги на довольствие. По-моему, это были тысяча двести рублей, то есть пять-шесть буханок хлеба. А от отца даже письма не всегда доходили. Я ему, кстати, тоже писал, подписываясь «Маршал Лёлик Табаков». Честолюбив был не в меру с детства. И поскольку мне постоянно хотелось есть, то и просил главным образом прислать что-нибудь вкусненькое.
Первая посылка, совершенно волшебная, пришла только зимой сорок второго. Большие южные яблоки, мандарины, американская тушенка. И кроме того – детские книжки в стихах:
Это – «юнкерс»,
Так и знай,
Поскорей его сбивай!
Как я, семилетний Лёлик Табаков, мог сбить этот самый, действительно ненавистный мне «юнкерс», остается загадкой идеологической пропаганды.
Во время долгой маминой болезни я совершил первое серьезное преступление. Мирра приносила из школы сладкие коржики для мамы. Однажды я, улучив момент, тайком спер один корж. И слопал. Со мной потом долго не разговаривали.
С кражами вообще получалось неудачно. Как-то не сложилась эта карьера. Однажды баба Аня пригласила нас на пирог. Пирог с сахарной посыпкой назывался в Саратове «кух», от немецкого Kuchen — видимо, рецепт немцев Поволжья, живших рядом до войны. Так вот, я просочился на кухню и украл сладкой посыпки – наслюнявил руку, прижал ее к пирогу и облизал. А вот разровнять поверхность куха не догадался. Так и был изобличен по отпечатку ладони. Позор был жуткий… С тех пор, пожалуй, я завязал с воровством раз и навсегда.
Настоящей войны – свиста снарядов, пулеметных очередей, бомбежек – слава богу, не испытал. Помню лишь огромное красно-черное зарево над Саратовом, когда горел разбомбленный нефтезавод «Крекинг». Для нашей семьи тяготы войны были связаны с голодом, хотя Саратов и считался городом сытным, хлебным. А кто-то на голоде обогащался. Как на любой войне.
Для того чтобы мама окончательно поправилась после болезни, дядя Толя устроил ее в действующую армию – врачом в военный госпиталь. Шаг парадоксальный. Но там давали пайки, и у мамы появилась реальная возможность прокормить нас с сестрой. Говорили, что в госпитале есть даже белый хлеб!
Весной 1943 года, с трудом поднявшись с постели, мама повезла меня и Мирру в сторону Сталинграда, в городок, получивший свое название по имени соленого озера Эльтон, расположенного на севере Прикаспийской низменности, откуда тогда только что отогнали немцев. Возле Эльтона еще рвались бомбы, еще обстреливались эшелоны. Отправления с саратовской товарной станции мы ждали несколько суток. На третью ночь на станцию прибежал мой двоюродный брат Игорь, которому на тот момент исполнилось четырнадцать, и сообщил нам, что его мама – тетя Шурочка – только что родила его младшего брата, Сережку. А у меня появился еще один двоюродный брат. Иногда жизнь вот так неожиданно дарит нам мгновения счастья и удивления. Думаю, маме, отправляющейся в неизвестность во спасение своих детей, эта благая весть придала сил. С тем мы и уехали.
Помню бесконечно долгий путь в вагоне-теплушке. Четыреста километров мы ехали суток пять. Подолгу стояли. По пути нам встречались эшелоны с чечено-ингушами, которых вывозили на «новое место жительства». Люди ехали в теплушках вместе с коровами. В одном из вагонов каким-то человеческим голосом кричала коза. Женщины и дети плакали. Я поладил с чеченскими мальчишками, угостил их невесть откуда взявшимися леденцами. А они в ответ принесли мне свои национальные молочные лакомства.
Где те мальчишки теперь…
В госпитале № 4157 на Эльтоне мы прожили два года. Мама работала там врачом-терапевтом. До войны госпиталь представлял собой очень мощную бальнеологическую лечебницу, санаторий. Грязи по-прежнему подвозились в госпиталь по узкоколейке на телеге, и целый корпус выздоравливающих раненых получал грязевые ванны и аппликации. Раненые доставлялись сначала из-под Сталинграда, потом из-под Курска.
Жилье наше находилось на расстоянии ста метров от маминой работы. Иногда мама приносила нам в судках что-то из оставшейся госпитальной пищи, а когда у нее был выходной день, мы варили пшенную кашу на таганке – металлическом кружке́, поставленном на четыре ножки. Топливом для таганка служил курпяк – высохший степной бурьян. На этом самом таганке я выучился делать «кашу с мясом»: несколько раз искусственным образом заставлял пшенку подгорать, потом выскребал, перемешивал, и она получалась как будто бы с мясом…
Аборигенами Эльтона были преимущественно русские и казахи. Поэтому из вкусных вещей на очень бедном местном рынке была еда под названием «сарса» – что-то сушено-солоноватое из сквашенного молока, а также сухие сливки, кислое молоко и варенец. Все это поедалось нами с восторгом.
Но главной эльтонской радостью было кино. Киносборники, в которых почему-то доминировали «Вальс цветов» из «Раймонды» и фильм «Радуга», где после того, как партизанка самым жестоким образом убивала фашиста, она говорила, глядя на радугу подозрительно чистыми глазами: «Радуга – это доброе предзнаменование…» Что-то меня в этой ее чистоте тревожило. Но более всего в этих сборниках смущало несоответствие: фрицы на экране были такие глупые-глупые, а отец – мой сильный и умный отец – все продолжал, к тому времени уже два года, с ними воевать…
Детские забавы были естественно-природными. Обруч, снятый с бочки, путем сопровождения изогнутой крючком проволоки катился рядом с тобой, а ты воображал, что едешь на машине. Кто-то из раненых сделал мне игрушку – деревянную стрелу с зазубриной на боку, которая цеплялась за «кнутик» – деревяшку с веревочкой – и запускалась резким движением руки вверх, метров на пятьдесят, давая возможность наблюдать за своим полетом. А самой, конечно, модной игрой в Эльтоне были «альчики». Бараньи позвонки. Когда в середку заливался свинец, это была «битка». «Альчики» стоили денег и хранились в матерчатых мешочках. К концу нашего пребывания в Эльтоне я уже хорошо играл и скопил целый мешок этих драгоценных для молодого игрока костей.
Вместе с другими голодными детьми я охотился на дроф. Дрофа – такой полустраус-полукурица с противным голосом. Вульгарное название этой большой и степенной птицы – дудак. Вечером дрофы садились на соленое озеро Эльтон и рапи́лись за ночь. То есть соленая вода пропитывала их крылья и перья, к утру присыхая так, что птицы были не в состоянии взлететь. Вот в этот самый момент надо было приблизиться к птице и специально подобранной дубиной трахнуть дудака по голове, убив его одним ударом наповал. Если же тебе не удавалось сделать это сразу, то тогда разъяренный дудак сам бросался за тобой в погоню, норовя вырвать из твоих ног и ягодичных мышц достаточные куски мяса. Что со мной однажды и произошло.
Выливание сусликов было трудоемкой работой, на которой я так и не разбогател. Шкурки сусликов сдавали за деньги, но для того, чтобы извлечь одного суслика, надо было вылить воды ведра три, а в засушливом Эльтоне вода была весьма дорогой.
Жизнь мальчишек была полна опасных приключений. Взрывы боеприпасов, попадавших в детские руки, покалечили многих моих дружков. Из разбомбленных составов мы добывали порох, ракетницы, а также американские «подарки» – горьковатые витаминизированные конфеты и шоколад в круглых картонных коробках. Потом делали заначку, которую складывали в оцинкованные ящики из-под патронов. Каждый из нас закопал по такому ящику, но потом, когда в сорок девятом году я вернулся за ним в Эльтон, оказалось, что кто-то откопал мой ящик раньше меня…
Неизгладимое впечатление детства – ощущение потрясения и восторга от бескрайней эльтонской тюльпанной степи. Белые, красные, желтые, лиловые тюльпаны затопляли собой пространство до горизонта. Спустя годы подобным детским потрясением для моего четырехлетнего сына Павла стал океан. Вода как стихия. Павлик пытался вычерпать океан на берег и перенести весь песок в воду. В доме, где мы жили в Бостоне, был бассейн. Я видел, как он был ошарашен возможностью прыгать в воду и ничего не боялся, совершенно сатанея от этого.
И еще одна деталь из моего детства. Тюльпаны имели обычай предваряться подснежниками, и к моменту рождения тюльпанов луковицы от подснежников – «бузулуки» – становились сладкими. Мы их выкапывали и ели.
Последней достопримечательностью военного Эльтона был золотарь Идальян, ездивший по городу на бочке с черпаком. Он был явно из Средней Азии и очень тосковал оттого, что женщины сторонились его из-за вони. В доступных выражениях он объяснял нам причину своей беды: «Вот такой судба». Он же пел песню: «Куда, малчик, ты пошел, ты малэнький, я болшой…»
Там, в Эльтоне, восьмилетним, я пошел в школу, где меня постигла первая влюбленность во время чтения немецкой сказки «Розочка и Беляночка» с Марусей Кантемировой. Мы с ней сидели в первом и втором классе за одной партой. Там же, в Эльтоне, в одной из больничных палат состоялось мое крещение в артисты – я участвовал в постановке довольно грубого военного скетча. У меня была всего одна фраза: «Папа, подари мне пистолет!», которую я и канючил на все возможные лады. И, судя по аплодисментам, весьма в этом преуспел. А если говорить серьезно, этот «сценический» дебют к моей последующей артистической карьере не имел никакого отношения. Для раненых я был не начинающим артистом, а малым существом, ребенком, очень напоминавшим им оставленных дома собственных детей. Само мое присутствие приводило их в радостное возбуждение, независимо от качества «постановки» и моей «игры». Вообще, выступления перед ранеными были в порядке вещей. Это сейчас об этом говорят как о чем-то экзотическом. Радио в госпитале не было, и я часто там пел: «В боевом, в боевом лазарете, где дежурили доктор с сестрой… на рассвете умирает от раны герой». Или еще:
Жил в Ростове Витя Черевичкин,
В школе он прекрасно успевал
И на волю утром, как обычно,
Голубей любимых выпускал.
Голуби, мои вы милые,
Что же не летите больше ввысь?
Голуби, вы, сизокрылые,
В небо голубое унеслись…
За выступления перед ранеными я получал либо компот, либо рисовую кашу с фруктами. Это была еда «избранных», то есть тяжело раненных пациентов госпиталя.
Сейчас мне кажется, что первым, хоть и не осознанным актерским опытом стало совсем другое событие…
Олег Табаков —
бабушкам Ольге и Анне
Здравствуйте, дорогие Буся и баба Аня!
Как вы живете?
Мы живем хорошо. Бусинька мама мечтает как война коньчится у Мирры учебный год Мирра поедет в Саратов а ты приедешь к нам немножко отдохнешь у нас и попьешь молочка.
Баба Аня ты не огорчайся что тебе приходится работать у чужих людей и помни что у тебя есть внук а кончится война то все будем вместе а что ты будешь работать у чужих людей не обращай внимания и смотри на это как на временный этап лишь бы тебе сберечь свое здоровье.
А пока досвиданя целую вас обоих ваш Олег.
(Солдатский треугольник из Эльтона, примерно 1943 год. Орфография и пунктуация сохранены.)
Баба Оля
В 1945 году умерла баба Оля. Наверное, самый дорогой мне человек. Она меня, полуживого, паршивого, всего в диатезе, приняла из роддома и выходила. Она была моей главной заступницей. Если вдруг отец – очень редко – поднимал на меня руку, баба Оля выводила меня за «линию огня».
Бабушка молилась не таясь у себя за загородкой, хотя иконы в комнате и не было. «Красный угол» заменял ей икону. Видимо, и меня она в детстве крестила, точно не знаю. В сознательном возрасте я крестился сам.
Никакие «молнии» с оплаченным ответом о смерти бабы Оли не могли дойти тогда в Эльтон. Только треугольничек солдатский, посланный бабой Аней, дошел. Мама, я и Мирра отправились домой на похороны на перекладных, на попутках.
Детская психика жесткая по своей сути. Ребенок не понимает, что такое смерть, хоть смерть и глядела тогда отовсюду. Вот я и испытывал незамысловатое детское счастье, что еду, наконец, из деревенского скучного Эльтона в мой любимый огромный Саратов.
Мы сильно опаздывали. В суете и спешке даже взрослый человек отвлекается от горя. Успели к выносу тела из дому, и меня с ходу усадили на полуторку, возле гроба. Все вокруг причитали, какой я несчастный, и я понимал, что надо как-то выражать скорбь, супить брови, морщить лицо… Но заплакать тогда я так и не смог. Сколько раз, много позже, уже будучи целиком в профессии, я оказывался в противоположной ситуации: реветь хочется белугой, а надо прыгать кузнечиком. И ведь прыгаешь, улыбаешься, давишь свою боль…
Смерть бабушки Оли – моя первая жизненная потеря. Первый актерский опыт в смысле силы эмоционального потрясения. Несмотря на все испытания военной жизни, на понимание, что у моих родителей, видимо, не все ладно, такого опыта негативных эмоций, которые обычно не касаются незамутненной детской души, еще не было. Первое горе и осознавалось мною не сразу. С годами.
Только живые ощущения составляют базис актерской профессии. Человеческие чувства – единственное золотое содержание нашего довольно жестокого и эгоцентрического ремесла. Если артист обладает багажом пережитых им чувств, он понимает, про что играет, и, значит, у него есть шанс для дальнейшего развития, для движения и самосовершенствования. Дальше он уже сам все может нафантазировать. Человеку с железной нервной системой, способному жить лишь на одной частоте и на одних оборотах, в нашем цеху делать нечего.
У меня есть одно почти патологическое качество – до сверхреальной наглядности представлять себе всяческие беды и напасти, которые могут приключиться с моими близкими и дорогими. Об этой опасной игре воображения как-то писал Михаил Чехов. Он сорвался со спектакля, внезапно во всех подробностях представив себе несчастный случай со своей матерью. Тут стоит только начать, и потом уже невозможно остановиться. Может быть, от этого и умер Евстигнеев – как представил себе во всех деталях процесс операции и все возможные ее последствия. Врачи не должны говорить такие вещи актерам. Знание порождает печаль… Это истина для меня.
Со смертью бабушки я перешел некий рубеж чувств, пусть и не осознав этого в момент самих похорон. Всю мою взрослую жизнь я каждый год приезжаю в Саратов отнюдь не из-за ностальгии по тому, что зовется «школьные годы чудесные». Ради родных могил на двух кладбищах. Баба Оля, дядя Толя, баба Катя, баба Аня лежат на Вознесенском, тетя Шура, отец, его первая жена Евгения Николаевна, мой сводный брат Женя, Наталья Иосифовна Сухостав – на Новом. Другие могилы уже в Москве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?