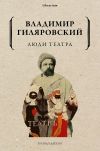Текст книги "Мечта о театре. Моя настоящая жизнь. Том 1"

Автор книги: Олег Табаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мама
Мама. Мама была человеком сложной и «извилистой судьбы», если выражаться словами Салтыкова-Щедрина из «Современной идиллии». Она родилась в 1903 году. Ее отец, Андрей Францевич Пионтковский, до семнадцатого года был крупным зернопроизводителем. Много позже, в середине Великой Отечественной войны, когда игрушек совсем не стало, среди прочих предметов моей скромной игротеки были дореволюционные сберегательные книжки на дядю Гришу, на тетю Олю, на маму, в каждой из которых стояла торжественная надпись с «ятями»: «Двадцать пять тысяч серебром к совершеннолетию». Кроме того, до революции семье принадлежал бело-голубой дом на Капри, купленный в шестнадцатом году…
Девочка-красавица росла среди таких же благородно красивых братьев и сестер. Вера, Ольга, Мария, Григорий, Анатолий – у Андрея Францевича было пятеро детей. Все они получили хорошее гимназическое воспитание, такое, что никакая революция уже не в состоянии была испоганить. Имение деда находилось в Одесской губернии, Балтском уезде, поэтому выговор даже у высоких слоев населения был своеобразный. Мелодика маминой речи на протяжении всей ее жизни отличалась каким-то особенным изяществом.
До мировой войны, то есть до десятилетнего возраста, мама, как и ее старшие сестры в свое время, находилась в частном пансионе, где девочек, помимо прочего, обучали правилам поведения в обществе. Однажды во время одного из таких уроков их заставили съесть блюдо из слишком сильно наперченных и несоленых кабачков, считая, что именно так должны воспитываться в юных барышнях стойкость и воля. Мама была самой младшей из воспитанниц, и остальные, более старшие девочки в течение полутора часов не поднимались из-за стола, ожидая, пока шестилетняя Мусенька, глотая слезы, не закончит свою горькую трапезу. Этот мамин опыт съедать заведомо невкусную еду оказался вещью в жизни чрезвычайно полезной, как всякая дисциплинирующая человека акция, в результате позволяющая ему стабильно распоряжаться своей психофизической системой.
Возвратившись в семью, девочка Муся поступила в гимназию. Страдание и потери во многом формируют человеческую душу. На ее долю выпало страдать много уже с детства. Сначала беда с братом. Дядя Гриша был старше ее лет на десять. На губернской конференции эсеров он вытащил жребий, по которому ему полагалось устроить теракт – убить кого-то. Оказавшись дома, Гриша вышел в сад, захватив отцовское ружье, снял ботинок, вложил ствол в рот и застрелился. Через некоторое время старшая мамина сестра Ольга забеременела от директора гимназии и, не желая подвергать любимого человека позору, тоже покончила с собой…
Первый муж мамы, юный Алеша Березовский, застрелился, поскольку подозревал маму в неверности, причем, как свидетельствовали и мама, и бабушка, безосновательно.
Откуда в жизни мамы возникла фигура ее второго мужа, Гуго Юльевича Гольдштерна, я не знаю. Гуго Юльевич был выходцем из богатой еврейско-румынской семьи, родившимся в городе Яссы, где его родным принадлежало несколько кварталов домов. Он ушел в революцию и за это был проклят семьей. Когда я читаю, как проклинают Сарру в «Иванове», я знаю, что в жизни так бывает на самом деле. С 1898 года у Гуго Юльевича шел революционный стаж, а с 1913-го – партийный. Он был другом Радека, другом Козловского, другом Сельского, который впоследствии стал председателем Комиссии партийного контроля, а также приятелем Бухарина, Рыкова; он был знаком с Лениным. А Сталин после разгона Интернационала послал его на шпионскую работу. Гуго Юльевич был «нашим человеком в Германии».
Будучи резидентом, Гуго Юльевич Гольдштерн в 1926‒1927 годах находился на побывках в Советском Союзе и носил тогу замнаркома здравоохранения Молдавской СССР, а потом был назначен заместителем директора медицинского учреждения со строгим режимом допуска – НИИ «Микроб» в Саратове. Стоит ли говорить, что это была всего лишь «крыша», которую власти дали нашему шпиону. Как они встретились с мамой, не знаю, никогда не интересовался. Но как возник этот брак, как кажется, мезальянс, с человеком на тридцать лет старше? Возможно, маме было необходимо довериться кому-то любящему и надежному, приклониться к нему… От этого брака родилась дочь Мирра, моя старшая сестра. Затем Гуго Юльевич уехал в Германию и Австрию продолжать свою работу, где и погиб. В наследство от него мне достался патефон фирмы «Виктор», на котором я слушал пластинки, немало обогащая свои музыкальные познания.
С моим отцом мама была очень счастлива. У Павла Кондратьевича сразу же наладились прекрасные отношения с Миррой, потому что для всех детей отец был неисчерпаемо интересным человеком, интригующим объемом своих знаний и обладающим уникальной способностью объяснять все на свете понятным, простым языком. Я в те счастливые времена ходил в немецкую группу, где дама старой закалки обучала малышей хорошим манерам. Потом все это зачеркнула война.
После развода с отцом мама, женщина гордая и красивая, наверняка могла бы устроить свою судьбу, но у нее на руках была обуза в виде нас с Миррой. Как человек долга, она поменяла свою женскую судьбу на детей. Русская традиция, в которой ничего героического как бы нет. Поездив по свету, я убедился, что в мире есть совсем другие женщины-матери, и ведут они себя совсем иначе. Правда, я встречал аналогичные российским ситуации в Финляндии и Венгрии, но более нигде. Последовательность, с которой несут свой крест российские женщины, и в частности моя мама, меня всегда впечатляла.
Мама работала на двух работах. Она была рентгенологом, а у рентгенологов рабочий день короче, и поэтому она ежедневно успевала «срабатывать» по две работы, отсутствуя дома с полдевятого утра и до полдевятого вечера. Места, в которых она трудилась, были тоже специфическими: кожно-венерологический диспансер и поликлиника облпартактива. Некая элитарность и избранность контингента в партактивской поликлинике контрастировала с пестрым набором посетителей диспансера, куда шли с триппером, трихофитией, лишаем гладкой кожи, экземой. Она была хорошим врачом, ей многое удавалось. Помню, как с помощью рентгена моя мать лечила лишай на голове у детей Кио.
Я бывал у нее на работе, был знаком с ее лаборанткой Валентиной Александровной и видел, насколько серьезно и основательно они относились к работе.
В быту Мария Андреевна довольствовалась малым. Ей вполне хватало кофточек и юбок, которые регулярно перешивались. Пожалуй, я не помню на маме новых вещей до того времени, как я стал зарабатывать сам.
Ну а душой мама всегда тянулась к прекрасному. Дело было не только в том, с какой аккуратностью она посещала концерты прибывающих в Саратов гастролеров – Святослава Рихтера, Дмитрия Николаевича Журавлева, Александра Николаевича Вертинского или Марины Семеновой, танцевавшей в Театре Чернышевского, но и в том, какой ценой ей доставались билеты. Я помню пару раз, когда мать, садясь с нами ужинать, говорила: «Деточки, у нас до зарплаты осталось столько-то, но я бы очень хотела пойти на концерт, вы не против?» И мы от души отвечали: «Конечно, иди, мама!», не осознавая грядущих разрушений в семейном бюджете.
Жизнь наша, особенно после войны, была скудной. Чтобы не голодать, мы покупали пять мешков картошки, бабушка солила кадку капусты, кадку огурцов и кадку помидоров (помирать буду, не забуду этих помидоров – я таких нигде больше не ел). Но мать, зная все это, не могла удержаться от общения с миром искусства, хотя и отказывала себе практически во всем ради нас с Миррой.
Естественной потребностью маминой души было грузинское правило: «Отдал – богаче стал». Ее сущность всегда была «помогательная». Она помогала не только нам, но и всем своим многочисленным саратовским друзьям. А в шестьдесят четыре года, выйдя на пенсию, отдала свою единственную комнату внуку Андрею, сыну Мирры, чтобы тот смог выстроить себе кооператив, при этом сама осталась без жилья и, к моей великой радости, приехала жить к нам в Москву.
С Миррой у нас отношения сложились непростые.
Мирра была здоровой девушкой – кровь с молоком, могла дать сдачи любому мужику, да и за словом в карман не лезла. Разница между нами была восемь лет, и, поскольку я был младше, мне доставались и ласка, и внимание. Я был незаслуженно везучим в ее глазах.
Мы никогда не были особенно близки с сестрой. Хотя был один момент, когда в детстве я колол дрова на кухне и глубоко рассек себе голову. И Мирра, подхватив довольно тяжелого двенадцатилетнего мальчишку на руки, потащила меня к матери в поликлинику. Больше никогда в жизни я не чувствовал и не любил свою сестру так, как в тот момент, когда она меня спасала.
Думаю, что Мирра подозревала маму в исключительности отношения ко мне и была обижена этим. В то же время у меня были прекрасные отношения с мужем Мирры, Володей Турчаниновым, человеком симпатичным и добрым. Только однажды мама преступила границы дозволенного, по просьбе Мирры заставив меня организовать прием моей племянницы Лены в ГИТИС.
Почему-то мама не любила рассказывать о своем гимназическом актерском опыте, когда она играла Марину Мнишек в отрывке из «Бориса Годунова». Но почти чувственно участвовала в моих актерских успехах. По нашему московскому телефону невозможно было дозвониться после очередного показа по телевидению или премьеры в театре, на которой мама побывала.
Из того немногого, что мне удалось вернуть ей в ответ на бесконечное добро, которым она осыпала меня в течение жизни, помню мой творческий вечер в Доме актера, когда Василий Осипович Топорков рассказывал, как я играл Хлестакова в Праге. И мать там была, слушала, рыдала. Для родителя невероятно важно дожить до момента, когда его ребенок добивается вот такого признания среди профессионалов. И она видела мой успех. Это самое главное.
К винам своим перед мамой я отношу то, что не очень хорошо защищал ее от Мирры в последние годы, когда пару лет мама проводила летние отпуска вместе с ее семьей, где маме приходилось тяжко. Это все моя дурацкая черта – «не буду вмешиваться». По делу надо было сказать «нет», дать денег, нанять человека, который бы следил за детьми, и таким образом освободить мать. Но нет, не вышло.
Мама, конечно, была плохим педагогом – строгость не была ее талантом. Никогда не кричала, не шлепала нас с сестрой. Она была беспомощна перед плохо воспитанным Антоном, который нарушал все нормы поведения, а мама только приводила ему в пример благородство поведения его папы.
Ее система «красивых аналогов из жизни других людей» совсем не воздействовала на молодое поколение, которое проходило мимо этого и шло дальше, не замечая «потери бойца». Помню, я подсмотрел жутковатый психологический опыт Антона, когда мама, почти разрываясь и доводя себя до высоченного давления, что-то внушала ему. А мальчик «отключил» звук и спокойно занимался своим делом, не реагируя на бабушкины речи. Я увидел, как она беспомощна перед ребенком. Надо было просто дать ему по попе, чтобы восстановить его коммуникативную способность, но она на это не была способна.
Может быть, единственный раз мать попыталась вмешаться в мою личную жизнь, когда давала мне рекомендации по поводу моей предстоящей женитьбы, но более этого не делала никогда, что позволяет мне с уверенностью сказать, что она была деликатным человеком. Ласковым. Когда судьба намеревалась мне дать очередной пинок, у меня все время было ощущение, что мама подставляет под этот удар свою руку. Меня согревало ощущение ее готовности защитить, уберечь, оберечь. Защищенность маминой любовью – тот мощнейший фактор, который выполняет свою охранительную функцию вот уже очень долго, с того момента, как я себя помню. Лет с четырех.
Скандал, выяснения, слезы и крик как реакция на мои детские проделки и грехи не действовали на меня так, как то, что ко мне в этот момент подходила мать и гладила меня по голове. Вот тут уже я начинал плакать. В маме было сильно развито желание успокоить душу. Она никак не могла получать удовольствие от того, что держит зло на кого-то или на что-то. Это от нее усвоил и я.
Ее взаимоотношения не носили сезонного характера. Она была человеком, чувствующим сильно, постоянно, долговременно. Разрыв с отцом только драматизировал ее любовь, а не исчерпал. Между тем мать была мало подвержена чужому влиянию – крайних радикальных взглядов не принимала и, что называется, отходила в сторону.
Мать была верным другом. Круг ее подруг в Москве, когда она уже переехала к нам, был не очень велик: две старые большевички, а также Мария Арнольдовна Арнази, свояченица Тихона Николаевича Хренникова, и мама Вали Никулина, с которой Мария Андреевна обсуждала проблемы психологической остойчивости Валентина Юрьевича. Прекрасно ладила с моими друзьями. И совсем необычные отношения у нее были с Колавной, Марией Николаевной Кац, которая тоже жила у нас. Такая дружба-борьба. Но они обе как-то умудрялись сохранять, при всех жизненных крайностях и разности воспитания, позитивный нейтралитет. Не было в матери такой примитивной ревности: «Ах, если я здесь, то пусть никого больше не будет». Она очень высоко ценила дружеское отношение ко мне со стороны многих людей и никогда не перераспределяла эти отношения, не пыталась в них что-то дифференцировать и корректировать, как это бывало с некоторыми людьми. Она была человеком большой терпимости.
От мамы исходило ощущение доверия. От нее я унаследовал мою психологическую остойчивость – сопротивляемость крайним психологическим ситуациям, жизненным стрессам, когда энергия твоего оппонента навязывает тебе нечто, что ты принять не можешь. Или когда сама жизненная ситуация ставит тебя вроде бы как в безвыходное положение.
В этих случаях в запаснике души человека должен срабатывать некий защитный механизм, который и убережет его от крайностей, подскажет, как правильно вести себя. Конечно, есть правила, нарушать которые нельзя. Нельзя свинничать, нельзя хамить. А если это случилось, необходимо извиниться. Мне было неловко за людей, которые ударяли меня. Ответить ударом на удар – все равно что уподобиться шимпанзе. В детстве я раза два ходил в боксерскую секцию, где оба раза мне в кровь разбивали нос. И, хотя я тоже разбил кому-то нос, таким это занятие мне показалось некрасивым и скучным, что конечным выводом было: «Нет, это мне не нравится, и этим я больше заниматься не буду». Психологическая остойчивость – это поддержание определенных взаимоотношений, которые тебя устраивают, между тобой и окружающими тебя людьми. Люди «слушаются» меня потому, что моя воля никогда не несет в себе попытки разрушения личности контактирующего со мной. Мама была именно таким человеком. От нее я узнал, что личная свобода человека не должна ущемлять свободы окружающих его людей. Что человек, будучи существом высокоорганизованным, очень отзывчив на регулярность добра и отсутствие раздражения. Что очень важно не попрекать добром, потому что даже самое хорошее портится, когда напоминают: «Тебе вот что, а ты вот как…» Это плохой способ воспитания, и мама к нему никогда не прибегала.
И в последние годы мать жила моими заботами, наблюдая, как подвальными ночами материализуется моя мечта о театре. Ее не стало, когда ребята из первой моей студии перешли на третий курс. Я взрослым-то стал, когда мама умерла. В тот день я репетировал «Обыкновенную историю» в подвале на Чаплыгина. Вдруг пришли Людмила Ивановна и Галина Борисовна Волчек. По тому, как молчала Люся Крылова, я понял, что случилось…
Как только в моей жизни, в моем деле начинаются проблемы, я сажусь в машину и еду в Долгопрудный, на кладбище. Приберусь, помою камни, постою рядом с могилой – и выравнивается не только в душе, но и, чудесным образом, в делах. Моя инстинктивная потребность побыть рядом с мамой всегда приносит мне удачу.
Мужская школа – мир брутальный
В школе учиться было совершенно не трудно. За пятерками не гнался, скорее, самообразовывался. Без какой-либо системы. Общего развития хватало на среднюю оценку. К тому же, представляя школу на всяческих смотрах самодеятельности, был полезен начальству. Никакой общественной – пионерской, комсомольской – работой не занимался, поскольку был слишком для этого честолюбив. Искал иной, более громкой славы.
Мужская средняя школа № 18 была одной из трех лучших в городе. Рядом находилась школа № 19, считавшаяся более престижной, школой для детей начальства, для «золотой молодежи». К примеру, ныне известный адвокат Генри Резник учился именно там. У нас все было попроще.
Педагоги на мои учебные грешки закрывали глаза. Последние три класса я вообще перестал учиться, весь ушел в театральную самодеятельность. Химия, физика, математика – все это был темный лес. Спасибо Маргарите Владимировне Кузнецовой, моему классному руководителю, которая и окончила школу за меня, довела до молочно-восковой спелости.
В классе меня любили, хотя я был домашним мальчиком, не особо компанейским. Одни звали почему-то Алешей, а другие – профессоренком из-за моей хорошей памяти, которой я пользовался в корыстных целях: справочку дать, что-нибудь увлекательное рассказать…
Мужская школа – мир брутальный. Вполне в духе «Очерков бурсы». Не просто кнопки на учительские стулья подкладывали. Посерьезнее и повульгарнее затеи проворачивали. Как говорится, из области телесного низа. Матерное и по форме, и по содержанию. Когда училка по русскому диктовала: «Под голубыми небесами… под голубыми небесами… запятая… великолепными коврами… великолепными коврами… запятая… блестя на солнце…», – а ей вдогонку один из оболтусов подсказывал популярное односложное слово: «…лежит». Успех, просто не сравнимый ни с чем. Какой подвиг нужно совершить, чтобы встать рядом с таким героем!
Среди нас был парнишка, просто кавалер всех орденов Славы в наших глазах: он прямо в классе баловался онанизмом. Так, чтобы все это видели. И зачем-то это дело еще мазал чернилами. Почище, чем у Феллини будет, у которого в «Амаркорде» просто автомобиль дрожит. Всем было неловко, но смешно. Мы восхищались его отвагой, его беззастенчивой шкодливостью, смелостью, которая мне лично была неведома. Однажды за этим занятием его застукала англичанка, которая обычно не выходила из-за стола, потому что была на седьмом месяце беременности. А тут вдруг выползла, ну и… В общем, его отчислили. Но он еще показал себя. Туалет в нашей школе был общим для школьников и педагогов, «педагогическая» часть отделялась лишь невысокой перегородкой. Так вот, он подкараулил момент, когда директор пошел в туалет, быстренько навалил на дощечку и, рассчитав угол падения и угол отражения, запустил этот маленький презент в потолок ровнехонько над директором. Попал.
Конечно, мы игнорировали записанное в «Правилах школьника» положение: «Запрещается играть в карты на деньги и вещи». Играли, и очень даже азартно, – и в карты, и в пристенок. Впрочем, самый азартный карточный период моей жизни связан с «Современником», когда мы ночи напролет дулись в преферанс и в очко – и на деньги, и на удары по заднице.
Орган семейной профсоюзной организации «За домашний уют»
Еще одно выражение заботы о нашем народе
1 апреля газеты принесли радостную весть. Наше правительство и ЦК КПСС решили провести очередное (шестое по счету) снижение цен на продовольственные и промышленные товары.
Трудно найти слова, чтобы выразить благодарность партии и правительству за заботу о нашем народе.
Наша семья выиграла благодаря новому снижению около 200 (двухсот) рублей. На эти деньги мы думаем приобрести новые ботинки О. П. Табакову.
Член нашей семьи, студентка вечернего университета марксизма-ленинизма М. А. Березовская, говорит: «От всего сердца я говорю спасибо нашей партии и правительству… Со своей стороны обязуюсь смотреть на 2‒3 желудка и на 3‒5 грудных клеток больше, чем до снижения розничных цен…»
По следам наших выступлений
18 марта в нашей газете сообщалось, что семья Турчаниновых не проявляла должного внимания к своим родственникам, задержала отправление посылки с продуктами (соленая рыба и 3 банки сушеных сливок).
Как передает наш спецкор из Холмска, должные меры приняты. Председателю профкома семьи Турчаниновых тов. В. Г. Турчанинову поставлено на вид. Посылка выслана.
(Домашняя стенгазета восьмиклассника Олега, 1950 год.)
Театр моего детства
В моем саратовском детстве не было телевидения, а по радио мы могли слушать только: «Все мы капитаны, каждый знаменит…» или «Вырос я в Италии, там, где зреют апельсины, и лимоны, и маслины, фиги и так далее…»
Приобщать к прекрасному мама начала меня довольно рано. Первый раз она повела меня в театр на балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» еще до войны. Самые горячие мои чувства оказались шовинистическими. Будучи на четверть поляком, я страшно негодовал по поводу татарских набегов на польское государство и очень сочувствовал Марии, которую принуждали к сожительству. Тем более ее партию танцевала, как говорила бабушка, пидстарковатая звезда, и мне было по-человечески жаль эту пожилую женщину. Тогда же я смотрел в Саратовской драме пьесу о Суворове. В моду как раз вошла патриотическая драматургия. Великий полководец съезжал на жопе с горки из папье-маше незабываемо бурого цвета. Однако даже тогда мои познания об Александре Васильевиче Суворове значительно превосходили то, что могла себе позволить советская пьеса. Благодаря книжкам дореволюционного марксовского издания я всегда неплохо знал российскую историю.
В начале войны, в сорок втором году, в Саратов эвакуировали МХАТ. Долго у меня хранились мамины программки с именами Тарасовой, Грибова, Москвина… Меня повели на «Кремлевские куранты». Я заснул и проснулся только тогда, когда Борис Николаевич Ливанов, игравший матроса Рыбакова, закричал что-то зычным голосом. Больше никого не помню. Даже Ленина. Видимо, потому, что другие персонажи не попадали в круг моих детских представлений и знаний так, как Суворов…
Потрясающе глубоким для детского восприятия оказался спектакль, показанный в госпитале № 4157 в городе Эльтоне, поставленный силами театра из районного центра Палласовка. Давали «Платона Кречета». Платон Кречет, измученный долгой операцией на партийном начальнике, устало поднимался по жидкой лесенке в три ступеньки и на пределе человеческих сил произносил: «Жизнь наркома… спасена» – и падал в обморок от усталости.
А после войны, в Саратове, наиболее серьезное воздействие на меня оказал актер саратовского ТЮЗа Александр Иванович Щеголев. Характерные его роли в некотором роде для меня эталон. Мастерское владение профессией. Щеголев потом уехал из Саратова в Норильск.
Меня вообще привлекали актеры острой характерности. Герои меня не интересовали вовсе. Завораживало умение. Для вполне обычного молодого человека мои художественные пристрастия были несколько нетипичны. Любимым фильмом был не «Тарзан», не «Королевские пираты» или «Одиссея капитана Блада», а «Судьба солдата в Америке» – так в советском прокате называлась картина «Бурные двадцатые годы». Какая там несуетливая подлинность! Героя звали Эдди Бартлет. Он для меня так и остался навсегда Эдди Бартлетом, реальным человеческим лицом. Фамилией артиста никогда не интересовался.
А «Подвиг разведчика»? Как восхитительно там грассировал Павел Кадочников! Как он, простой советский человек, мог так потрясающе и изящно грассировать? Хотелось самому научиться этому.
Уже тогда меня интересовали в театре и кино не сюжетные, развлекательные, а, так сказать, производственные моменты. Элементы актерского ремесла. Был просто влюблен в великих старух: Варвару Осиповну Массалитинову, например, в картине «В людях». Или Варвару Николаевну Рыжову в экранизации спектакля Малого театра «Правда хорошо, а счастье лучше». Аллой Тарасовой и прочими героинями не интересовался. Казалось, что так, как Тарасова, и я сыграть могу. А вот как Рыжова – нет.
В этих старухах была тайна. На экране были шкафы, комоды, полати, печка. И Массалитинова среди этих вещей, сама из ряда этих безусловных реалий. Я бы сказал, виртуальная реальность, рожденная во плоти.
Из того же ряда безусловностей Николай Комиссаров в роли старого унтер-офицера в пьесе «Правда хорошо, а счастье лучше». Замечательный, конечно, артист Борис Бабочкин, но не выходил у него там такой инфернальный монстр.
Восхищали фантастические, казавшиеся беспредельными выразительные возможности профессии. Поражало умение. Поэтому, наверное, я так любил и люблю цирк.
Цирк моего детства сохранил еще многие составные части дореволюционного цирка – номера, которых сейчас, конечно, уже нет. Безрукий артист Дадеш – он все делал ногами: писал, рисовал шаржи на сидящих в первом ряду, стрелял из пистолета и из лука. Лучшие, конечно, номера – Вяткин, Берман, Карандаш. Вяткин с собачкой Манюней, Карандаш с Кляксой. Сестры Кох в «Волшебном колесе» – гонках на мотоцикле, замечательные акробаты Запашные, ставшие потом укротителями. Укротитель Эдер. Старейший укротитель Гладильщиков. Он выходил на арену в расчесанном на две стороны парике и камзоле князя Гвидона, хотя ему было явно под семьдесят. Фантастический китайский цирк (у нас в то время было обострение любви с Китаем): акробатика, жонглирование трезубцами, мечами… Венцом всего этого, конечно, был ежесезонный чемпионат французской борьбы, в котором участвовали обладатели волнующих фамилий: Аренский, Аузонио, Виллибур. Обязательно были негр (звали его Франк Гуд) и великан Осман Абдурахманов ростом два метра десять сантиметров. Но в конечном итоге побеждал «Николай Петров, Саратов». Сначала он боролся в черной маске, а потом уже без нее. Четыре года подряд я ходил любоваться этой безусловной мистификацией с заранее определенными победителями.
В Саратове был странный, не вызывающий у меня никаких эмоций Театр имени Карла Маркса со знаменитыми «фундаментальными» актерами: Слоновым, Муратовым, Каргановым, Несмеловым, Щукиным, Сальниковым, Соболевой, Гурской, Колобаевым, Высоцким, Степуриной…
Каждый год Театр Карла Маркса уезжал, видно подкормиться, на Украину, потому что в Саратове с едой были проблемы. А взамен нам присылали «музично-драматични» театры: «Сумський, Харкивський, Полтавський». Это было что-то! Украинский театр был совершенно особым, жутковатым по сентиментальности и слащавости. «Наталка-Полтавка», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорницi», «У недiлю рано зiлля копала», «Украдене щастя» и так далее, и так далее: «Ти блука-а-аєш днi i но-о-очi, ну а я сиджу одна…» Пять слов текста, а остальное – «ня-ня-ня, ля-ля-ля». Вот и весь этот ландринно-повидловый театр. Самые беззастенчивые «сопли в сахарине», полная театральная жуть.
Между тем я был самым примерным посетителем этих постановок. Пытался затащить друзей, те убегали в ужасе. А мне было смешно: я улетал, глядя, как они все мучаются и страдают. Это был мазохизм, но совершенно очевидно, что это повидло манило меня, хоть я себе и не признавался в этом.
Только однажды в наш город приехал настоящий украинский – Театр имени Ивана Франко. Великий Амвросий Максимилианович Бучма, Гнат Петрович Юра, Наталия Михайловна Ужвий. На тех же самых пьесах я плакал – не смеялся. Оказалось, что тот же самый материал может стать трагедией.
«Музично-драматични» театры, кристаллизовав идею дурного, сделали полезную прививку от экзальтированного сентиментализма, мне, по эмоциональной природе своей, близкого. Стало понятно, что так делать категорически запрещается.
Совсем другим театром был саратовский ТЮЗ под руководством Юрия Петровича Киселева, который, по сути дела, и пробудил во мне мечту или мысль о театре. Поначалу мне казалось, что этот театр не имеет ко мне никакого отношения. Киселев собрал команду мощных актеров: Начинкин, Чернова, Черняев, Давыдов, Ремянников и молодые, которых он сам обучил и выпустил в жизнь: Быстряков, Сагьянц, Ермакова, Строганова, чуть позже Рая Максимова. По тем временам саратовский ТЮЗ был едва ли не самый живой театр в стране… Там шел «Овод» с тем самым поразительным актером Щеголевым, «Похождения храброго Кикилы», «Аленький цветочек». И даже научно-фантастический спектакль «Тайна вечной ночи», где под странные звуки и бульканье батискаф опускался в какую-то немыслимую впадину в Японском море. Там были передовой француз, передовой японец и даже передовой американец, хотя, конечно, были и зловещие американцы, которые препятствовали погружению во впадину советского профессора Кундюшкина…
А потом я посмотрел в ТЮЗе спектакль по пьесе Розова «Ее друзья». Вроде сентиментальная история, как ослепшую девочку поддерживают одноклассники. И вдруг я неожиданно почувствовал, что все происходящее на сцене имеет отношение ко мне. Тогда я впервые понял, что театр рассказывает о жизни.
Следующий театральный шок постиг меня с большим перерывом. Меня послали на пароходе «Анатолий Серов», как активного участника самодеятельности, в Москву, где я хотел купить фонарик «магнето». «Магнето» вырабатывал энергию от того, что ты нажимал пальцем на рычаг; рычаг многоступенчатой передачей соединялся с динамо-машинкой, которая вырабатывала и подавала ток непосредственно на лампочку. Но магазины были закрыты, фонарика я не купил, а попал в филиал МХАТа на «Три сестры» и обалдел. Три часа сидел, плача и боясь пошевелиться.
Позже, когда я уже поступил в Школу-студию МХАТ и когда в Москву привезли спектакль Питера Брука «Гамлет», я пережил не меньшее потрясение. Вот уж действительно: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» Огромный, большеглазый, худой Пол Скофилд метался по сцене, а я это все воспринимал, как историю про себя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?