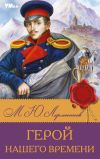Текст книги "Клятва разведчика"

Автор книги: Олег Верещагин
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
11
Рассвет был какой-то не летний, серый и робкий. Он вползал в щели неохотно, словно ему было стыдно за то, что он должен принести людям в сарае. Я лежал на соломе и ни о чем не думал. Голова была пустая и легкая. Спать не хотелось совсем и страшно не было. Я смотрел, как медленно светает, слушал какие-то звуки просыпающейся деревни и видел спину Сашки, который, не отрываясь, смотрел в широкую щель. Потом, когда стало почти совсем светло, Сашка повернулся и сказал негромко:
– Вставайте, нас расстреливать идут. Яму выкопали.
Сергей Викентьевич и Эйно завозились и сели. Я понял, что они тоже не спали. Все тот же серый свет обрисовывал их совершенно спокойные лица. Сергей Викентьевич пробормотал:
– Побриться бы, а то зарос… – под его ладонью отчетливо зашуршала щетина на подбородке. – Ну что, значит, все… Встали, а то подумают, что мы боимся.
Мы поднялись – все четверо. Сергей Викентьевич положил ладони нам на плечи, и я услышал:
– Будьте мужчинами… – и не понял, о чем он говорит и кому.
Дверь открылась.
За нею не было ни солнца, ни утра – ничего, кроме тумана, в котором чернели ветки кустов, забор и отвал свежей земли. Совсем рядом, шагах в десяти от сарая. По обе стороны двери стояли с полдюжины карателей в глубоких шлемах, с винтовками. Около ямы виднелись еще двое – похоже, местные полицаи. Немец был только один – высокий, худощавый, стройный и улыбающийся. Не тот, который меня допрашивал вчера. Но тоже эсэсовец – под маскхалатом виднелись петлицы.
– Кто рано фстайот, тому Бок потает, – сказал он. – Топрое утро, товарищи коммунисты. Прошу на расстрел.
И он сделал изысканный жест рукой. Я вяло подумал, что немец боксер – очень характерные пальцы – и пошел к двери первым. Один из карателей взял меня за плечи, второй каким-то тросом быстро скрутил запястья за спиной. От обоих пахло сырой формой и табаком. Трос больно врезался в тело, но я ощутил эту боль, как нечто очень далекое. Больше всего мне хотелось, чтобы выглянуло солнце. Хоть на секунду.
– Ну, пошел, – сказал немец весело. – С Боком.
Трава оказалась обжигающе холодной. Я считал шаги и смотрел на нашивку идущего слева карателя. Черный – наша эстонская земля… синий – наше эстонское море… а белый – снега Сибири, куда вас, козлов, всех сошлют… И ведь сошлют. Исторически доказано. Только я, Борька Шалыгин, сейчас погибну от рук человека, которого для меня, Борьки Шалыгина, и нет, быть не должно…
Свежевырытая земля была неожиданно намного теплее травы, я переступил на нее почти с удовольствием. Она поползла под ногой, я качнулся и почти упал, но один из полицаев – молодой, с какими-то больными глазами – поддержал меня и сказал:
– Это… осторожней.
Его напарник – невысокий и толстый, с маленькими глазками – заржал и кивнул:
– Это верно. А то упадеть – чего сломаеть ишо, – и замахнулся на меня прикладом: – Змееныш!
– Хальт! – крикнул эсэсовец, и полицай испуганно вытянулся в струнку.
А на меня обрушился страх, и это было отвратительно. Туман заплясал, закружился, в ушах взревело, рот наполнился вкусом горячего металла, а живот свело мучительной судорогой и я едва удержался от того, чтобы не наложить в штаны. Даже в бою я так не боялся! Очевидно, Сашка заметил это – он подставил мне плечо и прошептал:
– Ну держись…
– Я… ничего… – с трудом ответил я. Приступ отхлынул, но страх остался – леденящий страх, замешенный на понимании, что сейчас меня убьют. И уже ничего не изменить, не спастись, даже чудом – нет партизан, которые вот сейчас должны ворваться на околицу под победный автоматный треск… Я покрепче прикусил губу и встал прямо.
Какая же теплая и сырая земля…
Каратели не спешили строиться. Один из них что-то сказал Эйно, мотнул головой недвусмысленно – отойди в сторону. Эстонец страшно побледнел, глаза сузились, и он отвернулся с такой гадливостью, что каратели недобро запереговаривались. Но ропот умолк – от сарая шел офицер. Он шел неспешно, пощелкивал по штанине маскхалата прутиком и насвистывал что-то бодрое. Носки сапог блестели от росы, и я смотрел на них, как завороженный. Мне казалось, что немец идет медленно-медленно, и я желал, чтобы тот не дошел никогда. Шаги были длинные и тягучие, как кисель. Может, он и правда не дойдет? Не может он дойти, потому что я не могу умереть…
Офицер встал перед приговоренными. Перед нами. Он по-прежнему улыбался, но в глазах улыбки не было.
– Он стелаль сфой випор, – подбородок указал на Эйно. – Но ви еще мошет спасти сфою шиснь. Это просто. Кто кричит: «Шталин капут!» – он перестал улыбаться, – тот жифет. Кто нет – тот бутет мертф. Все просто. – Он бросил прутик через головы стоящих у ямы людей в нее и коротко рассмеялся. – Я срасу его отпускаю. «Шталин капут!» – и… – он сделал широкий жест рукой. – На фсе шетирь стороны. Зо? – он сделал шаг влево и кивнул Сергею Викентьевичу.
– Могли бы и не задавать этот вопрос, – казалось, что Сергей Викеньтевич ведет светскую беседу. – Вы же знаете, что я коммунист.
– Ти мертф. – Эсэсовец улыбнулся, и я обмер от этих слов.
– Вы тоже, – сказал Сергей Викеньтевич. – Просто вы этого еще не поняли… Мальчики, – он чуть повернул голову, – крикните. Я приказываю. ОН простит. Вы должны жить. Понимаете, должны жить. Вы будущее страны.
– Кароший совет. – Эсэсовец шагнул к Сашке. – Ти?
– Гитлер капут, – сказал Сашка. – Простите, дядь Сереж… но на губу за нарушение приказа вы меня уже не посадите. Гитлер капут, – повторил он, снова повернувшись к немцу. – Всем вам капут. Повторить?
– Ти мертф. – Немец снова улыбнулся и шагнул ко мне. – Ти бутешь жиф? Или ти есть еще отин мертфец?
Я слышал, как свистит в моем собственном горле дыхание. Как ветер в трубе. Я жив. Я дышу. Я хочу жить. Пусть как угодно, но жить. «Сталин» для меня – просто слово. Человек с трубкой и усами, погубивший миллионы своих сограждан, чуть не проигравший эту самую войну. Я опустил глаза. Ноги были грязные. Помыть бы. В ванну бы. Лечь в горячую ванну и лежать, и чтобы мама потом позвала: «Ну скоро ты, за стол пора, остывает все!» Откуда-то возникла дикая, но непоколебимая уверенность: сейчас меня отпустят, я пойду, просто пойду – и вернусь домой. Так же странно и необъяснимо, как попал сюда. Обязательно. Мне казалось, что я думал долго, страшно долго – и удивительно было, что эсэсовец не торопит…
ЖИТЬ! ЖИТЬ!! ЖИТЬ!!!
Я поднял голову, облизнул царапающие язык губы и отчетливо сказал, глядя прямо в глаза немцу:
– Обоссышься, тощая жопа.
Сашка засмеялся – весело и бесстрашно – и подтолкнул меня плечом (я чуть не упал в яму):
– Молоток!
Немец покачал головой и кивнул старшему из полицаев. Тот со злорадной охотой, враскорячку, подбежал ближе, сдергивая с плеча винтовку:
– Кончать, пан начальник? Это… шисен?
Немец кивнул и, отойдя в сторонку, склонил голову к плечу. Он смотрел почему-то только на меня. И я смотрел на эсэсовца, пока не грохнул выстрел – и Сергей Викентьевич, согнувшись вбок, упал в яму. Его рубашка расцвела алым напротив сердца. Тогда я, не помня себя, крикнул немцу:
– В мае сорок пятого наши возьмут Берлин!
Винтовка, нацеленная в грудь Эйно, дрогнула и опустилась. Полицай с испуганным лицом повернулся к эсэсовцу… и тут же одновременно произошло несколько событий – молниеносных и путаных, неожиданных даже для меня, хотя я принимал в них самое живое участие.
Сашка вдруг присел, отчаянным прыжком взвился в воздух, перемахнул яму и побежал в туман. Он бежал неловко, мешали связанные руки; полицай с матом рванулся вперед, но я метнулся и всем весом тела сшиб его наземь. Вокруг кричали, ревел, как бык, Эйно, меня начали бить ногами, попадая по старым побоям, а потом подняли за волосы… но Сашки не было видно, и я засмеялся, сам того не ожидая:
– Сбежал, гады! Сбежал! А-аххх-ха-ха, сбежал! Беги, Сань, беги-и-и-и!!!
Полицай замахнулся прикладом. Я плюнул ему в лицо, попал. Меня толкнули на край, к Эйно, лицо которого было в крови. Эсэсовец, оскалившись, широким шагом приближался, расстегивая рыжую кобуру. Убьют?! Расстреляют?! Пусть! Брызнуло бледное пламя из нескольких стволов сразу, Эйно толкнул меня за спину, что-то горячо ударило в бедро – и я полетел в сырость, в запах земли, в бездну.
Когда я очнулся, то понял, что меня зарыли. Жутко мозжило левое бедро, но это я заметил только в первые секунды, когда пытался определить, что навалилось мне на грудь так, что трудно дышать и почему такая беззвездная и тихая ночь?
А потом до меня дошло, что я похоронен заживо.
Я окостенел. Мозг замер, завис, отключился. Мои связанные руки ощущали что-то… и я понял, что это такое – человеческое лицо. Нос. Зубы. Глаза. Пальцы касались их.
Эйно. Это мертвый Эйно.
– Помогите, – сказал я, и в рот равнодушно посыпалась земля. Я вытолкнул ее и крикнул: – Помогите! – и опять вытолкнул засыпавшую рот сырую, пахнущую грибами и рекой, землю. Но она была вокруг, она лежала надо мной – между мною и воздухом, небом, травой. Ей было все равно, что я жив и дышу.
И я понял, что это не просто земля. Это – могила.
Моя могила!!!
Тогда я закричал – жутко, отчаянно, протяжно – кашляя и выплевывая землю, завыл и начал с безумной быстротой и целеустремленностью рваться наверх, изгибаясь всем телом. Я греб и отталкивал, отталкивал и греб землю, а она сыпалась и сыпалась, выдавливая своей равнодушно мертвой тяжестью остатки воздуха, остатки жизни, не отпуская, обволакивая… Потом я увидел свет – водопады света, лавины света, разрывы света – и подумал, что умираю.
Но не перестал бурить землю, как червяк…
…Сашка поверил, что убежал, только когда ноги больше не смогли нести его. Он рухнул на бегу – на живот с размаху – и какое-то время не мог дышать и ничего не понимал от боли. Потом с трудом сел и прислушался.
В лесу был только туман и больше ничего. Сашка сидел минут десять. Потом упал на спину, на связанные руки, и сказал со всхлипом:
– Ж-живхх…
Совсем рядом оказался тихий ручей с темной водой, дно выстилал коричневый ковер прошлогодних опавших листьев. Сашка напился, потом сунул в воду голову, вытащил ее, помотал, фыркая. Его била дрожь. Он посидел на берегу в неловкой позе – ноги вбок, связанные руки за спиной опираются о землю, – прислушиваясь. Нет, тихо по-прежнему. Сашка стиснул зубы и стал перетаскивать руки из-за спины вперед через ноги. Сжавшись в клубок, он тянул и тянул, тихо бормоча матерные ругательства и шипя от боли – трос вспарывал кожу.
Сашка тянул. Потом долго мочалил зубами и рвал оказавшийся впереди узел, мокрый от пота, слюны и крови. В глазах темнело от злости и натуги. Отхаркиваясь и не переставая ругаться, Сашка драл трос, вцепившись в него, как хороший сторожевой пес.
Освобожденные руки кровоточили. Сашка промыл их в воде и снова поболтал в ручье головой. Теперь ему стало холодно. Но он думал не об этом, а только о том, что надо вернуться. Обязательно вернуться, чтобы убедиться, что остальные мертвы. Может быть, это было глупо, но Сашка не видел Эйно и Борьку мертвыми и не желал признавать их гибель. Особенно Борьки. С этим парнем его связывало столько всего, что его смерть казалась просто невозможной. Они выбрались из того проклятого поезда. Они столько пережили всего за одни сутки, что Борька стал почти что частью Сашки – как брат, больше, чем брат.
Сашка обязан был убедиться, что Борька мертв.
Холма почти и не было – так, горбик-проплешина свежей, но уже подсохшей под лучами полуденного солнца земли. Сашка присел рядом. Почему-то совсем не было страшно, что сейчас из-за сарая могут выйти фашисты и увидеть его. Второй раз не убежишь… Но это не беспокоило.
– Сергей Викентьевич, Эйно… – он потрогал ладонью землю. – Борь… Это. Значит. Прощайте… – и шмыгнул носом. Нет, не от слез. Холодно было от мокрой одежды… – Простите. Я… – и Сашка замер.
В его ладонь передалась отчетливая и рваная дрожь земли.
Издав короткий невнятный звук, Сашка сел на мягкое место, чувствуя, как встают дыбом волосы. Он хотя и не был пионером, но никогда в жизни не верил ни во что такое. Но… Еще секунда – и он бросился бы бежать быстрей, чем от карателей, опять не разбирая дороги и не останавливаясь. Но сделал над собой усилие – и ужас отхлынул.
– Живые!.. – вырвалось у него. Через секунду Сашка рыл землю там, где ему почудилось шевеление… нет, не почудилось!!! Не глядя по сторонам, он расшвыривал землю горстями, срывая ногти… пока не схватился за что-то, оказавшееся рукой, – белые растопыренные пальцы сомкнулись вокруг запястья Сашки так, что затрещали кости, но он только охнул коротко и продолжал рыть одной.
Борька обнаружился в яме стоя – он явно пытался выбраться. Глаза были широко раскрыты, но не видели, их забила земля, земля была во рту, ушах, в носу, пересыпала волосы. Борька икал. Сашка потащил его обеими руками и вывалил на траву. Стал колотить по груди, открыл ему рот, начал выгребать землю. Борька укусил его, кашлянул и начал блевать. Сашка перевернул друга на живот, ударил по спине, шепча:
– Дыши, дыши, дыши… пожалуйста, дыши…
Борька со свистом втянул воздух и задышал по-настоящему, кашляя и плюясь землей. Он был ранен в левое бедро – пуля явно осталась внутри, синело сквозь разорванную штанину входное бескровное отверстие. Сашка примерился подхватить Борьку на спину – и…
И, подняв глаза, увидел в десятке шагов толстого полицая. Щерясь, тот держал мальчишек на прицеле винтовки.
– Откопал, значить, – сказал полицай. Сашке показалось, что угловатые готические буквы надписи – черные на белой повязке – у него на рукаве шевелятся, как пауки, мальчишка сморгнул. – Ну ить ладно. Счас обоих в обрат и прикопаю.
– Наши придут, – процедил Сашка, ощущая жуткую тоску и досаду от того, как нелепо все обернулось. – И будет тебе, гнида, петля на осине. Вздернут тебя, и будешь ногами дрыгать, прихвостень фашистский…
– Лайся, лай… – Лицо полицая вдруг стало удивленным, он издал непонятный звук, и из-под немецкой фуражки хлынула кровь. Не выпуская из рук винтовки, он повалился в траву.
Тяжело дыша – грудь ходила ходуном – за ним стоял мальчишка. Худощавый, с белым лицом и огромными глазами, одетый по-городскому: в кожаную курточку, брюки (правда потрепанные) и ботинки. На голове мальчишки сидела кепка, из-под нее сползали струйки пота.
– Я… Стиханович… Женька… – одышливо выдавил он, – у меня отец и мама… он их выдал немцам… их пове… – На шее мальчишки запрыгал кадык. – Повесили, а меня… спрятали… я… мы тут прятались, в деревне…
В правой руке Женька держал окровавленный плотницкий топор. С лезвия падали увесистые черные капли. Потом Женька посмотрел на него, уронил, согнулся и сказал:
– Уакк…
Сашка закрыл глаза.
12
Когда я очнулся, было прохладно – с одного бока, а с другого здорово пекло от костра, возле которого я лежал, глядя в небо. Небо было черное с дырочками звезд, которые перемигивались – или, может, подмигивали? По другую сторону огня переговаривались два человека.
– Пить, – попросил я первое и самое искреннее, что пришло в голову.
– Очнулся! – и возле меня оказался Сашка. Он, улыбаясь во весь рот, встал на колени и поправил какой-то мешок, которым я был укрыт. Скуластое Сашкино лицо было счастливым; за его плечом появился еще какой-то пацан нашего возраста, худощавый и серьезный. Он тоже улыбался, хотя и сдержанно. – Пить хочешь, Борька, да? Я сейчас…
– Я принесу, – сказал пацан и канул в темноту. Я со стоном сел и охнул – ногу пробила тупая боль.
– У тебя пуля внутри, в ноге, – сказал Сашка, помогая мне сесть удобней. Мы были на какой-то проплешине в овраге, заросшем кустарником. За моей спиной нависал глинистый козырек, под которым угадывалась небольшая пещерка. – Тебя похоронили заживо.
– Эйно… – Я сморщился. – Эйно меня закрыл собой. А как я вылез?
– Ну… вылез, – почему-то смутился Сашка и, сев, взялся за большие пальцы ног. – Вылез, и все. Чего тут.
– Ты меня вытащил? – тихо спросил я, вглядевшись в его раскрашенное бегучими бликами огня лицо. Сашка отвернулся и молча пожал плечами. – Ты, – уже уверенно повторил я. – Сань, я…
– Да херня все, – матерно-грубо сказал он. – Нас вон Женька спас обоих, полицая топором завалил, который Сергея Викентьевича расстрелял. Он нас опять почти поймал…
– Завалил? – Я ощутил злую радость. – Жаль…
– Жаль? – Сашка свел брови.
– Жаль, что не я его…
Вернувшийся Женька принес в кепке холодной воды, и я жадно напился, в этот момент ощутив, что меня колотит, как при высокой температуре. Женька сказал тихо:
– У тебя жар сильный… Я знаю, у меня мама фельдшер… была.
– Они из Пскова, – пояснил Сашка. – Отец врач, мама фельдшер… Не хотели на фрицев пахать, сюда убежали, а их тут выследили и за саботаж… – Сашка не договорил, а я увидел, что глаза Женьки наполнились слезами. Но он мотнул головой и сказал деловито:
– Я хотел к партизанам, отец и мама знали, где они…. Только решил не уходить, пока этого гада не… достану.
– Партизаны тут точно есть, – сказал Сашка. – Стопроцентно есть, надо только искать. Сергей Викентьевич с ними хотел соединяться… – Он вздохнул тяжело.
Они заговорили о партизанах. А меня колотило все сильнее. Сколько же у меня? С такой температурой только под одеялом в постели, а не в майском лесу на подстилке из лапника под какой-то дерюгой. Я с испугом подумал, что не только искать кого-то – я просто идти не смогу, тем более с раненой ногой. Я хотел об этом сказать, но испугался, что меня сочтут слабаком… а потом начал опять куда-то проваливаться. К счастью, это была не расстрельная яма, а просто сон.
Но спал я плохо. Мне было жарко, душно, мучили кошмары, болела нога. Каратели вламывались в нашу квартиру, хватали родителей и сестренку, я кричал, и кто-то убирал кошмары влажной прохладной тряпкой, как стирают мел с доски. «Мам?» – жалобно спрашивал я, на миг просыпаясь, засыпал снова и через какое-то время все повторялось.
Под утро я проснулся разбитый, невыспавшийся. Не хотелось есть, а ведь я не ел черт-те сколько… Зато пить хотелось мучительно. Жара почти не было, но я понимал – это временно, он вернется. Бедро распухло, стучало болью в кость. Костер горел, придавленный туманом. Около него сидели ребята. Сашка какой-то деревяшкой ловко что-то делал – я не сразу понял, что он плетет лапти. Он сидел голый до пояса, и непохоже было, что мучается от холода – а своей гимнастеркой добавочно укутал меня. Так же поступил и Женька со своей курткой, и я понял – с облегчением, от которого хотелось расплакаться, – что они меня не бросят.
– Плохо, – говорил Женька. – У него жар даже сильнее, чем я думал. Это от раны и вообще… И еще хуже – если пулю не извлечь и не почистить рану, то будет заражение крови. Ему туда и земля попала, и материю загнало пулей…
– А ты можешь? – спросил Сашка.
Женька заколебался:
– Ннну-у… В теории. Она в мякоти, сосудов там нет… Но он же от боли с ума сойдет…
– А так он помрет… С жаром я что-нибудь сделаю. Ты только пулю достань и это, рану почисть. Ты знаешь, какой он парень? Во! – и Сашка показал большой палец. – Смелый. Ловкий. А как с ним говорить интересно, он столько знает… Он тоже городской, вроде тебя, только из Новгорода… Что ж ему, из-за такой ерунды помирать?
– Ну тогда давай прямо сейчас. – Женька передернул плечами. – Чего ждать?
Они посмотрели в мою сторону. Сашка перестал работать своей кривулькой и неумело улыбнулся:
– Не спишь? Слышал?
– Слышал. – Я привстал на локтях. – Резать будете?
– Надо, Борька, – вздохнул он.
Я стиснул зубы и постарался ответить как можно тверже:
– Давайте.
Если честно, особо страшно мне не было. Я устал и ослабел, поэтому смотрел на происходящее почти равнодушно, подставил руки, которые связали над головой и прикрутили к дереву. Ноги тоже пришлось привязать, используя барахло – Сашка пошел искать какие-то травки и прочее. Место раны опухло и посинело, но Женька удовлетворенно хмыкнул:
– Заражения еще нет. Полосок не видно.
Он калил над огнем лезвие своего перочинного ножа. Я отвернулся и хрипло, но нарочито бодро сказал:
– Больше мне ничего не отрежь. А то там рядом, я еще ни разу этим всерьез не пользовался. Обидно будет.
– Не отрежу, – обнадежил он. – Ну все, Борь. Ты потерпи, – он сунул мне в зубы палку. – Кусай и терпи. И еще… если вдруг она глубже… там артерии… в общем, я же не врач, даже не фельдшер, я только видел кое-что, ну и читал… А, ладно, все будет хорошо!
«Не знаю», – успел подумать я – и меня выгнуло дугой. Я почувствовал во рту вкус крови и начал грызть сырую, пахнущую грибами, как та земля, палку. Обрушилась гулкая тишина, звуки умерли, только колотилось в ушах: «Умп, умп, умп, умп…» Я повернул голову и увидел, что по рукам Женьки течет моя кровь, а сам он что-то делает – губа прикушена, лицо мокрое, на лбу – темная от пота прядь. Боль была такой, что после первой вспышки стерла сама себя, и верхушки деревьев плавно и противно закружились, опрокинулись влево, перевернулись и утонули во мраке, полившемся между одетых яркой майской зеленью веток.
Я пришел в себя от невероятного жара, буквально пронизывавшего меня, как окорок в микроволновке. Нога болела остро и режуще. Я лежал, закутанный всем, чем только можно, в пещерке, где даже стены источали горячее дыхание, на толстой подстилке все из того же лапника. Сашка, отдуваясь и смахивая локтем со лба пот, протягивал мне все ту же кепку Женьки.
– Пей залпом, ну?
Там оказалась невероятная горечь – меня чуть не стошнило. Кашляя и моргая, я с трудом спросил:
– Это… что-о?!.
– Одуванчиковый сок, – пояснил Сашка. – С водой.
– Га-адость…
– Ничего, зато пропотеешь как следует. Только не ворочайся, а то сожжешься. Я тут час костер палил, чтобы все прокалить.
– Вот она. – Женька, подойдя, присел на корточки у входа и подкинул на ладони тупоносую пульку. – В кость попала и обратно срикошетировала… Я там почистил все и промыл, потом завязал с подорожником. Хорошо, что ты без сознания был.
«Ох, хорошо», – мысленно согласился я, вспомнив, как меня резали. Жарища была невыносимая, я отогнул край дерюги, но Сашка стукнул меня по руке и сердито сказал:
– Лежи терпи. А мы что-нибудь поесть раздобудем.
Легко ему было говорить, чтоб я терпел. С меня почти сразу ручьями начал литься пот. Дико хотелось пить и раскрыться или хоть передвинуться так, чтобы отыскать прохладное место, – как дома, когда я болел. Не знаю как, но я заснул и, наверное, сжегся бы, но Женька остался в нашем лагере и следил за мной.
Проснулся я под вечер – слабый, со звенящей головой, но явно без температуры. Нога ныла. Когда Женька начал менять повязку, я увидел синевато-багровый крестообразный разрез, засочившийся кровью – не очень большой, но жутковатый, – и поспешно отвернулся.
Сашка около костерка что-то жарил – я присмотрелся и узнал лягушек, но не испытал ничего, кроме голода. Он поймал мой взгляд и пообещал:
– На всех хватит… Скоро уже. Французы едят, и ничего.
– Ссать хочу, – признался я. И, сказав это, понял, что и правда ужасно этого хочу. Больше, чем есть. По-большому не хотелось (желудок-то пустой), а вот…
– Давай к стенке, тебе вылезать нельзя, – сказал Женька. – Не бойся, – он хихикнул, – там остыло все почти.
– Это чего, прямо здесь?! – я заморгал. – Не, я так не могу…
– Ну извини, кепку я тебе на это не отдам.
Я покраснел почти до слез. Мне было стыдно и, хотя мальчишки отвернулись, а я пыжился с минуту, у меня ничего не получилось – я никогда в жизни не делал этого лежа, да еще там, где сплю; эти мысли полностью все блокировали.
– Не могу, – признался я. – Я не стесняюсь, просто не могу так. Правда.
– Ну что с тобой… – Сашка помог мне вылезти. Я с невероятным облегчением отлил возле кустов и тут же задрожал; он с матом запихал меня обратно. – Простынешь опять, вот тогда…
– Пионер, а так материшься, – заметил я, укутываясь в тряпье. Сашка неожиданно смутился:
– Это. Не пионер я. Меня не приняли. По хулиганке. – И посмотрел на нас жалобно. – Я ничего такого серьезного не делал, просто от дурости…
– Эх ты, будущий полярник, – подколол его я.
– А ты пионер, Борь? – вдруг спросил Женька, застав меня врасплох. Он вроде и не ждал ответа – взял и начал перечищать трофейную винтовку полицая.
– Я?..
Пока я раздумывал, что же мне ответить, Сашка это сделал за меня:
– Да, конечно, пионер. У него даже галстук есть, правда, Борьк?.. Я сам видел, как он его перепрятывал.
К счастью, этот разговор продолжения не имел. Мне трудно было даже предположить, что подумали бы ребята, обнаружь они зеленый галстук.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?