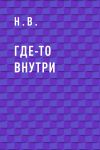Читать книгу "Я проснулся, и он уже был"

Автор книги: Олеся Литвинова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я проснулся, и он уже был
Олеся Литвинова
© Олеся Литвинова, 2023
ISBN 978-5-0059-8235-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Пробудившись от тяжёлого сна в девятом часу утра, Серёжа обнаружил, что в одностворчатом окне его комнаты, которую он снимал в гостевом доме в самом сердце Петербурга, застрял стол. Помещённый в раму, как в капкан, он стоял неподвижно и зловеще. Это был небольшой стол, сердитый, окрашенный в тёмный орех, такой, который лучше нести вдвоём, нежели одному, хотя и одному, конечно, можно, если быть покрепче. Казалось, что он влетел в окно с размаху. На полу сияли осколки, и ветер, заглянувший в отверстие, морозил Серёже кожу, забирался под мятую кофту для сна, трогая, щупая, спрашивая: «Зачем пускать меня в октябре?».
Серёжа смотрел на стол. Он думал: «Почему я сижу?» или «Мне надо собираться», а потом вспоминал, что это целый стол, и что он торчит из его окна и внутри, и снаружи, и что люди на улице могут его видеть. Это пресекало все мысли о том, чтобы оставить его как есть. Серёже ни в коем случае не хотелось становиться местной достопримечательностью, ради которой в его двор будут заворачивать со всего Невского. Люди поднимали бы головы к ножкам в окне и смеялись: «Как же это нелепо». Серёжа подумал о бабушке, которая разобралась бы со столом в самое короткое время, и вспомнил, что она умерла. По утрам он забывал о её смерти, потому что бабушка снилась ему каждую ночь и во снах была живее всех живых, а потом поднимался с постели, думал о своём какое-то время, приглаживал волосы, трогал глаза, лениво добирался до ночных впечатлений, уже покидающих его голову, и всё припоминал. Сегодня она приснилась Серёже в своём чёрно-розовом домашнем халате, который пах кухней.
Он снова посмотрел на стол. Начал накрапывать дождь. Серёжа не знал, на что решиться: нужно было идти к хозяину, но тот уехал к матери в Выборг и обещал вернуться только завтра. Это значило, что стол проторчит ещё целый день. Серёжа встал, выглянул из окна как мог и никого под ним не увидел, отчего с облегчением вздохнул, но тут же подумал, что если хозяин вернётся и увидит только дыру в окне без предмета-виновника, то подумает, что Сергей просто сам его разбил. Серёжа также не знал, что ему потом делать с упавшим столом и как на него посмотрят люди, потащи он его на помойку в одиночку.
Замотав себя в бабушкин шарф, он спустился и обошёл дом так, чтобы оказаться под своим окном. Снизу на стол было страшно смотреть. Проходящая мимо женщина с рваным зонтом, увидев, что Серёжа вскинул голову и смотрит вверх, поступила так же.
– Ого! Что это такое? – обратилась она к нему. – Вы видите?
Он улыбнулся, чтобы она не поняла, кто тут виноват, и сказал, что и сам удивился.
– И как долго он, интересно, торчит?
Рядом с ними возникла ещё одна женщина, она тихо обратилась к первой, тоже поглядела наверх и застыла. На её бледный лоб упала капля. Зашушукались; Серёжа поёжился от ветра и убежал в университет, где сразу впал в сухое будничное забытьё, которое толкало его сотней плеч и не позволяло постоянно думать о бабушке.
На арочных стенах, посреди замысловатых ругательств и фиолетовых рожиц, родилась надпись, которой вчера не было: «Вика камень». Серёжа покусал губы и вспомнил, как однажды, ещё в родном Дымске, возвращался с английской школы позже обычного и издали увидел на трамвайной остановке бабушку, которая медленно несла своё большое и гордое тело сквозь застывший майский воздух.
Ему никак не удавалось объяснить себе тот трепет, который он испытывал, встречая бабу на работе в павильонах центральной городской ярмарки, где она продавала шубы и куда он нарочно заезжал на велосипеде, если возился с товарищами где-нибудь поблизости, или в любых других местах до её прихода домой. Бабушка разделяла его нежное чувство и тем весенним днём, когда он побежал к ней, желая поскорее показаться на глаза, тоже ему обрадовалась. В ларьке у остановки они купили хлеб и шоколадные вафли, вместе зашагали по дорожке к подъезду. Всё вокруг было полно золотого света. Они проходили мимо выкрашенного в детсадовский розовый гаража, на котором значилось, что «Вика лутшая». Бабушку ошибка страшно веселила. Она всё время обращала на неё Серёжино внимание, так что у него, если они шли домой вместе, вошло в привычку ждать, что она увидит «лутшую», и зацокает, и захохочет, и повторит слово тысячу раз; если этого почему-то не случалось, он сам как бы невзначай указывал на гараж, возмущался надписью так, будто видел её впервые, и бабушка воспроизводила свой смех и ворчание.
Теперь «Вика» была «камень». Серёжа косился в сторону двора, потому что слышал звуки, и звуки эти, без сомнения, издавала маленькая толпа («толпица», подумал Серёжа) под его окнами. Над асфальтом светилось три-четыре лица; Серёжа подходил к ним, чувствуя, что шагает скорее назад, чем вперёд. Оклик не дал ему раствориться:
– Мальчик! Мальчик! Подойди сюда, пожалуйста.
Его звала женщина с зонтом, которую он встретил утром. Неподалёку стояла и курила вторая, рядом с ней ругался матом мужчина. Он посмотрел на Серёжу и прищурился:
– Павла знаешь?
– Мальчик, ты же был здесь утром? – наклонилась к Серёже первая женщина. Его мягко обдало запахом несвежего тела. – Скажи, ведь стол торчит с утра? А то Григорь-Михалыч имеет наглость не верить. Я говорю, что стол торчит с утра.
Серёжа подтвердил. Мужчина пожал плечами и спросил:
– Павла знаешь?
Серёжа убежал к себе и сразу заперся на ключ, а проходя, не стал снимать кофту, потому что, пока его не было, ветер продул насквозь всю комнату. Стол повис перед ним ссохшимся гадом; он не хотел посочувствовать Серёжиной боли, не хотел упасть за окно и освободить его от женщин на улице. Звонить и писать хозяину было невозможно, потому что Серёжа не знал, что ему сказать. Он как мог убрал осколки, прилёг на кровать и закрыл лицо руками. Против его желания к нему всё летели слова и выкрики с улицы.
В острой вечерней дрёме ему привиделись август и бабушка в шортах и грязной футболке в их садовом домике за городом. Она щёлкала семечки, смотрела в увешанное мошками окно и рассказывала, как узнала о любовнице деда. Мимо Серёжи мелькали чужие банки под соленья и бабины сёстры со скалками в руках.
– Вот говорят: выбило почву из-под ног. Так у меня и было. Зоя с Риткой стоят рядом, а я бросаю ему в лицо ключи и говорю: увозите свои огурцы из моего погреба, иначе всё разобью. Ни слабости, ни страха – ничего ему не показала, хотя сама чуть не померла. Но это был мой гараж, мой!
Он слушал вполуха и вдруг улетел к разбитому забору на окраине сада, а оттуда – к большим зелёным холмам, слепням, сухим дорогам и карьерам. Холмы скрывали в себе реку, но Серёжа не мог её отыскать, не мог и вернуться к бабушке, которую оставил в домике, и оттого, натаскавшись в пыли и намучившись, вздохнул и проснулся.
Хотелось пить. В окне виднелись только ночь и стол. Было свежо и как-то спокойнее, чем днём, как будто воздух улёгся. Серёжа понял, что на улице затих человеческий гул. До него доносились лишь глухие шлёпки по асфальту и чьё-то неровное дыхание. Он поднялся, спрятал руки за спиной, чтобы не толкнуть ненароком стол, прижался к нему бедром и посмотрел наружу. Там, кривоногие и маленькие, превосходно одетые, шныряли по двору двое парней. Они бегали из угла в угол, от помойки к арке, от парковки к площадке, опустив головы в землю, двигаясь неверно, странно, будто пьяные. Серёжа смотрел на них, а они всё рыскали и рыскали, пока, наконец, один из них не устремил взгляд прямо на него и не остановился. Окликнул приятеля – и они улыбнулись Серёже и приложили пальцы к губам: тихо, мол.
2
Наутро его стуком в дверь разбудил хозяин. Не дождавшись, пока ему откроют, он прошёл в комнату прямо в обуви.
– Твоё окно, товарищ? Чего одетый, холодно? Здравствуй.
Серёжа поздоровался и посторонился. Хозяин заложил руки в карманы, подошёл к столу и с сокрушённым видом прикоснулся к разбитому окну. Это был невысокий, ладно сложенный человек, который невозмутимо и тепло двигался к своим пятидесяти. Серёжа начал рассказывать ему, как нашёл стол, стараясь подчеркнуть, что его вины здесь очень мало или даже нет совсем. Чем естественнее он пытался звучать, тем больше переживал и спотыкался, и в конце концов понял, что его не слушают, когда хозяин воскликнул:
– Вот жалко, что не телек! Не холодильник! Стол какой-то.
Серёже захотелось кричать: «Какой телек? Вы что, не понимаете, что он отравляет мне жизнь?», но он согласился, что это неудобно: фирменной вещью ещё можно было бы искупить всё безобразие. Серёжа спросил, видел ли хозяин толпу.
– Да, видел. Испугался, не дай бог выпал кто-то. Думаю, если кто из моих гостей – мне проще следом сброситься, чем со всем этим разбираться, – сказал хозяин. Лицо его ничего не выражало. – Какая-то дёрганая барышня снаружи всё пытается всех убедить, что стол торчит со вчера. Это так?
Серёжа ещё раз всё рассказал.
– Хорошо, что я сегодня вернулся. Не замёрз ты? Кофты есть?
Они были.
– С бабкиной смерти – сколько? Девять дней уж прошло?
Двенадцатый пошёл, ответил Серёжа. Когда он уезжал в Дымск на похороны, хозяин перехватил его в коридоре с набитым рюкзаком и опухшим лицом – пришлось обо всём рассказать. Серёжа чувствовал, как из его рта вылетают жёлтые слова, не равные огню внутри, тупые, кроющие, прячущие. Не обдуманное толком, его горе было так огромно, что даже не выглянуло в коридорчик гостевого дома, плеснуло хвостом и оставило капли: Серёжины смешки над эдакой «семейной незадачей».
– Как же жалко, что не телек, я бы продал с удовольствием. Представляешь, телек на халяву кто-то кинул? А так с окном получится один убыток…
Серёжа спросил, можно ли убрать стол, и хозяин со скромной улыбкой на него посмотрел:
– Так ты или не ты, Сергей, его втащил? – И тотчас залепетал, глядя на его лицо: – Ладно, что ты: просто спросил. Презумпция невиновности! Отпечатки снимем, камеры посмотрим, вычислим придурка, разберёмся! Не переживай. По глазам вижу, что ты меня ждал, а если б ты окно разбил, ты бы – фьють! Ищи ветра в поле! Ведь я правду говорю?
Серёжа ответил, что правду, и, покачнувшись, чуть не бросился к этому человеку, который столько делал для него хотя бы потому, что не взыскивал миллион просто так. Чем сочувственнее хозяин смотрел на него, тем больнее хотелось завыть: так же было, когда бабушка сидела и жалела его, шептала, гладила по плечам и спине, никогда не упрекая в слезах, и от её рук и халата Серёжа расходился всё пуще, даже если поначалу обида была несмертельна. Сейчас от того, чтобы уткнуться в хозяина и поведать ему обо всём, что не даёт спать по ночам, его удерживало только робкое мальчишечье благоразумие. Серёжа сказал: «Спасибо».
– Только давай завтра, в воскресенье, ты выходной? Я с дороги устал как собака, хотел постираться, воды принести на выходные, подсобку почистить.
Бутыли с питьевой водой, которые хозяин ставил в холле под тумбой, ломящейся от морских раковин, разошлись по жильцам ещё позавчера. Серёжа кивнул; его сердце заколотилось.
– Фиксировать ущерб – дело небыстрое, должен понять.
Снова кивок, но послабее, потому что налетевший с окна холодок сковал на миг Серёже голову.
– Я к тебе зайду. Одевайся тепло.
Хозяин с серьёзным выражением поглядел на стол, погладил носком ботинка осколок в углу и вышел, не закрыв как следует дверь, так что Серёже пришлось хлопнуть ею самому. Он постоял в крохотной прихожей, пощёлкал пальцами в такт неведомой мелодии, которая развеселила его, и подошёл к окну. Выглянул из-за стены так, чтобы толпица не могла его заметить, и мелодия оборвалась. Подскочило желание пнуть стол на улицу, не дожидаясь, чем окончится хозяйское расследование, и оно стучало в Серёже тем сильнее, чем больше он щурил на зевак близорукие глаза: к женщине, что с нарочитой громкостью, точно зазывала на речную экскурсию, объявляла двору, что «стол торчит уже битые сутки», подошли человек пять или шесть, несмотря на ранний час. Серёжа на всякий случай пересчитал их; его взгляд еле успел зацепиться за кривоного парня, который пробежал мимо толпы к площадке.
Разболелась голова. Серёжа стал думать, как ему без слежки что-нибудь узнать о ночных недоростках, и представил, что у него кончилось что-то из продуктов. Он решил: сахар. Он сказал себе: сахар. Поверить в сахар было важно, потому что, спроси его кто-то: «Шпионишь за нами? Куда выперся?», у него уже готов был бы естественный ответ: «За сахаром, конечно». Серёжа вышел, с опаской обогнул дом со стороны, противоположной толпице, и оказался в проулке: налево – улица Маяковского, направо – качели, зацелованные солнцем дети. У кирпичного угла стоял один из недоростков: Серёжа узнал его по сползшей шапке и дорогому пальто. Они посмотрели друг на друга. Серёжа двинулся дальше.
Когда он, толстый от двух пакетов сахара, вернулся в проулок, парень стоял на прежнем месте. Вокруг всё зашевелилось; Серёжа проходил мимо недоростка, зная, что тот ему что-нибудь скажет:
– Чувак, нет закурить?
Серёжа подумал, что никто в целом мире уже не говорит слово «чувак». К нему сразу подошли сзади; воздух между ним и шапкой потемнел и съёжился. Эта позиция – попадание в хулиганскую ловушку – всегда незаметная, смерти подобная – отдала неясным воспоминанием. Он ответил, что не курит, и парень улыбнулся:
– Да, я тоже. – И достал сигарету из широкого кармана. Сжал между губ, вынул зажигалку. – Вредно реально.
Улыбка у него была почти добрая.
– Ты нас видел? И мы тебя ночью. Это из твоего окна выглядывает стол?
Серёжа отошёл, чтобы посмотреть на того, кто встал позади: это был второй ночной гость, маленький, смуглый, такой же холёный.
– Ты живёшь в том отеле, в гостинице? Тебе можно посочувствовать? – Большое облако дыма. – Уже говорил с владельцем? Он тебя денежку заставит заплатить?
Парень болтал скороговоркой и не ждал ответов на вопросы, но Серёже удалось сказать, что в разбитом окне он не виноват и его хозяин это знает. Скоро они вызовут полицию и снимут отпечатки, чтобы узнать, кто его подставил.
– Ой, ментов… А что, если он делал это в перчатках? – И парень ласково рассмеялся, выдохнул холод. – Меня Лёва зовут. Лёвыч.
Серёжа тоже представился. Второй недоросток не спускал с него глаз.
– Серёженька, мне надо… Чтобы ты пока его не убирал, хорошо? Можешь это сделать для меня?
Серёжу под курткой бил ледяной воздух. Он спросил: как не убирать?
– Ну так, чтобы остался свисать. Вдруг твой стол поможет нашему бизнесу, тогда мы будем тебе благодарны. Он людей вокруг может собрать, понимаешь?
Серёжа со смехом сказал, что оставить стол было бы проблематично, и поинтересовался, что у парней за бизнес. Улыбка у Лёвы пропала:
– Смеяться не надо.
И протянул сигарету, прежде чем из Серёжи вырвалось извинение:
– Кури.
– Да я не курю.
– Покури.
– Покури, Серёж, – вкрадчиво попросил второй парень.
Ночные гости выпрямились, напряглись, приподняв плечи; Лёва сделал размеренный вдох и поднёс сигарету к самому Серёжиному рту, так что тот мог, хотя она и не касалась его губ, ощущать её ими. До его носа исчезающими шажками добирался запах табака. Серёжу захлестнул гнев, но он только мотнул головой и ответил, что курить не будет. Краткая пауза – и он уже готов был дёрнуться, но замешкался, вообразив, что находится в тупой киносцене, успев даже улыбнуться этому, и друг Лёвы схватил его сзади, а сам Лёва резким движением вставил сигарету Серёже в рот. Он захотел закашляться, но кашель испугался цепких рук и пропал. Лёва улыбнулся:
– Как маленький. Да затянись ты, затянись.
Серёжа случайно зажевал сигарету. Услышал, как заходится хрипом и как хохочут парни; вскинул руку, ощутил хлопок по спине. Парни сказали: «Отдышись» и толкнули его к углу.
– Не убирай пока стол. Здоровье у тебя слабенькое, Серёжка, надорвёшься.
Тусклым от воды взглядом Серёжа видел, как они уходят и скрываются в переходах двора. Удушье отступило так же скоро, как и напало. Он застонал от бесполезной жестокости, с которой над ним посмеялись, захотел сесть на газон и схватиться за волосы, но заметил, как сквозь ближнюю арку идёт женщина в большой шляпе, и передумал. Обратился мыслью к бабушке, к нависшему небу, на котором, как ему казалось, она должна была сидеть, и прошептал вверх какие-то слова.
Скрипнули качели. Кто-то крикнул:
– Это как лыжи, ма-а-ама!
Зашелестела холодная трава, отдала свежим и острым, и на Серёжу опустилось воспоминание о том, как его в первый раз заставили курить. В голове завертелось: «Я лыжница, я лыжница… Ты лыжница?», схватило ощущение подобно боли в животе. Сейчас он был окружён двором-колодцем, а тогда – лет десять назад – сидел в двух кругах сразу: то были круг мальчишек, садовских оборвышей, и свободная цепь охвативших их листьев, деревьев, кустов, которые хоть и пускали солнце, но всё же делали собой довольно крепкое убежище. В нём было радостно прятаться от машин, сидеть в зелёной тишине и слушать, как ездят на мотоцикле где-то далеко, на двенадцатой улице сада. Ошибка Серёжи заключалась в том, что он поделился своим секретным местом с мальчишками, с которыми познакомился стихийно, у водоколонки. Разноцветные, крикливые, с велосипедами, они сначала напугали его, а потом привлекли своей буйностью и безобидным разбоем, и он стал частью их компании. Он был на них, таких же восьмилеток, не похож – не мог кричать: «Предки свалили, сука!», или плеваться комками, или вскрывать газировку зубами, – но хотел так мочь. И авторитета ради показал своё зелёное жилище.
Триумф длился недолго: пацаны побросали велики, закричали, запрыгали и сразу заняли собой весь воздух, всю землю, и местечко скукожилось, хотя до этого казалось Серёже огромным. Они освоились, начали пинать деревья, рвать листья, жевать их. Кто-то пробормотал: «А я давно тут уже был, а я и раньше об этом месте знал». Серёжа не спорил, потому что это могло оказаться правдой. Так мальчики присвоили убежище себе и собирались в нём день ото дня, даже когда Серёжи с ними не было, и когда он находил их там, отпросившись у бабы уехать, то у него появлялось ощущение, что он куда-то опоздал, и от этого ныло в груди и он задыхался, и спешил, царапал ноги.
Больше всех из них Серёжу интересовал пухлый Мишка. У него, как и у остальных, была неблагополучная семья: родители блуждали где-то «там», сверкали призраками в его речи, как свечи в тёмной комнате, били, пили, а воспитывала Мишку бабушка, которая возила его в сад и отпускала на все четыре стороны. У Серёжи из этого набора настоящей шпаны была только своя бабушка, но она не пила, а стояла на страже его покойного детства. Его чисто одевали, а Мишка носил рваную оранжевую майку и смешные шорты. Серёжу умывали большой ладонью, от чего он вырывался и ворчал, а Мишка носился чумазый. Мишкина бабушка болела диабетом, тяжело дышала и почти не выходила из домика, а Серёжина шла в семь утра наполнять вёдра соседской вишней и рвать берёзовые веники и по пять раз на дню топила баню.
В конце концов – Серёжа никогда не курил, а Мишка и компания только и делали, что хвастали мятыми окурками. Они смеялись и всё время предлагали: «Давай покурим». Носясь с палками по первой улице, стоя на вершине холма за забором, болтая ногами в убежище, на крыше сарая, то вяло, то заискивающе, то требовательно: «Давай покурим». Серёжа в ответ улыбался и мотал головой. Он думал, что мальчишкам надоест уговаривать его, и был готов играть в эту дурную игру до победного.
Но один раз к ним в жилище пришёл Взрослый Парень – тощий, белёсый, джинсы в жару, тёмные очки. Вся его длинная фигура внушала пацанам глубокое почтение, так что они, постоянно орущие как не в себя, при нём молчали и возились кучкой, готовые сорваться с места на любой его приказ. Серёжа чувствовал, как сам ловил глазами каждое Его Движение, и от злости на себя даже подумал: «Нафига ему с нами гулять?», но чем-то отвлёкся и успокоился. Парень сидел, развалившись и почти не шевелясь, на деревянном кресле, которое с мусорки приволок Мишка. Остальные поместились на земле, на брёвнах. Чего-то ждали. Когда в убежище на велике влетел тонкий горластый Вова, Серёжу уже разморило от пахучего тепла и треска кузнечиков. Он почти задремал и, очнувшись от шума ребят, столкнулся взглядом с лохматой Взрослой Головой. Она смотрела на него, но отвернулась, как только Вова закричал:
– Сиги!
Все схватили себе по одной, а Серёжа по привычке мотнул головой в ответ на пухлую Мишкину лапу, что совала сигарету и ему. Он надеялся, что Взрослый Парень не обратит на них внимания, но тот, принимая всю пачку из рук Вовы, обронил своим тёплым и низким голосом:
– Кто не будет курить, тот пусть идёт на дорогу и первому прохожему скажет: «Я лыжница, я лыжница». И станцует – Вовчик, покажи как.
Вова показал. Танец был унизительный: отказавшийся от сиги имитировал бы лыжника, размахивая ногами и руками, приговаривая, подпевая. Серёжа тогда подумал, что ни курить, ни танцевать ему не обязательно, а дальше воспоминание распадалось на фрагменты: вот он затягивается, чем вызывает Мишкин восхищённый свист, вот перебарщивает, кашляет, думает, что задохнётся насмерть, вот остаётся «отдыхать» один со Взрослым Парнем, пока все мальчишки смываются к колонке за водой, вот Взрослый Парень сажает его себе на колено и долго смотрит на него через свои очки. Дальше кино рвалось и скачком переходило к бабушке: она в пирожковом смраде допрашивает Серёжу, потрясая в воздухе его прокуренной футболкой. Серёжа рассказывает ей про убежище, про Мишку и про Парня, про лыжницу, про сиги и костлявое колено. Он едва ли понимает, почему колено производит на бабушку такое впечатление. Он может только догадываться, зачем она наспех одевается и шагает к Мишкиной бабушке, на первую улицу. В убежище – никого. В кустах – серая майка Вовчика, который выпрыгивает из ниоткуда и хватает Серёжу за воротник: «Ты!».
Серёжа сидел в комнате и ботинком раскачивал стол. Он думал: «Сейчас выпадет, и у придурков ничего не получится, и женщина закончит отсчёт, и не будет стола». Но – случайный толчок погрубее – и стол накренился сильнее, чем Серёже того хотелось, и он, подскочив, еле его удержал. Тут же отпустил. В ужасе уселся на пол, стал стирать с ножки свои отпечатки, и от этого – потому что Серёжа немного забылся – стол снова наклонился наружу, и Серёже снова пришлось его схватить.