Текст книги "Конец Монплезира (сборник)"
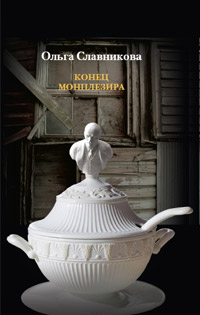
Автор книги: Ольга Славникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Как ни удивительно, Нина Александровна помнила все, кроме его ускользающего облика; всякая подробность тех недель хранилась у нее отдельно и в образцовом порядке – из-за этой отдельности время отношений казалось дольше, чем было в действительности. Нина Александровна, закрыв глаза, буквально видела его родителей: пожилые, с одинаковыми коричневыми глазами, похожими на четыре двухкопеечные монетки, они называли друг друга и общих знакомых по уменьшительным именам, точно все они были детьми, – и у отца был непропорционально крупный, почти слоновий череп, плотно обложенный курчавой сединой, а у матери – усики, жесткие, будто растительные колючки, и на шее висело много кожи и желтого, как кукуруза, янтаря. Оба они были знаменитые в городе врачи-гинекологи; эта их известность и такая специальность, которая словно не оставляла в отношениях между «девушкой» и младшим сыном никакого секрета, вгоняли «девушку» в горячую краску. В своем Североуральске, где она заканчивала техникум, прежде чем приехать поступать в университет, она понятия не имела, что есть такие люди – евреи, которые вдруг снимаются с места и уезжают в эмиграцию, словно умирая здесь, на родине, и сами по себе справляя поминки среди беспорядка и опорожненной мебели, сдвинутой с места, держащей в замочных скважинах на манер повисших папирос уже не нужные ключи. Ей, конечно, не следовало приходить, она была совсем чужая за многосемейным овальным столом, где кропотливо ели с тусклой, как прокуренные зубы, треснутой посуды, где взрослые были еще одеты во все советское, неуклюжее, словно подбитое картоном, а дети уже пестрели заграничными джинсовыми костюмчиками, нарядными свитерками, – и он, ошалелый, подвыпивший, еле вылезший из тесноты беседующих родственников, заторопился ее провожать.
После от него была одна открытка, брошенная в Москве, и больше ничего. Нина Александровна с тех пор не любила евреев, всегда говорила о них с подозрением и неприязнью, но так и не научилась их распознавать среди хороших людей, с которыми ее сводила продолжавшаяся жизнь. Маринка родилась в июле, в самую жару, когда травяные и древесные листья выросли большие и дырявые, словно прожженные сигаретами, а желтые начинки кувшинок на пруду у районной больнички сделались сытными, будто вареный яичный желток. Нянча елозящий ситцевый сверток, Нина Александровна пыталась представить иной, экзотический зной, с пальмами из клуба кинопутешествий, с песками пустыни, растворяющимися в неверном мареве, будто сахар в стакане кипятку, и его на каменном городском солнцепеке, с тенью на плитах не более чем от мячика, с книгой под мышкой. Воображать его в связи с собою на какое-то время вошло у Нины Александровны в привычку, ей остро требовалось ощущать его живым – но синхронная связь становилась все фантастичней, образ его изнашивался от употребления, и постепенно Нина Александровна стала путать воображение с собственными снами. Вот здесь, на супружеской кровати, она еще досматривала какие-то последние обрывки, остатки отснятого душою материала: муть, снег, он приехал из Израиля глубоким морщинистым старцем, он сидит на скамейке в какой-то мертвенной аллее, и следы его, ведущие к нему, почему-то круглые, как блюдца с молоком.
Первоначально у Маринки в младенческих жиденьких прядках сквозила его рыжина и было что-то от него в строении львиного носика, так что Нине Александровне даже чудилось, будто у нее родился мальчик. Но постепенно это все изгладилось, сошло на нет, и так же постепенно выпало из памяти его лицо, и даже обида, горчайшая обида на такую жизнь уступила обидам попроще, поплоше: на комендантшу, выдававшую «мамочке» самые рваные, до серой марли вытертые простыни, на собственных родителей, заболевавших, как только Нина Александровна просила взять Маринку на несколько дней, и превратившихся с годами в одинаковых, с лицами будто сухие каменные пряники, деревенских кулаков. Вот на Алексея Афанасьевича не было обид: в сущности, он никогда не оставлял ее одну, ни разу в Международный женский день не оставил без цветов – подобно тому, как у него было 9 Мая, так у Нины Александровны было 8 Марта, соблюдавшееся неукоснительно. Пусть это были всего лишь недорогие стебельки в пустоватом газетном кульке – все-таки Нина Александровна оказывалась выделена из множества женщин, только на работе получавших по мелкому тюльпанчику из общественных средств, и было так приятно распаковывать холодную, талым мартовским воздухом полную газетку, устраивать распадавшийся букетик в тяжелой вазе мокрого хрусталя, в которой хранятся теперь оторванные пуговицы.
Оттого что Алексей Афанасьевич был человек, к которому Нина Александровна могла испытывать благодарность, ничего про него не выдумывая, – муж внезапно представился ей настолько ценным и неповторимым, что ее глаза увлажнились и стали в полумраке будто две глубокие чернильницы, в то время как чернила ночи медленно сохли на стенах, темнели в щелях на полу, склеивали на полке несколько старых тяжелых томов, – и тут на улице, на самом дне, погасли фонари. Теневые указатели, что отклоняли плывущую комнату несколько вбок, сменились ориентиром застучавшего совсем в стороне невидимого будильника. Ласково, как только могла, Нина Александровна погладила мужа по холодному плечу (ей, как это часто бывало и прежде, померещилось, будто под пальцами прошел несуществующий шнурок как бы от медальона или креста), тихонько спустила ноги в сырые после душа, холодные тапки, развернула, стараясь ничего не задеть, шатко вставшую на место раскладушку. Наутро, проснувшись в поту, на голом брезенте рядом со сбитой простыней, Нина Александровна сказала себе, что как-нибудь справится, и что если ей сегодня требуется больше сил, чем десять или двадцать лет назад, то это теперь у всех, такие, значит, наступили времена, и надо, несмотря на странные рывки в стеснившейся груди, вставать и готовить завтрак, и что она не позволит никому даже пальцем тронуть Алексея Афанасьевича, вытянутого у самой стенки – беспомощного, с придавленными руками, но не ставшего за годы неподвижности ни животным, ни сумасшедшим.
* * *
Теперь Нина Александровна очень внимательно следила за тем, что происходит вокруг. Поскольку тайну мужа следовало оберегать абсолютно от всех, она внимательно слушала звучавшие по квартире шаги и не позволяла им приблизиться к заповедному «красному уголку», не приняв каких-нибудь поспешных мер и не упаковав Алексея Афанасьевича в одеяло до самого подбородка. Теперь никто не мог застать ее врасплох: Нина Александровна знала наверняка, кто и где находится в квартире в каждый конкретный момент, и утром первым делом выясняла присутствие людей, подавая голос под разбухшими дверьми надолго занятой ванной, даже снаружи мокрыми от испарений шумящей воды, из-за которой раздавался тоже мокрый, словно простуженный крик кого-нибудь из детей. Рискуя нарваться на раздражение, она заглядывала к ним в непроветренную спальню, всегда обнаруживая в духоте кого-нибудь одного, – и получала иногда от дочери совершенно пустой, немигающий взгляд, словно державший все предметы на весу.
Нина Александровна ощущала себя отрезанной от молодого семейства. Она даже не могла как следует бороться с их неряшеством. Ничего не ведающие лица дочери и зятя порой казались ей незнакомыми, словно ушедшими в тень, необходимость следить за ними отнимала у Нины Александровны возможность по-прежнему заботиться об их повседневном благополучии. Почему-то только раз, ненастным поздним вечером, ей удалось увидеть их вдвоем. Зять, похоже, уезжал в командировку, рядом с ним на полу прихожей стояла кое-как набитая – словно все, что должно быть уложено вдоль, лежало там поперек – спортивная сумка, и Сережа, растягивая, будто львиные пасти, свои шнурованые рыжие ботинки, поглядывал весело, из чего Нина Александровна заключила, что у зятя теперь и правда новая работа, потому что сторожа автостоянок в командировки не ездят. Маринка, только что пришедшая с телестудии, провожала мужа, спрятав руки за спину и прислонившись к стенке: неподвижное лицо ее временами трепетало, будто бабочка, наколотая на булавку, и выглядела дочь не лучшим образом, глаза ее буквально заплыли водой, так что Нина Александровна едва не заикнулась прямо при зяте о походе к врачу. Однако выражение глаз Маринки было таково, что Нина Александровна, едва не потеряв замешкавшийся тапок, поспешила убраться к себе и не слушать их разговоров, которых, впрочем, не было: было только какое-то стеснение пространства прихожей, некий общий перекос, в котором шумно поехала по полу спортивная сумка, а потом Маринка жестко, до упора завертела замки. С тех пор Нину Александровну не оставляло чувство, будто они с Маринкой ревниво оберегают каждая свою территорию и обе не прочь, несмотря на затраты, врезать замки и в двери собственных комнат, чтобы, уходя из дома, не страдать от беззащитности оставленных тылов.
Теперь настороженная Нина Александровна испытывала странную потребность оповещать о своем появлении, и ей казалось мало собственного возгласа или туповатого стука опухшими костяшками (маленькая Маринка, когда возвращалась с прогулки, не стучала и не звонила, а с маху шлепала по двери перепачканной ладонью); Нине Александровне хотелось, прежде чем войти, что-нибудь бросить впереди себя – потому что будущее было топким, как болото. Впервые в жизни Нина Александровна чувствовала потребность запустить в неведомый завтрашний день какой-нибудь зонд, призрачное щупальце ума, которое сообщило бы ей, не произошло ли там, впереди, именно того, чего она боялась и чего, как видно, продолжал хотеть Алексей Афанасьевич, сопротивлявшийся упаковке в конверт: напыженное его сопротивление, попытки надуться до предела остатками скованных сил напоминали, если бы движения заменить речью, мычание немого.
Не любившая что-нибудь терять, ощущавшая из-за пропавшей заколки или закатившейся монетки неприятный непорядок, дырку в обихоженном пространстве (оттого собиравшая вокруг себя много мелкого барахла), Нина Александровна стала благосклонней относиться к своеволию вещей. Теперь исчезнувший предмет, который потом – она это знала – непременно отыщется, представлялся ей укатившимся вперед и пребывающим в призрачной коробке завтрашней квартиры (наблюдатель, если бы таковой нашелся, поразился бы сходству между дневными снами Марины и возникавшими в уме у Нины Александровны стеклянистыми чертежами будущих дней – сходству, лучше выражающему родственность, нежели приблизительное подобие физиономических черт). Беспомощные покушения проникнуть в будущее чем-то напоминали давние усилия Нины Александровны сохранить отца Марины настоящим и живым и стать ради этого больше самой себя – и точно так же во лбу возникало ощущение близкой стены.
Похоже, застойное время, законсервированное в «красном уголке», не давало хода вперед и все возвращало на свои места; теперь оно сделалось даже сильней – по ночам заклеенное на зиму окно потрескивало и попискивало, словно выдерживало напор какой-то растущей массы, словно парализованное бессмертие напрягало невидимый мускул. Нина Александровна, спавшая с недавних пор необычайно чутко, как бы лежавшая всю ночь у себя под боком, суеверно слушала этот треск и тихое посасывание в щелях; Брежнев, странно повеселевший из-за толстой трещины в стекле, подмигивал и менялся с теми игривыми эффектами, какими заманивают взгляд рекламные щиты. Пребывая в постоянном напряжении чувств, Нина Александровна догадывалась, что видимое ею во многом состоит из ее воображения. Прежде она вряд ли стала бы расстраиваться, найдя в прихожей, за мозолистыми дочкиными босоножками, которые следовало убрать на зиму в коробку, недавно потерянный тюбик дешевой помады. Теперь, поднимая с пола раздавленные останки, похожие на разгрызенную куриную косточку, Нина Александровна холодела при мысли, что за удар уничтожил маленький зонд, явно раздавленный каблуком не кого-то из домочадцев, но явившейся в дом нехорошей судьбы.
Чувствуя себя закупоренной в автономном мирке, который теперь приходилось еще внимательнее оберегать от чужих, она порой испытывала неодолимое желание вырваться, повидать людей – сходить хотя бы к племяннику, все пересылавшему деньги с равнодушием автомата. Нина Александровна не помнила и половины наделанных племянником долгов, а переводы шли и шли – в точности теми же некруглыми стеснительными суммами, какими племянник одалживался «без сдачи на бутылку», и в этом как раз и было что-то механическое, словно деньги за племянника возвращал совершенно другой человек. Нина Александровна хотела бы понять, куда девалась та душевность, с какою племянник, хлебая противный для него, из горячей воды состоящий чаек, рассказывал о новой жене, хорошей и сильно пострадавшей женщине, которую нашел прямо у себя в подъезде в одной ночной рубашке и в добротном, с медалью, мужском пиджаке, – а той, конечно, рассказывал о Нине Александровне и так летал колючей пчелкой между разными людьми, перенося цветную теплую пыльцу. Пытаясь разгадать загадку, Нина Александровна думала, что племянник, быть может, сделался новым русским. Зная очень мало об этой странной разновидности словно бы искусственных людей, зашивавших в лица золотые нити и буквально включавших деньги в собственный обмен веществ, приспосабливая их к своей биологии через винный погреб и дорогой ресторан, Нина Александровна представляла сообщество новых русских как единственное место, куда человек уходит и делается недоступен, взаимодействуя с миром исключительно посредством поглощаемых и выделяемых сумм. В этом случае делались понятны точные цифры переводов, в которых, по-видимому, соблюдалась и обратная последовательность возврата набранных долгов: точность цифры содержала сообщение и была важна не в меньшей степени, чем правильно указанный адрес получателя. Все-таки Нине Александровне казалось, что и в новом русском может сохраниться что-то человеческое: она не раз представляла себе, как на улице перед нею остановится, идеально вписываясь в отражаемый пейзаж, одна из длинных лаковых машин, и из дверцы с похожим на телевизор затемненным стеклом вылезет улыбающийся племянник, и малиновый пиджак с золотым пупом будет ему все-таки несколько велик.
* * *
Еще ревнивее, чем за Мариной и Сережей, Нина Александровна наблюдала теперь за Алексеем Афанасьевичем, явно ей уже не доверявшим, но изредка, когда она возилась с чем-нибудь поодаль, глядевшим так, словно звал жену подойти поближе. Врачиха Евгения Марковна (сама внезапно сдавшая, с какой-то незнакомой неряшливостью в пучочке желтоватой седины) отметила улучшение двигательных функций и казалась при этом очень удивленной. Подрагивая сухонькой головкой, зачерствевшей с висков, заправляя в дырявое ухо вываливающийся наконечник фонендоскопа, врачиха долго слушала больного, потом просила шевелить рукой – и рука Алексея Афанасьевича подпрыгивала неожиданно легко, отчего становилась окончательно похожа на механический протез. Собственно говоря, для удивления не было причин: тонкая субстанция бессмертия, из-за которой выпадало в осадок так много ровнейшей, светлого оттенка, только этой комнате свойственной пыли, сделалась явственно сильней. Казалось, если этой пылью – побочным продуктом, содержавшим разве что малый процент основного вещества, – посыпать тараканов, шелухой валявшихся в химически обработанной кухне, то они немедленно забегают, будто капли воды по раскаленной сковородке.
Алексей Афанасьевич, спавший теперь гораздо меньше прежнего, не расставался с надувным китайским пауком: тот сигал у него со свистом, с каким-то похабным чмоканьем, трепеща в подлете матерчатыми лапками, и буквально бросался на Нину Александровну из складок одеяла, иногда задевая ее склоненное лицо своей фальшивой бахромой. Паук сделался как второе сердце Алексея Афанасьевича, соединенное с ним помимо шланга какой-то таинственной связью; конвульсии его не прекращались, даже когда игрушка соскакивала с койки и болталась между небом и землей, фукая на пыль. Не видя питомца, Алексей Афанасьевич продолжал работать вспухающей лапой, которую резиновая груша, выжимаемая до дна, снова и снова наполняла приятной круглотой, – но иногда заедал плохо натянутый пальцевый механизм. Казалось, что именно эта упорная, размеренная работа научила Алексея Афанасьевича в конце концов так совмещать кривую и нормальную половины лица, что получалось почти одно: посторонний и не заметил бы ничего особенного, кроме выражения неприятного сарказма да нитки слюны, запекшейся на соленой щетине, будто яичный белок.
Иногда Нине Александровне удавалось кое-что подсмотреть. Алексея Афанасьевича было необычайно трудно обмануть: вероятно, парализованный улавливал несложные колечки, испускаемые ее сознанием, гораздо лучше, чем она – его электрические ребусы и серии темнот, в последнее время сливавшиеся, будто облака, или тянувшиеся слиться, чтобы утратить свое выражение, в сплошную пелену. Однако сквозь эту почти неподвижную облачность Алексей Афанасьевич, казалось, прекрасно различал, задремала Нина Александровна или только притворяется, сидя в кресле над дырой недовязанной варежки, – вне сектора его нечеткого обзора, но явственно присутствуя, затаив дыхание, тогда как во сне ей свойственно сопеть. Очень редко за счет гипнотической длительности притворства (шерстяная нитка тлела в сырой ладони) у Нины Александровны получалось как бы поплыть: тогда ее полузакрытые, словно прозрачным маслом смазанные глаза видели то, во что едва ли можно было поверить умом. Собственно, она уже и не пыталась догадаться, как в постель к Алексею Афанасьевичу попадают разные веревки и тесемки, порой неизвестного происхождения, и просто наблюдала то, что удавалось наблюдать. Сперва ветеран, приподняв плечо и сделавшись асимметричным, как во времена размашистого хождения с тростью, медленно выкладывал на своем запакованном теле очертания силков; потом, в результате долго приготовляемого виляющего рывка, как если бы Алексей Афанасьевич сделал свой характерный, только очень-очень маленький шажок, на одеяле образовывалась складка, и над ней, при удаче, приподнимался обод главной петли с божественным просветом, куда все с тем же медленным упорством устремлялся кончик веревки. Веревка лезла из руки парализованного с нарушением законов физики и, казалось, обладала упругостью кобры, выманиваемой в воздух дудкой факира; попытки попасть веревкой в провисающий просвет напоминали Нине Александровне призрачную процедуру вдевания нитки в иглу. И веревка, и петля словно расплывались в дрожащем воздухе от невероятного напряжения, от которого на виске ветерана блестела промоина пота; наконец рука ветерана падала на постель и какое-то время лежала точно отрубленная. Потом Алексей Афанасьевич снова начинал готовиться к рывку: с ним происходило нечто почти неуловимое, он принимался тужиться и, седой всклокоченный мужик, чем-то напоминал рожающую женщину, издавая иногда негромкий сдавленный стон.
Стараясь ничем не выдать себя, Нина Александровна с волнением наблюдала безнадежную борьбу. Материальный мир Алексея Афанасьевича, упрощенный до больших схематических вещей, единственно доступных для его манипуляций, представлялся ей подобным азбуке на детских кубиках или верхней строке в таблице окулиста – но максимальный шрифт, каким писалась эта судьба, вызывал почтение и суеверный страх. Нине Александровне иногда казалось, что ее Алексей Афанасьевич – много взявший на себя самозванец, подпольный генеральный секретарь ЦК КПСС. Борьба ветерана с материей, где до сих пор побежденными были зайчики да пупсы, приобретала теперь совершенно новое качество. Нина Александровна не представляла себе, как парализованный, неспособный донести и ложку каши до растянутого рта, сможет добыть из окружающего мира собственную смерть. При том что даже для здорового человека существует много такого, что трудно сделать для себя без посторонней помощи – скажем, стрижку или массаж при остеохондрозе, – то что уж говорить о самоубийстве!
Нина Александровна знала из собственного опыта, что этот вид самообслуживания требует от человека ловкости, и силы, и сноровки, как от охотника на дикого зверя. Да что там – больше, гораздо больше: быть в одном-единственном теле и охотником, и животным, сражаться с собой с помощью кухонного ножа – это Нина Александровна помнила хорошо, и помнила, как новый ножик, наточенный добела и до черной слюны на бруске, упирался в ребра тупо, будто палец, и даже когда она разделась до бюстгальтера, думая, будто ей мешает скользкая блузка, у нее все равно ничего не вышло. Надо было сделать какое-то особое движение, вроде того изворота, с каким она умела втискиваться в переполненный автобус, и одновременно руками как бы вскрыть консервную банку, – но это оказалось слишком сложно, этому, быть может, следовало учиться, а как? Нина Александровна знала как никто (может быть, даже лучше, чем ее героический муж), что легче убить кого угодно, нежели себя: самоубийство – работа левой рукой, и если ты не левша от рождения, то все у тебя получается плохо, шиворот-навыворот. Правда, у Алексея Афанасьевича двигается именно левая, ну так что с того? Ведь сам он буквально распластан на земле – именно на земле, хотя между телом ветерана и почвой имеются пять этажей и подвал; поскольку размеры его расплывшегося тела потеряли физический смысл, можно представить, будто он Гулливер в стране лилипутов, привязанный к земле сотнями тоненьких нитей, по которым снует, проверяя прочность снасти, толстый резиновый паук.
Теперь, глядя на Алексея Афанасьевича сквозь резкие диоптрии своего дремотного транса, Нина Александровна понимала, что искусственная смерть – убийство и самоубийство – заключается в вещах. Ничего нельзя поделать с собой без орудия труда. Практически каждой вещью можно убить человека, после чего она остается здесь, по-прежнему невинная и ничего в себе не потерявшая. Между тем повседневные предметы, имевшиеся в комнате (еще и оглушенные бесстрастной философской пылью), содержали в себе очень мало смерти: у них были слишком плавные формы, слишком деревянные углы, их безопасная тупость могла кого угодно привести в отчаяние. Когда-то Нина Александровна мечтала о вещах специальных, дорогих, недоступных обычным гражданам, например о пистолете или ружье, в которых смерть заключена, будто вода в водопроводном кране: только нажми – и брызнет. Веревку она, сказать по правде, тоже попробовала – и это было последнее, что у нее не получилось. Может быть, потому, что она, беременная на четвертом месяце, была до крайности чувствительна и раздражалась не столько на запахи, сколько на малейший беспорядок, не дававший ни посидеть, ни полежать в той сосредоточенной неподвижности, что позволяла успокоить, остановить на время горестные мысли. Каждую соринку она была готова подбирать и нести на общую кухню в пропитанное гнилыми соками мусорное ведро; без конца перекладывала свое немногочисленное имущество, добиваясь от всего равнения и параллельности. Стоя уже на табуретке, с холодной и липкой от мыла петлей под самым подбородком, она увидала внизу свою абсолютно прибранную комнату, похожую на макет (библиотечные книги, ручки, записка родителям были словно нарисованы на столе), – но далеко на полу белели какие-то рваные нитки, до которых в этой жизни было уже не дотянуться. Ноги ее дрожали очень мелко, табуретка дрожала крупней, рот, как рана кровью, без конца наполнялся слюной; через некоторое время она, зажмурившись, вылезла из петли, зацепившейся сзади за волосы, утыканные шпильками, и, кое-как поместившись коленями на шатком квадрате табуретки, ступила на пол с ощущением, будто сошла с карусели. Потом она вымыла полы с дефицитным, пухшим в горячей воде стиральным порошком. С той горячей зареванной уборки началась ее новая жизнь, которая так и продолжалась без перерыва до сегодняшнего дня. Нина Александровна никому и никогда не говорила про этот свой нелегальный и неудавшийся опыт – меньше всего она была готова рассказать об этом Алексею Афанасьевичу, человеку настолько строгому, что супруга при нем сама почти забыла ту свою незаконную беспризорность, окурки на блюдечке и как снимала, будто для занятия любовью, прилипшую под сердцем на кровавой кляксе шелковую блузку.
Парализованному Алексею Афанасьевичу было много труднее, чем Нине Александровне в те невероятно одинокие месяцы, когда ей никто не помогал и никто на свете не согласился бы направить потверже ее шатающийся нож, как учительница сжимает и направляет неуверенную ручку в комариной щепотке первоклассника, – или, когда она, согнувшись со своим орудием, выкашливала страх, просто стукнуть ее по спине. В сущности, ветеран пытался сделать невозможное. Он уже был неудавшимся изделием смерти, бракованной заготовкой, от которой смерть отступилась, не справившись с непрерывностью жизни в его озаренном сознании. Однако ветеран не смирился и теперь собирался сделать смерть собственноручно – всего лишь повторить на зеркальный выворот то, что с легкостью делал для других. Но ему, сапожнику без сапог, изо всех человеческих ресурсов оставалось лишь угрюмое тюремное терпение, помноженное на бесконечные годы приговора, – способность двигаться к цели по миллиметру и вытачивать всякое движение, словно хитрую деталь самодельного механизма. Казалось, будто смерть лежит в его кровати, как законная жена, и Алексей Афанасьевич по миллиметру, через какую-то мысленную лупу, изучает это существо и переносит его в свое сознание, по-прежнему обладающее свойством удерживать все. Может быть, неуспешность попыток (Нина Александровна понятия не имела, сколько их было и когда все это началось) объяснялась именно тем, что ветеран еще не сложил из частностей целого, не осознал свою смерть в полном ее объеме. Однако страшная хватка его ума не оставляла сомнений в конечном исходе борьбы. Когда Алексей Афанасьевич поймет, у него немедленно все получится: границу между фокусом (чем только и можно назвать парализованное и однорукое плетение петли) и чудом взаправдашнего своего исчезновения он проскочит так легко и быстро, что и сам того не заметит.
Нина Александровна не знала, случится ли это послезавтра, через месяц, через десять лет. Будущее при попытке в него вглядеться казалось невозможным, попросту несуществующим: даже та зима, что уже давала себя почувствовать по утрам оловянными оттенками асфальта, пустотою лужи перед подъездом, похожей на разбитый унитаз, представлялась Нине Александровне такой же неправдоподобной, какой она могла бы представляться папуасу, ни разу в жизни не видевшему снега. Нине Александровне никак не удавалось нащупать, где же там, впереди, пролегает граница, за которой обрывается реальность: будущее, всегда занимающее для своей вообразимости картинки из прошлого, на каком-то участке переставало с этим прошлым сообщаться. Но как Нина Александровна ни напрягала внутреннее зрение, она не чувствовала, сколько ей осталось до призрачной черты. В сущности, и она, как муж, пыталась сделать невозможное: в то время как обычный человек пятится в будущее беззащитной спиной, имея перед глазами более или менее связное прошлое, Нина Александровна хотела развернуться и следовать за путеводным сказочным клубочком, погружаясь лицом в неизвестность.
Ей, вынужденной все больше замыкаться в «красном уголке», хотелось к людям, и прямо сейчас. Выбираясь в магазины и на базар, она говорила себе, что вот это – глухой вращательный шум переполненных улиц, маленькие глиняные китайцы, сидящие кружком на корточках возле горы челночного багажа, зеркальные стекла в окнах осевших особняков, странные, как бывают странны на старческих лицах солнцезащитные очки, – что вот это и есть реальность, а никакое не сновидение, что предметы здесь не означают ничего, кроме самих себя, и не предсказывают судьбу. Вот это, говорила она себе, только и останется тогда, когда Алексея Афанасьевича уже не будет на свете. Среди новых, абстрактных, человеческих пород особенно часто попадались одутловатые красавицы в узких черных пальто, с губами будто шоколадные конфеты ассорти, и деловитые юноши в кожаных куртках, из-под которых торчали края пиджаков, – где-то затерялись люди родные и близкие, всего-то несколько человек, и теперь Нине Александровне хотелось убедиться в реальности их существования. Однажды ей померещилось, будто в косоплечем мужичонке, деловито вывалившемся с переднего сиденья тут же отъехавших, по стекла грязных «Жигулей», она признала племянника, его малиновое ухо, оттопыренное кепкой, его забрызганные штаны. Однако человек, закурив из пригоршни, повернул к заулыбавшейся Нине Александровне отталкивающе чужое рябоватое лицо и преспокойно двинулся навстречу. Все-таки реальность сохраняла кое-где островки доброты. Однажды возле бетонного забора, за которым стрекотало и бухало строительство метро, Нина Александровна видела, как приличный мужчина, со спины похожий на зятя Сережу, бережно поддерживает под локоть нескладную спутницу в цветастом, с блестками платке и в длинном пальто, из-под которого виднелись осторожно ступавшие ноги, напоминающие утиные лапки; кварталом дальше ребенок в красном комбинезончике гонялся за пухлыми голубями, которые ленились взлетать и только бегали, прираспуская крылья и хвосты, а ребенка ответственно пас долговязый и плоский военный, похожий в шинели на костяшку домино. Умиляясь, Нина Александровна вместе с тем не могла избавиться от чувства, что это видит только она и больше ни одна душа. Странный солнечный свет, резкий свет последней осенней ясности перед мокрым снегопадом, точно топором рубивший то оголенное, каркасное, дощатое, что оставалось на зиму от пышности лета, приходил настолько издалека, в таких громадных тысячах километров располагался его источник, что реальность, идущая на слом, казалась ничтожной, освещаемой оттуда из какого-то жалостного интереса. Человек же на улице, которому солнцем скашивало скулу, был и вовсе незряч, мнение его не играло роли, голова его кружилась от присутствия бездны, а может, от присутствия смерти в каждой штуке вещества, от повышенного фона ее накануне зимы; только этот фон, как ни странно, давал усталой Нине Александровне возможность на короткое время ощутить себя одной из многих людей под этим открытым небом, уже совершенно твердым от холода, так что даже в маленьком солнце, пускавшем вкруг себя ледяные иглы, было что-то кристаллическое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































