Текст книги "Конец Монплезира (сборник)"
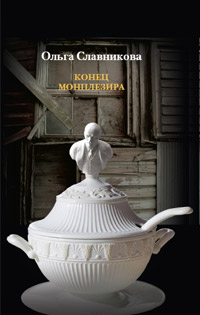
Автор книги: Ольга Славникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Тут же, оставив на тарелке пельменные комья, покрытые, будто осевшей мыльной пеной, постными хлопьями сметаны, профессор набрал на сотовом номер секретарши и назначил оперативку. Буквально через несколько часов все имевшиеся у штаба колеса, от кругалевского облизанного БМВ до худой профессорской «копейки», уже развозили, ныряя в залитые гущей длинные промоины, поднятый по тревоге, бледный как смерть персонал. Что это была за ночь! Мелкая морось, озноб, яркая мгла фонарей, консервный подкисленный рот со вкусом бутерброда и зубного дупла, урывки тяжелой укачливой дремы, пока автомобиль, пропуская в стеклах редкие светящиеся пятна, выруливал на заданный объект. Снабженные банками клея и слипшимися, теплыми от принтера пачками объявлений, люди неохотно вылезали в темноту, ставили ноги в жидкую ртутную рябь на рассыревшем асфальте, разбредались попарно под одряблыми зонтами, чтобы лепить свои бумажки на все подряд разбухшие подъезды и совать их в горелые и мятые почтовые ящики, возле которых из-за близости выборов было безобразно, точно возле мусорных контейнеров. Профессор, неспособный уснуть в эту стратегическую ночь, сидел, простуженный, в промозглом штабе, нос его, которым он трубил в трепещущий платок, был полнокровен, будто сердце, и на бумажке перед ним лежало несколько таблеток, чья последовательность, казалось, содержала программу выхода из кризиса, некий таинственный, одному профессору ведомый код.
Марине, как всегда, достался самый ответственный участок: частный сектор. Было что-то невыразимо жуткое в этих ветреных задворках, где темнота буквально щупала лицо и брала за протянутую руку, чтобы завести в глубокую шуршащую ухабину. Серое пятно от фонарика, показывая все, что в него ни попадало, словно сквозь толстое днище стеклянной бутылки, только путалось под ногами, низкие ситцевые окна стояли прямо на грядках – и скудный свет не обозначал предметы, а словно снимал с них недостоверные копии. Марина и сонная Людочка, навязанная ей в напарницы температурящим профессором, часто не понимали, на что они лепят объявления, норовившие завернуться и лизнуть намазанным клеем замерзшую руку. Безлюдье и тишина (одни собаки гавкали и брякали за горбылем, создавая ощущение ночного зоопарка) обдавали Марину нехорошим предчувствием приключений – и точно: из одних несильно клацнувших воротец внезапно вылез, пьяно тыкая перед собой синюшным ножиком, бесформенный мужик в долгополом расстегнутом кожане и в какой-то дикой ушанке, словно слепленной прямо у него на голове из нескольких рукавиц. Людочка замахала руками, точно хотела, как муху, поймать виляющее лезвие, и с визгом бросилась бегом, Марина побежала тоже.
Как они неслись от удаляющихся матюгов к своей не видной за пригорками машине, запомнилось с трудом: зонтики их сталкивались и скакали в воздухе, будто легкие мячики, стопа объявлений, которую Марина прижимала уже не к груди, а где-то на боку, норовила разъехаться и сплыть. Смутно-белая «копейка», приткнувшаяся под большой, кучевых очертаний березой, стояла закрытая и темная, точно ледяная – стало быть, шофер и его приятельница из бухгалтерии еще не вернулись с другого конца переулка, где мигал и слезился, словно видный в перевернутый бинокль, одинокий огонек. С перемазавшейся Людочкой сделалась истерика: икая, она то дергала расшатанную дверцу, то норовила, высоко задирая пальто, усесться прямо на капот замызганного «жигуля». Марина еле уволокла напарницу на ближнюю сырую лавочку, криво черневшую на светлых березовых листьях: настелила, не жалея, объявлений, усадила, налила из полученной от профессора резервной фляжки полную крышечку резко и грубо запахшего коньяку. «Ненавижу его, ненавижу!» – зашептала трясущаяся Людочка, выпив, как яичко, винтовую посудинку, и Марина почему-то догадалась, что речь не о мужике с ножом и даже не о шофере, занятом со своей щекастенькой бухгалтершей неизвестно чем, а о самом профессоре. Поглядывая на Людочку сбоку (глаза как звезды, под носом размазано), Марина подумала, что, пожалуй, возьмет ее к себе в секретарши. Еще она подумала безо всякого удивления, что ее на самом деле не интересует ни Людочка, ни та, к примеру, незнакомая девица с грубо сросшимся лицом и фантастической, гораздо ниже пояса, косой, щедро, будто конская сбруя, украшенной базарными заколками: с нею Климов обнимался неделю назад на мокрой остановке – а Марина сидела над ними в трамвайном окне. Они обнимались там, внизу, нисколько не укрытые линялым, закатившимся девице за спину зонтом – и, кажется, не заботились об укрытии, точно никакой Марины не было в природе. На безымянном мужнином пальце горело стеклянной сыпью незнакомое, не обручальное, вообще не мужское кольцо, явно что-то означавшее в этих отношениях, явно жившее в каком-то из его трухлявых мусорных карманов. Сейчас Марина, делая невероятные усилия, чтобы не выпадать из принудительного энтузиазма, томилась тайным нетерпеньем вырваться домой: быть может, муж, семеро суток инстинктивно не казавший глаз, как раз сегодня и явился ночевать – а ей никак не покинуть мероприятие, хотя до дома, тоже попавшего в пределы территории, было буквально подать рукой, он казался очень близким сквозь эту деревенскую чистую темноту, так что даже различалась на крыше соседней с домом девятиэтажки маленькая, будто канцелярская кнопка, спутниковая тарелка.
«Ненавижу всех, кого вижу», – уже спокойнее, но и убежденнее заявила смутная Людочка, ее обернувшееся лицо, странно выеденное глубокими темнотами, показалось Марине похожим на ухо. Резкий выпад, с каким напарница, возвращая крышечку, словно попыталась посмотреть на часы, бывшие у нее на другой руке, дал понять, что Людочка пьяна; посветив на свои, закатившиеся от фонарика будто кукольный глаз, Марина различила только поймавшую свет минутную иглу и как-то безнадежно поняла, что и сегодня не удастся увидеть мужа, чтобы его официально выгнать. Наконец на пригорке послышалось шуршание пинаемых листьев: бухгалтерша спускалась впереди, запахиваясь и позевывая, шофер, косолапо разъезжаясь, с ухмылкой поспешал за ней и волок в охапке безобразно умятый газетный кочан, полный колкой массой мелких, как булавки, вместе с жухлыми листьями надранных яблок. Ни клея, ни листовок у парочки не было вовсе; на трагический Людочкин рассказ о мужике с ножом они великодушно выделили каждой пострадавшей по спутанной ежовой горсти краденых плодов. Все происходящее было полным абсурдом, можно было только делать вид, что это работа, имеющая цель. Пробуя на зуб заскорузлый, как ватка, привядший дичок, Марина решила, что единственный способ вернуться и вернуть к реальности других – это написать на бухгалтершу и шофера объективную докладную.
* * *
В первый день после экспедиции казалось, что жертвы были напрасны и объявления, белевшие всюду, подобно тучам внезапно вылетевших ради однодневной жизни мотыльков, не дали никакого результата. Но уже поближе к вечеру началось столпотворение. После того как приготовленные сто «Инструкций» были разобраны, население поверило, как в Бога, что в штабе Кругаля даром раздают наличность. В задней комнатке штаба, которой низкая лампа, освещающая только руки на обширной, глухим сукном затянутой столешнице, придавала вид картежного притона, были вскрыты дополнительные банковские упаковки; тут же заторможенная Людочка, долго ориентируя линейку и цепляясь карандашом за острый маникюр, линовала новую учетную тетрадь. Образовалось немало неожиданных проблем: так, уяснив, что видимых ограничений нет, люди потянулись в агитаторы целыми семействами, что существенно снижало эффективность плановых вложений. Марина лично попыталась отказать интеллигентной, с паническими глазами супружеской паре, за спинами которых к тому же скучало пухлое, затянутое в многоклапанную куртку и ее завязки чадо мужского пола, явно имеющее паспорт. Полюбовно согласились, что запишется только глава семейства – все не перестававший извиняться, пока Марина обрабатывала его обветшалый, плоский, будто мухобойка, гражданский документ. Однако, как оказалось потом, терпеливая супруга, тихо исчезнувшая из виду в двух шагах от Марининого стола, записалась сама и записала ребенка у другого регистратора – и такие случаи выявлялись ежедневно.
Странное впечатление производили женщины за сорок, явно подпавшие под чары Апофеозова, но пришедшие к его противнику за своими пятьюдесятью рублями: несколько смущенные, но и генеральски представительные в розовых и кремовых шинелях базарного кашемира, они торопливо виляли ручкой в тетрадке, словно тут же замарывали собственную подпись, и сразу открепляли купюру от инструкции, вынося последнюю на отлете и высокомерно оглядывая помещение в поисках мусорного ведра. Этими инструкциями, точно бумажным снегом, были густо занесены щербатые ступени, ведущие в штаб. Эти же листки, свежие и в волдырях от крупного дождя, с размазанными, словно слизанными отпечатками подошв, заволакивало ветром в узкие колодцы полуподвальных окон, где они забивали махровые от ржавчины оконные решетки вместе с веснушчатыми листьями берез, повисали волглыми гроздьями на ватной смоченной паутине.
Теперь перед штабистами ежедневно проходили представители территории, всех ее покатых улиц и мутноватых слоев, – и странно было думать, что текст объявления, будто заклинание, вызвал к жизни, выманил из укрытия всю эту нестройную популяцию – что избиратель, обычно невидимый и анонимный (и тем таинственный даже для прожженных пиарщиков, косвенно вычисляющих его поведение с астрономической точностью), теперь, прежде чем проголосовать за кандидата, явился в лицах, показал себя избирательному штабу в натуральную величину. Возник, между прочим, и давешний мужик в морщинистом, до пола, кожаном пальто, на котором подсыхала замытая тряпкой бледная грязь. Обнаружив утром на своем неровном, будто полосы у зебры, заборном горбыле заманчивый листок, он никак не связал этот внезапный подарок от Деда Мороза с ночным происшествием – да и вряд ли что-нибудь помнил. Оказался он, кстати, не таким уж и страшным, разве что неухоженным и нервным; лоб его был перекошен какой-то трагической заботой, слезящиеся глазки поблескивали, будто жемчужинки в плоти моллюска, и он все время комкал и устраивал под горлом износившийся до легкой ветошки мохеровый шарфик. При дневном освещении было трудно вообразить, что этот запущенный интеллигент может кого-то зарезать ножом, тем более что глуховатый голос его звучал весьма приятно, перемежаясь мягким дыхательным покашливанием. Отрекомендовавшись «известным художником», он немного побродил между столами, деликатно заглядывая в оформляемые бумаги: потом убежал на два часа и, воспользовавшись чьим-то невнятным разрешением, притащил, упаковав их в апофеозовские предвыборные газеты, несколько картин. Шедевры Марине не понравились совсем: вещи, изображенные на них, были по сравнению с реальными оригиналами неприятно влажны и бесформенны, они прилегали друг к дружке с тою характерной плотностью, с какой бывают уложены внутренние органы во вскрытой полости живого существа. Контраст между трудом, явно затраченным на выработку каждого квадратного дециметра произведения, и ничтожными ценами на картины был таким провокационным, что многие тут же полезли за кошельками. Людочке, например, достался небольшой квадрат розоватой живописи в дощатой рамке: обильно намазанный красками холстик изображал такой невероятный ливер, что в его перламутровых вздутиях лишь с некоторой долей вероятности угадывались чайная посуда, настольная лампа.
Что касается Марины, то она была в числе немногих не поддавшихся на дешевизну. С некоторых пор она с особой тщательностью вела учет своего кошелька: знала точно, сколько там лежит и в каких купюрах и сколько осталось дома в дешевой шкатулке, отделанной похожими на гипсовые ноздри битыми ракушками, хорошенько припрятанной под седыми от ветхости старыми комбинашками. Каким-то образом точность этого учета (доставлявшего Марине тихий кайф и вместе с кайфом неуверенную боль) связывалась с тем, что Марина осталась одна. Без Климова, что-то приносившего, что-то тратившего без спроса, бывшего всегда сплошной неопределенностью и утечкой, Марина получила возможность целиком и полностью контролировать бюджет. Раньше хаотичный муж в увлеченности будущими прибылями мог, например, купить для отделки своих деревянных художеств банку страшно дорогого финского лака (две трети его, неиспользованные и плохо закрытые крышкой, после засохли в глухие окаменелые куски). При Климове Марина, чтобы хоть как-то ограждать свое, делала множество заначек: порой карманы ее старой одежды, где еще гуляла задубевшая дореформенная мелочь, бывали буквально набиты деньгами, зимнее пальто, украшенное рыхлой полуразвалившейся лисой, иногда обогащалось, как Гобсек. Теперь же Марина, замкнувшись в собственных расходах и расчетах, собрала наличность в одно подконтрольное место; взять и потратить из этого какую-нибудь сумму сделалось значительно трудней.
Может быть, Марина экономила деньги для будущей свободной жизни, для какой-то утешительной покупки; но, скорее, у нее впервые зародилось неясное сомнение, что она действительно займет замдиректорское место в покоренной телестудии. Сложно было определить, откуда тянет нехороший ветерок: приободрившийся Кругаль был приветлив как никогда, при виде Марины добродушно шевелил лицом (приобретающим внезапное сходство с кухонной варежкой, через которую хотят половчее взяться за горячую сковородку) – да и профессор Шишков, как он ни был озабочен незапланированным превышением сметы, всегда находил полторы секунды, чтобы, проходя, положить холодную неемкую ладонь на затылок своей протеже. Наверное, все-таки Марина слишком часто воображала картины будущего процветания, слишком этим жила – и, конечно, там не обходилось без Климова, без его теневого присутствия. Теперь же, когда Марина поняла (или жестко внушила себе), что никакого Климова больше не будет, воображаемое сразу потеряло правдоподобие.
Самое мучительное заключалось в том, что неверный муж не исчез совсем. Марине, занятой по горло наймом агитаторов (а надо было еще готовиться к теледебатам, на которых Апофеозов, по слухам, мог появиться с какой-то убийственной «Программой народного спасения», а Федор Игнатович Кругаль желал присутствовать непременно в смокинге), все не удавалось застукать мужа дома и отобрать у него ключи. Между тем следы его дневных появлений делались все более странны. Он, несомненно, отсыпался днем – о чем свидетельствовала кое-как заброшенная пледом мятая кровать, на которой словно не спали, а ходили по ней ногами; откинув плед, Марина не обнаруживала там следов округлого, хорошо натертого логова, какое муж, бывало, належивал себе в постели каждую ночь: там все было неопределенно, точно Климов сделался плоский. Вещи его, за которыми Марина следила исподтишка и с пристальностью охотника, то уплывали в места его таинственных ночевок, то возвращались истрепанными, потерявшими форму и вид, словно их за это время успевали поносить десяток разных, не очень опрятных мужчин. Однажды в ванной обнаружилась и постирушка: слипшееся бельишко висело на веревке грузной кучей вареной лапши, распаренный свитер грубой вязки, оплывающий понизу похожими на инфузорий мутными каплями, был еще теплый на ощупь, за тазиком пряталась насквозь промоченная, ставшая совершенно ватной пачка стирального порошка.
Просто удивительно, как муж умудрялся избегать, казалось бы, неизбежных встреч. Однажды Марине, устало поднимавшейся по лестнице подъезда, явственно послышались встречные, характерные своей пригашенностью Сережины шаги, которые тут же, как только были обнаружены, зависли в невесомости. Потом, сделавшись в четыре раза легче, шаги устремились наверх: словно кто-то тихонько чиркал по опасному, готовому разразиться шипучей вспышкой спичечному коробку. Марине ничего не стоило подняться еще на шесть пролетов, загнать беглеца головой под чердачный люк, закрытый на вечный висячий замок; но, когда она долезла наконец до собственной квартиры, наверху, прямо у нее над головой, вдруг установилась такая пустая, вакуумная тишина, что Марине показалось диким тащиться с тяжелыми сумками выше, обозревать совершенно голые площадки, самой возникать в одиночестве перед подслеповатой оптикой уже ночных, полностью задраенных квартир. А однажды Марине померещилось в кустах… Впрочем, человек, метнувшийся от освещенного подъезда в прутяную, шевельнувшую тенями темноту, мог, хотя и было что-то совсем Сережино во вскинутом, укрывающем голову локте, оказаться просто-напросто бомжом, собирающим бутылки. Стараясь побыстрее миновать завесу вывалившейся из газона, пол-асфальта занимающей сирени, Марина чувствовала человека за ветвями, как если бы он был древесным содержимым, чем-то соприродным тому обитателю узора на обоях, которого различаешь в томительном сумраке между сном и явью – когда химеры, забирая у лежащего его реальность, становятся видны и подвергают донора медленному ужасу; ей даже показалось, будто она успела увидать, как неясная тень, задрав на грудь пузырь какой-то громоздкой одежды, несходящимися руками расстегивает штаны.
Видимо, Марина, испуганная изменой мужа гораздо больше, чем могла себе позволить в предвыборной суете, стала бояться мужчин: подсознательно они ей представлялись теперь извращенными существами, что прячутся в темени и грязи, чтобы оттуда угрожать нападением или каким-то воздействием, от которого душа становится как опыт по химии, разогревающий в груди какие-то едкие вещества. Может быть, человек в газоне и живописец с курносым ножом, будучи реальными людьми, были в той же степени и порождениями Марининого страха: именно страх заставил их появиться из ниоткуда, безо всяких объяснений своего существования. Собственно, так уже было – давно, в общежитии. Марина помнила, как она сперва не боялась ничего и ходила во все незапертые комнаты, даже в те, где пили водку, тупо брякаясь стакашками, и тянули ее посидеть на коленях, где было неудобно, как на взрослом велосипеде. Потом она внезапно стала бояться, особенно дяди Коли Филимонова, который ходил и сидел подхватившись, будто терпел до туалета; глаза у него были красные, как божьи коровки, и у него болела похожая в бинтах на зайца правая рука. Потому что он любил смотреть в окно, когда там уже стояла масляная ночь, Марина начала бояться темноты. После, когда принарядившаяся мать увезла ее из общежития, это прекратилось, а теперь вот снова началось. Возможно, Марине следовало обратиться к кому-то за поддержкой, но она, наученная опытом, была не из тех, кто откровенничает с людьми. Вечерами она исправно гасила прикроватную лампу, сразу же уступавшую место порошковому оконному свечению, и долго металась, ворочая обе грузные подушки, словно два мешка истертых в труху воспоминаний. Про себя она неостановимо разговаривала с мужем, иногда улыбаясь разбитой улыбкой, если в уме застревала какая-нибудь смешная реплика. Этих мысленных разговоров уже набиралось столько, что, даже если бы девица в конской сбруе резко сошла с дистанции, все равно повседневная жизнь не дала бы Марине возможности проговорить все это в действительности. Постепенно отрываясь от реальности, Марина видела просвечивающие, дневные сны, отделенные от яви только мутной молочной перепонкой, пропускающей звуки и основные краски. Казалось, будто муж оставляет ей эти сны посмотреть, как раньше оставлял почитать журнал или газетную статью.
* * *
Если бы Марине удалось поговорить с неверным Климовым хотя бы несколько минут, это бы перекрыло фантастический поток мысленного общения с ним, который не прекращался даже на работе и откладывался в почерке Марины лишними сегментами, набухшей буквенной икрой, так что паспортные данные избирателей в ее тетради даже зрительно походили на посторонние мысли. Вдруг обнаружилось, что образ Климова, который Марина уже давно считала потускневшим, на самом деле ярок в ее сознании яркостью паразита, обвившего своими сильными побегами каждую надежду и каждое движение ума. Ощущения, которые Марина испытывала, когда искала встречи с беглецом, считая минуты до окончания рабочего дня – проживая каждый день с тикающим часовым механизмом, встроенным в мозг, – сильно напоминали те, на первом курсе, когда Марина бегала за Климовым и сидела совершенно выключенная, если он по каким-то высшим причинам не приходил на лекции. Внешне состояния тогда и теперь были до смешного одинаковы, воспроизводились даже мелочи вроде кислого электролитного пощипывания на взмокших ладонях или внезапного глухого нетерпения, переходящего во внутренний крик, когда обстоятельный избиратель, еще и поместив на стол Марины свою какую-нибудь пустобрюхую сумку, задерживался перед нею больше чем на несколько минут. Однако нынешние чувства – копии прежних – были полыми внутри: сердце билось сильно, но сердце было пусто. Чувства больше не имели предмета и потому нуждались в нем сильнее, чем когда недостижимый Климов просто прогуливал пары или быстро выходил навстречу Марине из помещения, куда ей по какой-то надобности следовало войти, – и помещение становилось тупиком. Видеть его ежедневно было потребностью неодолимой; если на лекциях вдруг заходила речь о чем-то волнующем и высоком (преподаватель русской литературы, догорающий энтузиаст с вытаращенными тусклыми глазами и косою челкой, напоминающей стрелу на карте военных действий, подолгу запевался на кафедре стихами классиков), Марина оборачивалась и восторженно смотрела на Климова, который тут же ложился лохматой головой на локоть, оттирая конспект. Тогда, по крайней мере, было на кого смотреть – хоть Климов этого и не любил; теперь же пустота маячила десятками разных образов, по большей части пугающих и неприятных. Иногда Марине мерещилось, будто мужские тени, дневные и ночные, вступили в сговор и перемещаются согласованно – все в черной обуви, – тогда как единственной реальностью были гуляющие где-то по веселой, лихо брызгающей слякоти климовские рыжие ботинки.
Наблюдался и еще один болезненный феномен. Неожиданно прошлая жизнь – все, что Марина считала оставленным очень далеко, отделенным многими годами от сегодняшнего дня, – внезапно оказалась здесь и теперь окружала ее гораздо плотней и настоятельней, чем реальность облетающих улиц и подвального рабочего места – тоже усиливших напор с помощью потоков автотранспорта и ежедневной, бормочущей с закрытыми ртами толпы посетителей. «Вся моя жизнь при мне», – говорила себе Марина, глядя куда-нибудь в свободное пространство (настолько узкое и с таким ограниченным небом, что вряд ли это можно было назвать свободой), и тут же чувствовала свою утрату, как если бы у нее при сохранении всего морально устаревшего имущества был незаконно отнят какой-то главный капитал. Теперь попытка накапливать деньги в побитой шкатулке, под брякающим мочалом из стеклянных бусинок, перепутанных цепочек и прицепившихся комарами дешевеньких серег, выглядела приветом из прошлого. За нынешней сокровищницей вдруг проступил, ударив Марину в сердце, ее абсолютный прообраз: общажная шкатулка для подарков – шершавая от грубой ржавчины чайная жестянка, изнутри сохранившая мутно-золотую, как бы надышанную зеркальность стенок и дна, но не уберегшая пустую конфету, которая однажды сплющилась и стала похожа на дохлого жука, выпустившего наружу раздавленные нижние крылья. Спрашивается, какие подарки и конфеты могла купить себе Марина на накопленные тысячу четыреста рублей, чтобы потратить деньги не зря?
Возвращение прошлого выявило между прочим, что за те пятнадцать лет, что начисто смели фундаментальную орденоносную эпоху, которую Марина автономно пыталась сохранять, Климов не изменился совсем. То, что муж неожиданно связался с другой, экзотической женщиной – из чьей головы росло слишком много грубых смоляных волос, чтобы эта небольшая луковица сохраняла человеческое строение мозга, – только подчеркивало, что сам он остался прежним. Теперь Марина не только знала факт, что у Климова есть другая, но и знала буквально, как и что у них происходит: когда Сережа, например, тянулся к женщине с поцелуем или подводил ей пальцем, как, бывало, Марине, ее широкие копченые брови, должно быть, казавшиеся после Марининых ощипанных стебельков попросту мужскими, – Марина им была ненужный, лишний свидетель. Марина могла представить, как велико желание Климова устранить жену, чтобы она не подглядывала за ним и его подружкой в метафизическую щель. Чувство жертвы просыпалось сразу, как только под аркой, ведущей во двор (домой Марину уже давно никто не подвозил), слышались чьи-то сырые, деревянными кубиками стучавшие шаги: Марина еле удерживалась, чтобы не броситься бегом прямо по лужам, где цепочками темнели неверные, похожие на чьи-то оставшиеся в воде ботинки, обломки кирпичей, а спасительный подъезд слезился лампочкой на том конце двора и все никак не приближался.
Но самая главная опасность, которую Марина даже не додумывала, чтобы не впадать в прострацию и продолжать работать в штабе, заключалась в том, что Климов своим уходом грозил разрушить ее кропотливую, многолетними трудами созданную конструкцию. Чтобы сердце отчима не подвело и доработало до лучших времен, Марина была готова на все. Климов не знал, как она унижалась перед некой Зоей Петровной, постной блондинкой с ротиком как тушеная морковь, зав. архивом полуразвалившейся прямо в центре города киностудии. Климов представления не имел, каких усилий стоило Марине каждый раз договариваться с монтажером Костиком, существом уклончивым и хитрым, обожавшим свои цветные рубашечки, бисерные фенечки, хрупкие зеркальные очочки, но державшим в совершенно свинском состоянии титанический компьютер, в чью античную белую красоту навеки въелась смуглая грязь, а клавиши напоминали коренные зубы, истертые грубым кормом до потери алфавита и триста лет нечищенные. Этот крысовидный Костик (новоявленный фанат генерального секретаря, бомбардировавший сетевые аукционы запросами о личных вещах Л.И. Брежнева), несомненно, имел какие-то свои, виртуальные причины недолюбливать Кухарского – но всякий раз, помогая опальной Марине «лепить прикольную халтурку», капризно повышал оговоренную в долларах сумму гонорара и норовил вмонтировать в «новости» свою физиономию, выглядевшую среди благопристойных советских обличий будто морда обезьяны. Все это, безобразное и глупое, приходилось терпеть. Своим неизбежным сообщникам Марина врала, будто готовит забойный спецпроект, альтернативное постдокументальное кино – что было по большому счету правдой, ибо поддельные новости оказывались выразительней, чем когда они были якобы настоящими. В материале ясно проступали спецэффекты развитого социализма, где, в отличие от голливудских аналогов, ничего не взрывали и не крушили автомобилей, а, напротив, строили грандиозные, перерастающие смысл сооружения, наглядно являвшие геометрию поднятой в индустриальный воздух катастрофы.
Чтобы добиться на своей территории относительной стабильности, Марина добровольно сделалась сердцем парализованного времени, героиней советского фильма; задним числом она почти полюбила комсомол и свою придуманную партийность – что сказалось, к примеру, на ее положении в заговоре и в штабе профессора Шишкова, где Марина, несмотря на низкую зарплату, стала знаковой фигурой и совестью всего мероприятия. С чисто партийной принципиальностью Марина также не допустила, чтобы отчим узнал о смерти пьяницы-племянника, имевшего внешность покойника задолго до того, как его сожительница зарубила беднягу классическим российским топором. Марина лично выезжала на место происшествия от криминальной хроники «Студии А»: на нее, тогда еще бесстрашную, не произвели большого впечатления ни темноватый маленький топорик с небольшой, по краю лезвия, полоской грязной кашицы, какая бывает под ногтями, ни мелкие клопиные брызги крови на кухонной стенке. И все-таки она отказалась утвердить эту позорную смерть в качестве факта действительности. Для беспокойной матери, тоже не допущенной к реальным новостям, но как-то почуявшей неладное, криминальная история была переделана в отравление водкой – что тоже отчасти являлось правдой, поскольку, по сведениям из анатомички, организм племянника на момент, когда его, не стоящего на ногах, уравновесило топором, был абсурден, как суп, и жить ему оставалось едва ли несколько недель. Однако теперь приходилось заботиться о поддержании псевдожизни и этого персонажа – причем покойный алкаш, до топора проявлявший себя через мелкие займы по красным пенсионным дням, оказался куда как более прожорливым паразитом, чем канонический Брежнев. Придумав племяннику благотворительный наркологический санаторий (за которым тут же встали двугорбой тенью апофеозовские братья-бизнесмены, как раз занявшиеся, уже на пару, антиалкогольной благотворительностью), Марина никак не могла рассчитаться с его немалыми, как оказалось на поверку, пьяными долгами, сильно истощившими шкатулку. Почему-то ей казалось важным полностью выплатить то, что было записано на последней странице ее же старого ежедневника: следовало избыть потертый рукописный календарик, дойти до нуля. Но предприятие затруднялось не только отсутствием свободных средств, но и той ужасной неопределенностью, что возникла в результате неожиданных визитов алкоголика, когда он, бывало, обнаруживался на кухне, мучительно трезвый, с тяжелой мордой загримированного трагика и по-женски сведенными коленками, мучительно ковыряющий на блюдце шоколадную мазню домашнего торта, – и, конечно, занимавший без ведома Марины на хороший, справный опохмел. Его, таким образом, никак не получалось обнулить – и, видимо, мать, доставая из почтового ящика очередной отправленный Мариной перевод, все-таки спрашивала себя, отчего остепенившийся родственник не кажет глаз и не приходит даже на праздники, бывшие для него всегда святыми датами восстановления в правах и единения с людьми. Должно быть, втайне мать подозревала, что резкая Марина обидела родного человека – что тоже было правдой, потому что обида мертвых на живых всегда пропитывает ночь и проступает на обоях, и к тому же Марина спрятала труп.
Тем не менее внутри домашнего кино, в пределах устойчивой, как табуретка, семьи из четырех человек, все развивалось по простым законам советского благополучия. Теперь же Марине, выгнавшей Климова, предстояло взять на себя кормление еще одного фантома – собственно говоря, уже давно обитавшего в квартире как уклончивое привидение, почти не питавшееся человеческой пищей и сидевшее в кресле с газетой как олицетворение мужа вообще. Собственно, Климов почти не заходил туда, где лежал и следил глазами перекошенный больной; с комнатой родителей, оформленной под красный уголок, Климова связывало всего лишь содержимое платяного шкафа, одного на все семейство, – и в последнее время Нина Александровна сама выносила ему его полураздетую вешалку, на которой болтался, подобный мечу на перевязи, единственный климовский шелковый галстук.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































