Текст книги "В движении. История жизни"
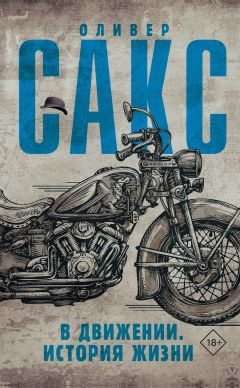
Автор книги: Оливер Сакс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Чего он только ни возил в своем грузовике – и плоды опунции, и даже динамит. Теперь возит только мебель, хотя сюда может попасть вообще что угодно из обстановки. Сейчас у него в фургоне обстановка семнадцати жилищ, включая семьсот фунтов разных гирь и колец для штанги (имущество бодибилдера, который переезжает из Флориды), рояль из Германии, лучший из тамошних лучших, десять телеящиков (прошлой ночью на остановке они один сняли и включили) и старинная кровать с балдахином, которую нужно доставить в Филадельфию. При желании в ней можно в любое время поспать.
Кровать с балдахином вызывала в Маке ностальгические воспоминания, и он принялся рассказывать о сексуальной стороне своих приключений. Похоже, всегда и везде он пользовался невероятным успехом у женщин, хотя его симпатии были отданы лишь четырем. Это была девица из Лос-Анджелеса, которая удрала из дома в его грузовике, а он и не знал. Потом были две девственницы из Вирджинии; он переспал с обеими одновременно, а потом они много лет снабжали его одеждой и деньгами. И наконец, была нимфоманка из Мехико, которая могла за ночь переспать с двадцатью мужиками и требовать еще.
Он постепенно разогревался, недавняя скромность исчезала. Наконец Мак явился в своем полном блеске: Сексуальный Атлет и Великий Рассказчик. Для одиноких женщин он был даром Господним.
Именно в процессе этой декламации Говард, который лежал на заднем сиденье в каком-то вялом ступоре, навострил уши и начал выказывать первые признаки оживленности. Увидев это, Мак принялся было подшучивать над парнем, а потом и вообще подстрекать: сегодня на ночь, говорил Мак, он притащит в кабину девчонку, а его, Говарда, запрет в фургоне. А если Говард будет вести себя как надо, то он обязательно найдет ему настоящую девку (слово «девка» Мак произносил с двойным «ф»: «деффку»). Говард раскраснелся, от волнения дыхание его участилось; наконец, почти обезумев, он бросился на Мака.
Пока они возились в кабине, наполовину в шутку, наполовину всерьез, баранка грузовика болталась из стороны в сторону и машина опасно виляла по полосе шоссе.
Но между такими потасовками Мак еще и занимался, на неформальных основаниях, образованием Говарда.
– Ну-ка, Говард, скажи, – начинал он, – как называется столица штата Алабама?
– Монтгомери, грязный ублюдок!
– Именно так. Не всегда столицей делают самый большой город штата. А теперь посмотри: вот дерево, называется орех-пекан.
– Пошел к черту, мне плевать! – ворчал Говард, но тем не менее поворачивал голову в нужную сторону. Часом позже мы свернули на стоянку где-то в самых дебрях Алабамы – Мак решил, что именно здесь нам лучше провести ночь. Местечко называлось «Счастье дороги».
Мы вошли, чтобы выпить кофе. Мак сел, полный решимости хорошенько развлечь меня «забавными историями», которых у него был неиссякаемый запас, но которые мало соотносились с его жизненным опытом. Исполнив эту свою дружескую обязанность, он отошел в сторону и присоединился к толпе других водителей, стоящих у музыкального автомата.
В субботу по вечерам водители грузовиков всегда толпятся возле музыкальных автоматов и отчаянно пытаются сделать так, чтобы репертуар этих машин хоть как-то соответствовал их профессиональным интересам. Музыкальный автомат в кафе «Счастье дороги» пользовался у них доброй славой – он содержал великолепную коллекцию песен и баллад о водителях и их больших грузовиках, своеобразный эпос большой дороги: дикий, порой непристойный, порой полный меланхолии и тоски, но всегда пропитанный энергией и ритмом, которые порождены поэзией скорости и бесконечных дорог.
Водители большегрузных машин обычно – одинокие люди. И тем не менее порой где-нибудь в жарком переполненном придорожном кафе, внимая какой-нибудь слышанной-переслышанной пластинке, вопящей из динамика музыкальной машины, они вдруг превращаются, без всяких слов или действий, из безликой толпы в гордое своим предназначением в этом мире сообщество мужчин. Каждый сохраняет свою анонимность, но при этом чувствует общность с теми, кто стоит рядом, плечом к плечу, равно как и с теми, кто был здесь раньше и уже стал героем водительских песен и баллад.
Мак с Говардом сегодня, как и все, переживали состояние восторженного единения с другими, чувство гордости – за себя и товарищей по профессии. Они словно забыли о времени, погрузившись в вечность. Но где-то около полуночи Мак резко встрепенулся и дернул Говарда за воротник.
– Оки-доки, малыш! – сказал он. – Пора поискать местечко поспать. Хочешь почитать перед сном молитву водителя?
Мак достал из записной книжки засаленную карточку и протянул мне. Я разгладил ее ладонью и прочитал вслух:
О Боже, дай мне сил добить маршрут
И заработать денег целый пуд.
Ты от прокола шин избавь меня,
Пошли покой мне на исходе дня.
Ты без потерь позволь пройти весы,
От копа полоумного спаси.
И сделай так, чтобы на выходных
Подальше от больших колес моих
Держались бы водитель-ученик
И дама за рулем. Хоть я привык
И к голоду, и к стуже, но пускай
Поутру сэндвич ждет меня и чай,
Покрепче кофе к вечеру в кафе,
Послаще телка к ночи на софе.
Коль от тебя все это получу,
Лет сто еще баранку покручу.
Свои одеяло и подушку Мак разложил в кабине, Говард забрался в узкую щель между мебелью, а я улегся на кипу мешков рядом со своим мотоциклом (обещанная кровать с балдахином находилась в голове фургона и была недоступна).
Я закрыл глаза и прислушался. Мак и Говард перешептывались, используя твердую стенку фургона в качестве проводника голоса. Мое ухо стало антенной; приложив его к решетчатой раме, я смог различить и прочие звуки, плывущие на нас от других машин: водители шутили, пили, кто-то занимался любовью.
Чувствуя себя совершенно умиротворенным, я лежал в этом черном аквариуме, наполненном звуками, и вскоре уснул.
В воскресенье на стоянке «Счастье дороги», как и по всей Америке, был выходной. Когда я проснулся, на меня сквозь прозрачный пластик крыши смотрело небо, я ощущал запах соломы, мешковины и кожи; последний шел от куртки, которая служила мне подушкой. Не сразу сообразив, где нахожусь, я решил, что ночевал в каком-то большом амбаре, но потом вдруг все вспомнил.
Раздалось мягкое журчание, которое началось внезапно, а закончилось постепенно, двумя маленькими финальными струйками. Кто-то помочился на колесо грузовика; нашего грузовика, вдруг подумал я почти по-хозяйски. Выбравшись из-под мешковины, я на цыпочках прокрался к двери и выглянул. Исходящий паром след вел от колеса к земле – свидетельство преступления; сам же преступник успел улизнуть.
Было семь часов утра. Я устроился на высокой ступеньке кабины и принялся писать в дневнике. Потом на страницу упала тень; я поднял глаза и узнал водителя, которого видел вчера мельком в прокуренном кафе. Его звали Джон – этакий блондинистый Лотарио, только не из романа Сервантеса, а из компании «Мейфлауэр Транзит». Не исключено, что именно он осквернил наше колесо. Мы немного поболтали, и он сообщил, что вчера выехал из Индианаполиса, причем там шел снег. Индианаполис был нашей следующей остановкой.
Через несколько минут явился еще один водитель, коротенький толстяк в цветастой рубашке, компании «Апельсиновые соки “Тропикана”» из Флориды. Наполовину расстегнутая рубашка обнажала волосатое пузцо.
– Господи, – бормотал он, – ну и колотун. Вчера в Майами было девяносто.
Подошли еще люди, и завязалась беседа о маршрутах и путешествиях, горах и океанах, равнинах, лесах и пустынях, снеге, граде, грозах и циклонах – обо всем, с чем можно было столкнуться в течение только одного дня. Сегодня, как и в любой другой день, здесь, на стоянке «Счастье дороги», жил полной жизнью мир странствий и необычного, уникального опыта.
Пройдя в конец фургона, я заглянул внутрь через полуоткрытую дверь и увидел Говарда. Он спал в своей нише. Рот его был приоткрыт, глаза тоже. Я вздрогнул – а вдруг он умер ночью? Но заметив, как он дышит и слегка шевелится во сне, я успокоился.
Через час проснулся Мак. Встрепанный и взъерошенный, он выполз из кабины и, неся под мышкой большой кожаный саквояж, исчез в направлении подсобки, устроенной на стоянке. Когда несколько минут спустя Мак явился перед нами, он был вымыт и выбрит, нарядно и чисто одет. Одним словом, готов для божьего дня.
Я присоединился к нему, и мы отправились в кафе.
– А как насчет Говарда? – спросил я. – Разбудить?
– Не нужно. Пусть малыш поспит.
Мак явно хотел поговорить без свидетелей.
– Если его не разбудить, – проговорил он, склонившись над завтраком, – он может проспать целый день. Он хороший парень, но не слишком сообразительный.
Они встретились за шесть месяцев до этого. Говард, двадцатитрехлетний бродяга, пробудил в Маке жалость. Десять лет назад мальчишка убежал из дома, и его отец, известный детройтский банкир, почти ничего не предпринял, чтобы вернуть сына домой. Он жил на дороге и возле нее, много странствовал, брался за случайную работу, иногда попрошайничал, иногда воровал, благополучно избегая церквей и тюрем. Ненадолго попал в армию, но был комиссован как умственно неполноценный. Мак однажды нашел его в своем грузовике и «усыновил» – брал во все поездки, показывал страну, учил паковать груз в тюки и тару (а также учил говорить и действовать), регулярно платил зарплату. В конце поездки, по возвращении во Флориду, Говард оставался в семье Мака и имел статус младшего брата.
За второй чашкой кофе лицо Мака стало сумрачным.
– Ему еще недолго быть со мной, как я думаю, – сказал он. – Может, я и сам недолго буду водить.
Он рассказал, что несколько недель назад у них был странный случай. Мак вдруг вырубился и загнал грузовик в поле. Страховку оплатили, но страховая компания потребовала, чтобы он прошел медицинское освидетельствование. Кроме того, он не должен ездить с напарником – какими бы ни были результаты медицинских исследований. Мак боялся, что у него эпилепсия, что страховщики его в этом заподозрили, и освидетельствование таким образом будет означать конец его водительской карьеры. Чтобы быть ко всему готовым, он уже присмотрел себе новую работу в Новом Орлеане, в страховой компании.
В этот момент подошел Говард, и Мак быстро поменял тему.
После завтрака Мак и Говард сели на старую покрышку и принялись швырять камни в деревянный столб. Вяло и бессвязно тек разговор – болтая о том и о сем, водители отдавались воскресной праздности. Через пару часов им это надоело; забравшись в грузовик, они снова заснули.
Вытащив из фургона пару мешков из джутовой ткани, я устроился позагорать среди разбитых бутылок, колбасных очисток, остатков еды, пустых пивных банок, использованных презервативов и невероятного количества рваной бумаги. Местами через весь этот мусор пробивались ростки дикого лука и люцерны.
Пока я лежал, дремал или писал, мои мысли неоднократно обращались к еде. Позади меня в пыли возилась стайка тощих кур, на которых я посматривал с затаенной надеждой. Дело в том, что еще утром Мак помахивал в сторону этих тщедушных созданий своим пистолетом (очень солидно выглядевшая автоматическая пушка) и говорил с довольным смешком:
– Вот и ужин на сегодня!
Время от времени я вставал размять ноги, выпить три-четыре чашки кофе и съесть мороженое с черным орехом (любовь в этому лакомству в конечном счете и привела меня к нынешним цифрам – двадцать восемь процентов чистого жира в организме по сравнению с нормой – семью процентами).
Также я частенько заглядывал в туалет при подсобке – от вчерашних стручковых перцев, которыми угостил меня Мак, у меня развилась сильнейшая диарея.
В маленькой комнатке туалета стояло целых пять автоматов, торгующих презервативами, – интересный пример того, как коммерческий интерес следует за мужчиной туда, где он справляет самые интимные свои потребности. Стоимость этих прелестных изделий (сопровождаемых способной вызвать восторг рекламкой: «упакованы с помощью электроники и запечатаны в целлофан; эластичны, обостряют чувствительность, абсолютно прозрачны») была полдоллара за три штуки, или, как немного нелепо додумались переиначить это продавцы, по «ТРИ ШТУКИ НА КУКОЛКУ»[16]16
Doll – сокр. от dollar – «кукла». – Примеч. пер.
[Закрыть]. Также здесь стоял автомат «Пролонг», выдававший анестезирующую мазь, которая, как было сказано, «способствовала предотвращению преждевременной эякуляции». Правда, Джон, местный «белокурый Лотарио», носитель исчерпывающей информации по всем вопросам сексуальной жизни, сказал, что мазь от геморроя гораздо лучше. «Пролонг» слишком сильный – никогда не знаешь, кончишь ты вообще или нет.
После ланча Мак неожиданно заявил, что останется в «Счастье дороги» еще на одну ночь. Его лицо расплывалось в довольной, намеренно таинственной улыбке – вне всякого сомнения, снял какую-нибудь Сью или Нелл и теперь притащит ее ночью в кабину. В атмосфере интриги Говард вел себя, как возбужденная собака. Несмотря на всю его браваду, я подозревал (и Мак это подтвердил), что у него ни с одной девицей так ничего и не было. Мак время от времени добывал ему партнершу, но Говард – столь горластый в отношении своих воображаемых побед – сразу, как только сталкивался с реальностью, становился одновременно застенчивым и грубым и в последний момент все портил.
Вернувшись к своим запискам и кофе, я иногда вставал размяться и с интересом разглядывал водителей, большинство из которых храпели в своих кабинах; я сравнивал их физиономии, а также позы, в которых их сморил сон.
В начале пятого небо на востоке начало светлеть – неторопливо и словно нерешительно. Один из водителей, проснувшись, прошел к туалету. Вернувшись к машине, он проверил груз, залез в кабину и захлопнул дверь. Зарычал двигатель, и грузовик, погромыхивая, медленно выехал со стоянки. Другие грузовики продолжали тихо спать.
К пяти часам вновь рожденное утро принялся омывать мелкий моросящий дождь. Один из взъерошенных петушков местного куриного племени поднял шум, и тут же из травы поднялся писк и треск насекомых.
Шесть часов, и кафе наполняется ароматом оладий масла, бекона и яиц. Пожелав мне удачи в моих странствиях по Америке, уходят ночные официантки. Появляется дневная смена и улыбается, увидев меня сидящим за столом, который я занимал весь вчерашний день.
Теперь я могу приходить и уходить, когда захочу. Более того, я ни за что больше не плачу. В последние тридцать часов я выпил более семидесяти чашек кофе, и этот рекорд предполагает солидную скидку.
Восемь часов. Мак и Говард только что поспешили в Колман, чтобы помочь людям из «Мейфлауэр» разгрузиться. Умчались они непривычно быстро – не помылись и даже не позавтракали. Саквояж Мака будет отдыхать, я думаю, всю неделю.
Я забрался в кабину, только что покинутую Маком и еще теплую от его влажного спящего тела, укрылся старым потертым одеялом и через мгновение уже спал. В десять меня разбудила канонада дождя, который лупил по крыше кабины; Мака и Говарда все еще не было.
Они наконец появились в половине первого, уставшие и забрызганные грязью, – с разгрузкой пришлось возиться в грозу.
– Господи! – проговорил Мак. – Как я вымотан! Давайте поедим и через час – едем.
Это было три часа назад, а мы все еще никуда не двинулись. Они и курили, и хвастались, и занимались пустяками, и приставали к официанткам – так, словно в запасе у них была тысяча лет жизни. Обезумев от нетерпения, я залез со своими записными книжками в кабину. Джон-Лотарио попытался меня обнадежить:
– Не беспокойся, малыш! Если Мак сказал, что будет в Нью-Йорке в среду, то он там будет – даже если зависнет здесь до вечера во вторник.
После проведенных на стоянке сорока часов я знаком здесь со всем до мелочей. Знаю целую толпу разного народа, их симпатии и антипатии, то, над чем они шутят, и то, что они на дух не переносят. А они знают все про меня – или думают, что знают, и снисходительно называют меня «док» или «профессор».
Я лично знаком со всеми грузовиками; мне известен их тоннаж и характер груза, сильные стороны и капризы, а также отличительные особенности.
Все официантки в кафе мне также хорошо знакомы: Кэрол, хозяйка, щелкнула меня своим «Полароидом» в компании со Сью и Нелл. Так я и останусь среди ее прочих фотографий на стене – с небритой физиономией и глазами, выпученными на вспышку. Да, я нашел свое место среди тысяч ее братьев, бойфрендов, которые во время долгих маршрутов по стране заезжают к ней и вновь ее покидают.
– Да! – будет говорить она в будущем какому-нибудь озадаченному посетителю. – Это Док. Классный парень, хотя и немного странный. Он приехал с Маком и Говардом, вот с этими. Я часто думаю: что с ним сталось?
«Побережье мускулов»
В июне 1961 года я наконец приехал в Нью-Йорк и, заняв денег у двоюродного брата, купил новый мотоцикл, «БМВ» R-60 – самый надежный из всех моделей марки. Мне больше не хотелось иметь дела с подержанными мотоциклами, подобными моему последнему R-69, на который какой-то идиот установил не те поршни, их-то и заклинило в Алабаме.
Несколько дней я провел в Нью-Йорке, а потом большая дорога вновь позвала меня. То ускоряясь, то замедляя движение, я возвращался в Калифорнию, оставляя за собой тысячи миль асфальта. Шоссе были волшебно безлюдны, и, пересекая Южную Дакоту или Вайоминг, я часами мог не встретить ни одного человека. Бесшумный ход мотоцикла, легкость движения – все это сообщало магический, полуфантастический характер моему путешествию.
Между человеком и мотоциклом устанавливается тесный союз, поскольку эта машина так точно и тесно связана с нашим ощущением собственного тела, что на все движения и позы ездока отвечает так, словно является его органичной частью. Ездок и мотоцикл являют собой единую и неделимую сущность – так же ты ощущаешь свое единение с лошадью. Автомобиль – нечто совершенно иное.
В Сан-Франциско я приехал в конце июня, как раз вовремя, чтобы сменить кожаный наряд байкера на белый халат интерна в больнице Маунт-Цион.
Во время своего долгого путешествия я ел от случая к случаю, а потому похудел. Но я также, если это было возможно, ходил в гимнастические залы и весил меньше двухсот фунтов, а потому был в отличной форме – чем и хвастался, когда в Нью-Йорке в июне демонстрировал свое новое тело и свой новый мотоцикл. Но когда я вернулся в Сан-Франциско, я решил «поднабрать веса» (как говорят штангисты) и попробовать установить рекорд в поднятии штанги, который, как мне казалось, был вполне достижим. Набрать вес в Маунт-Ционе оказалось несложно, потому что кафе при больнице предлагало двойные чизбургеры и огромных объемов молочные коктейли, причем для интернов и жившего при больнице персонала – бесплатно. Поедая по пять двойных чизбургеров и выпивая полдюжины коктейлей в день, а также интенсивно тренируясь, я быстро набирал вес, перейдя из полутяжелой весовой категории (до 198 фунтов) в тяжелую (до 240 фунтов) и сверхтяжелую (без ограничений). Я рассказал об этом родителям, как рассказывал им обо всем, и был удивлен их обеспокоенностью – ведь мой отец был далеко не легковесом и весил за 250 фунтов[17]17
Мой отец, пока была еда, мог есть безостановочно, но мог также и целый день обходиться без пищи, если таковой не было. То же самое и со мной. В отсутствие внутренних механизмов контроля я должен полагаться на внешние. У меня четкое расписание приема пищи, и я не выношу никаких отклонений от заведенного порядка.
[Закрыть].
В 1950-е годы в Лондоне, еще будучи студентом-медиком, я занимался поднятием тяжестей. Тогда я ходил в «Маккаби», еврейский спортивный клуб, и мы соревновались в поднятии тяжестей с другими спортивными клубами, причем в трех видах: подъем на бицепс, жим лежа и глубокое приседание со штангой (колени полностью согнуты).
Совершенно иначе выглядели олимпийские виды: жим, рывок и толчок, и в нашем клубе были штангисты мирового класса. Один из них, Бен Хелфготт, был капитаном английской команды штангистов на Олимпийских играх 1956 года. Мы стали хорошими друзьями (и даже сейчас, когда ему за восемьдесят, он сохраняет недюжинную силу и подвижность)[18]18
Достижения Хелфготта кажутся тем более выдающимися потому, что он пережил лагеря Бухенвальд и Терезиенштадт.
[Закрыть].
Я пробовал заняться олимпийскими видами, но выяснилось, что я слишком неловок. Исполняемые мною рывки были потенциально опасными для тех, кто оказывался вокруг меня, и мне недвусмысленно, прямым текстом, предложили отказаться от олимпийской программы и вернуться к обычному поднятию тяжестей.
Кроме «Маккаби», время от времени я посещал центральное здание ИМКА в Лондоне, где имелся зал для поднятия тяжестей, которым руководил Кен Макдональд, когда-то выступавший на Олимпийских играх за Австралию. Кен и сам весил немало, особенно благодаря своей нижней части; у него были огромные бедра, и он был мастером мирового класса в приседании со штангой. Я восхищался этой его особенностью и хотел иметь точно такие же бедра, а кроме того – развить силу спины, необходимую для приседания и подъема тяжести над головой. Кен более всего любил дедлифт на прямых ногах – вид, который словно специально создан (если эти виды вообще для чего-нибудь созданы) для нанесения повреждений спине, поскольку вес полностью фокусируется на поясничном отделе позвоночника, а не на ногах, как положено. Когда я достаточно усовершенствовал свои навыки, Кен пригласил меня поучаствовать вместе с ним в состязаниях: мы должны были по очереди исполнять дедлифт. Кен поднял семьсот фунтов, я – только пятьсот двадцать пять, но и это мое достижение было встречено аплодисментами, отчего я почувствовал удовольствие и гордость, – несмотря на то, что я был новичком, мне выпала честь участвовать в установлении нового рекорда в дедлифте. Но удовольствие мое длилось недолго, поскольку через несколько дней меня поразила такая сильная боль в нижнем отделе спины, что я едва мог двигаться и дышать. Рентген не показал никаких повреждений, а боль и спазмы сами собой через несколько дней ушли. Но на последующие сорок лет мне были периодически гарантированы внезапные атаки мучительной боли (по какой-то причине они оставили меня, когда мне исполнилось шестьдесят пять; а может быть, их просто сменил ишиас).
Я был восхищен системой тренировок, которой следовал Кен, а также особой, преимущественно жидкой, диетой, которую он разработал для увеличения веса. Он приходил на тренировки с полугаллоновой бутылкой, наполненной густой приторной смесью патоки и молока с добавлением различных витаминов, а также дрожжей. Я решил сделать то же самое, но не учел, что дрожжи через какое-то время заставляют сахар бродить. Когда я вытащил бутылку из гимнастической сумки, она была угрожающе раздутой. Ясно, что сахар забродил под воздействием дрожжей; я сделал смесь заранее, за несколько часов, в то время как Кен впрыскивал дрожжи в бутылку прямо перед приходом в зал. Содержимое бутылки было под мощным давлением, и я немного испугался, словно я неожиданно оказался владельцем мощной бомбы. Я думал, что, если я немного отверну пробку, произойдет мягкое снижение давления, но как только я ее чуть-чуть ослабил, она слетела, и полгаллона липкой черной грязи, к этому моменту уже пахнущей алкоголем, вылетело из бутылки подобно гейзеру и накрыло всю площадь зала. Раздался хохот, который сменился всеобщей яростью, и мне со всей суровостью запретили приносить в зал что-либо, кроме воды.
Наилучшие возможности для занятий с тяжестями были в центральном отделении ИМКА в Сан-Франциско. Когда я пришел туда в первый раз, то сразу заметил штангу весом почти четыреста фунтов, подготовленную к упражнению «жим лежа». У нас в «Маккаби» никто не мог бы взять этот вес, но когда я осмотрелся, то оказалось, что и в зале ИМКА не нашлось бы человека, способного на это. По крайней мере до той поры, пока в зал, прихрамывая (у него были чуть кривые ноги), не вошел коротенький, но очень плотный и с широкой грудью человек, настоящая светловолосая горилла. Человек лег на скамью и с дюжину раз легко поднял установленный вес – в качестве разминки, после чего стал добавлять и дошел почти до пятисот фунтов. У меня был с собой «Полароид», и я снял его, когда он отдыхал между подходами. Позже мы разговорились, и этот человек оказался доброжелательным. Он сказал мне, что его зовут Карл Норберг, что он швед, что всю жизнь он работал портовым грузчиком и что сейчас ему семьдесят лет. Его феноменальная сила пришла к нему совершенно естественным путем: единственным упражнением у него было носить в порту ящики и бочки, часто по одной штуке на плечо. При этом бочки и ящики были такого веса, что ни один «нормальный» человек не мог оторвать их от земли.
Пример Карла вдохновил меня на поднятие еще большего веса, и я начал работать над упражнением, в котором уже добился приличных результатов, – над глубоким приседанием со штангой. Настойчиво, даже с одержимостью тренируясь в маленьком зале в Сан-Рафаэле, я на каждый пятый день делал пять подходов по пять приседаний с весом штанги в пятьсот пятьдесят пять фунтов. Симметрия цифр доставляла мне удовольствие, а в зале вызывала бурю смеха: «Опять Сакс со своими пятерками!» Я не понимал, как важно все это было, пока другой атлет не посоветовал мне замахнуться на рекорд Калифорнии в этом виде. Слегка робея, я сделал это и, к своей радости, установил новый рекорд штата, имея на плечах штангу в шестьсот фунтов. Это был пропуск в большой мир пауэрлифтеров – в этой среде рекорд в поднятии тяжестей эквивалентен тому, что в академическом мире дает публикация научной статьи или книги.
К весне 1962 года моя интернатура в Маунт-Ционе подходила к концу, а 1 июля должна была начаться моя аспирантура в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Но до этого мне нужно было побывать в Лондоне. Моя мать сломала бедро, и я был очень рад повидать ее после операции. Саму травму, операцию, боль все последующие недели выздоровления мама переносила с чрезвычайной стойкостью духа и намеревалась вернуться к своим пациентам, как только сможет отставить в сторону костыли.
Для человека на костылях винтовая лестница в нашем доме, с поношенным ковром и кое-где расшатанными ступеньками, была небезопасна, а потому я носил мать вверх и вниз, когда ей было нужно; раньше она была против моих спортивных занятий, а теперь была рада тому, что я такой сильный. Поэтому я откладывал свой отъезд до того момента, когда она сможет справляться с лестницей самостоятельно[19]19
К сожалению, бедро было сломано в неудачном месте, и перелом нарушил кровоснабжение головки бедренной кости. В результате развился аваскулярный некроз головки, ставший причиной сильной постоянной боли. Несмотря на стоический характер моей матери, которая, несмотря на боль, продолжала работать с пациентами и жила полноценной жизнью, болезнь неизбежно изнашивала ее организм, и, когда я вернулся в Лондон в 1965 году, она выглядела лет на десять старше, чем была три года назад.
[Закрыть].
В Калифорнийском университете у нас был «Журнальный клуб», где мы читали и обсуждали самые свежие работы по неврологии. Я иногда раздражал коллег, заявляя, что мы также должны читать ученых девятнадцатого века, наших далеких предшественников, соотнося с их наблюдениями и идеями то, что мы видим у наших больных. Другие усматривали в этом какой-то «архаизм»; при недостатке времени у нас были гораздо более важные дела, чем чтение какой-то «устаревшей» литературы. Подобная позиция отражалась и на большинстве статей, которые мы читали: они редко обращались к источникам, возраст которых превышал пять лет. Дело выглядело так, будто у неврологии не было истории.
Меня это пугало, поскольку я привык мыслить в исторических категориях и нарративных схемах. Увлекаясь в детстве химией, я поглощал книги по истории этой науки, читал об эволюции этой науки и о жизни моих любимых химиков. Таким образом, химия обретала для меня историческое и человеческое измерение.
То же самое произошло, когда мое внимание поглотила биология. В этой сфере моей главной страстью, естественно, стал Дарвин, и я прочитал не только его «Происхождение видов» и «Происхождение человека», не только «Путешествие на корабле “Бигль”», но и все книги по ботанике, включая «Коралловые рифы» и «Земляные черви». Но больше всего я любил его автобиографию.
Эрик Корн питал сходную страсть, что заставило его бросить карьеру ученого-зоолога и стать продавцом антикварных книг со специализацией «Дарвин и наука девятнадцатого века». Ученые и продавцы книг со всего мира консультировались у него, пользуясь его уникальными сведениями о Дарвине и его времени, и он был другом Стивена Джея Гулда. Эрика даже попросили – никто другой этого бы не сделал – реконструировать библиотеку, принадлежавшую Дарвину в Даун-Хаусе.
Сам я книг не собираю, и когда я покупал книги или статьи, то делал это, чтобы читать, а не демонстрировать кому-либо. Поэтому все рваные или поврежденные книги Эрик оставлял для меня – книжку без обложки или, скажем, без титульного листа никакой коллекционер не купит, а я покупал, и недорого. Когда во мне пробудился интерес к неврологии, именно Эрик достал для меня руководство Гоуэрса от 1888 года, лекции Шарко и массу менее известных, но для меня очень привлекательных и будоражащих воображение текстов девятнадцатого века. Многие из этих источников послужили основой для книг, которые впоследствии я написал.
Одна из первых пациенток, с которой я столкнулся в Калифорнийском университете, буквально восхитила меня. Внезапное судорожное сокращение мышц при засыпании – довольно обычная вещь, но у этой молодой женщины миоклония была куда более сильной, чем обычно; более того, на мерцающий свет особой частоты она реагировала конвульсиями всего тела, а иногда и полномасштабными судорожными припадками. Эта проблема существовала в ее семье в течение пяти поколений. Совместно с коллегами Крисом Херрманном и Мэри Джейн Агвилар я написал об этой пациентке свою первую статью для журнала «Неврология», а потом, увлеченный самим феноменом судорожных сокращений, а также многочисленными условиями и причинами их возникновения, – маленькую книжку, которую назвал «Миоклонус».
В 1963 году Калифорнийский университет посетил Чарлз Латтрелл, невролог, известный своими выдающимися работами по миоклонии. Я рассказал ему о своем интересе к этому предмету и заявил, что был бы крайне признателен, если бы он высказал свое мнение о моей книжке. Латтрелл любезно согласился, и я отдал ему рукопись, единственный экземпляр. Прошла неделя, другая, третья… Шесть недель минуло, и, не в силах справиться с нетерпением, я написал доктору Латтреллу и узнал, что он умер. Вот это был удар! Я написал письмо его вдове, выразив свои соболезнования и свое восхищение работами усопшего, но решил, что в этот момент было бы неудобно просить о возврате моей рукописи. Правда, и потом я не стал об этом просить. Не знаю, существует ли она. Может быть, ее выбросили, а может быть, лежит она где-нибудь и пылится в забытом ящике стола.
В 1964 году в неврологической клинике университета мне довелось столкнуться с молодым человеком, Фрэнком С., чей случай поставил меня в тупик. Фрэнк страдал от постоянных судорожных подергиваний головы и конечностей; подергивания начались у него, когда ему было девятнадцать, и с каждым годом становились все сильнее. В последнее время он уже не мог нормально спать, поскольку все тело его постоянно конвульсивно сотрясалось. Он пробовал принимать транквилизаторы, но, похоже, ни один из них не помог, и Фрэнк стал сильно пить. Его отец, как поведал больной, страдал от сходного заболевания примерно с двадцати лет, потом впал в депрессию, тяжело запил и в возрасте тридцати семи покончил с собой. Фрэнку самому в этот момент было тридцать семь, и он говорил, что понимает чувства своего отца. Еще он боялся, что и сам наложит на себя руки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































