Текст книги "Все на своем месте"
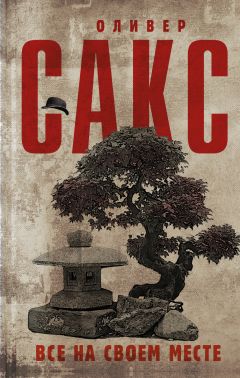
Автор книги: Оливер Сакс
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Гемфри Дэви: поэт химии
Гемфри Дэви был для меня – как и для большинства мальчишек, моих ровесников в химической лаборатории – любимым героем; необычайно привлекательная фигура, свежая и живая, несмотря на сотню прошедших лет. Мы знали все о его экспериментах в юности – начиная с закиси азота (которую он открыл, описал и на которую немного подсел в подростковом возрасте) и заканчивая опытами со щелочными металлами, электрическими батареями, электрическими рыбами, взрывчаткой. Мы представляли его молодым человеком байроновского типа с широко расставленными мечтательными глазами.
Так случилось, что я думал о Гемфри Дэви, когда в 1992 году увидел рекламу биографической книги Дэвида Найта «Гемфри Дэви: наука и власть» – и немедленно заказал экземпляр. Я поддался ностальгии, вспоминая собственное детство: вспоминая себя, двенадцатилетнего, влюбленного – как, наверное, больше никогда в жизни – в натрий и калий, хлор и бром; влюбленного в волшебную лавку, где в полумраке приобретал химикаты для своей лаборатории; в тяжелый энциклопедический том Меллора (и в отрывки из рукописей Гмелина, которые был в состоянии разобрать); в лондонский Музей науки Южного Кенсингтона, где была представлена история химии; влюбленного в Королевское общество, интерьеры которого и даже запахи были такими же, как и когда там работал юный Гемфри Дэви; теперь можно было разглядывать и изучать его блокноты, рукописи, заметки и письма.
Как отмечает Найт, Дэви – замечательный объект для биографа, и за последние полтора века было написано множество его биографий. Однако сам Найт – химик по образованию, профессор истории и философии науки и бывший редактор «Британского журнала истории науки», создал труд не только серьезный и научный, но и полный человеческих откровений и сочувствия.
Дэви родился в 1778 году в Пензансе. Он был старшим из пяти детей в семье гравера, резчика по дереву. Ходил в местную школу и наслаждался тамошней свободой («Мне повезло, что я был по большей части предоставлен самому себе и не подчинялся какому-то особому плану учения», – писал Дэви). Школу он покинул в шестнадцать и стал учеником местного аптекаря-хирурга, однако мечтал о чем-то более серьезном. Больше всего его привлекала химия: он досконально изучил «Начальный учебник химии» (1789) Лавуазье – значительное достижение для восемнадцатилетнего юноши почти без образования. В его мозгу возникали фантастические видения: а вдруг он станет новым Лавуазье, а то и новым Ньютоном? Одна из его тетрадей той поры помечена «Ньютон и Дэви».
И все же у Дэви больше родства не с Ньютоном, а с другом и современником Ньютона, Робертом Бойлем. Ведь если Ньютон основал новую физику, Бойль основал столь же новую химию – и освободил ее от алхимического налета. Именно Бойль в книге «Химик-скептик» (1661) отбросил четыре метафизических элемента античности и определил «элемент» как простое, чистое, неделимое тело, состоящее из «корпускул» определенного типа. Именно Бойль видел главной задачей химии анализ (это он ввел слово «анализ» в контекст химии), разложение сложных веществ на составляющие элементы и изучение того, как они могут соединяться. Инициатива Бойля получила развитие в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков, когда один за другим были выделены новые элементы.
Выделение этих элементов сопровождалось забавными недоразумениями. Шведский химик Карл Вильгельм Шееле получил в 1774 году из соляной кислоты тяжелый зеленоватый пар, но не смог установить, что это был самостоятельный элемент, и считал его «бесфлогистонной соляной кислотой». Джозеф Пристли, в том же году выделивший кислород, называл его «бесфлогистонный воздух». Это недопонимание родилось из полумистической теории, главенствовавшей в химии восемнадцатого века и во многом тормозившей ее развитие. «Флогистоном» («теплородом») называли нематериальную субстанцию, выделяемую горящими телами; материю жара.
Лавуазье, чей «Начальный учебник» был опубликован, когда Дэви исполнилось одиннадцать, опроверг теорию флогистона и показал, что воспламенение не сопровождается потерей таинственного «флогистона», а является результатом соединения горящего вещества с атмосферным кислородом (то есть окисления).
Работа Лавуазье стала стимулом для первого плодотворного эксперимента Дэви: в возрасте восемнадцати лет он растопил лед с помощью трения, показав, что тепло – это энергия, а не материальная субстанция вроде «калорика». «Было доказано, что теплорода, или “жидкости тепла”, не существует», – радовался Дэви. Он изложил результаты своего эксперимента в большом труде, озаглавленном «Эссе о тепле, свете и комбинациях света», где приводил критику Лавуазье и всей химии, начиная с Бойля, а также излагал видение новой химии, которую надеялся основать, – очищенной от всякой метафизики и фантомов прошлого.
Новости о молодом человеке, о его революционных соображениях по поводу материи и энергии достигли Томаса Беддо, в то время профессора химии в Оксфорде. Беддо пригласил Дэви в свою лабораторию в Бристоле; там Дэви выполнил свою первую крупную работу, выделив оксиды азота и изучив их физиологические эффекты[1]1
Сюда входит замечательное описание эффектов вдыхания паров закиси азота – «веселящего газа», – оно в психологическом провидении напоминает записи, сделанные Уильямом Джеймсом век спустя. Возможно, это первое описание психоделического опыта в западной литературе: «Почти сразу от груди к конечностям распространился трепет… Зрительные образы были головокружительны и явно преувеличены, я отчетливо слышал каждый звук в комнате… Приятные ощущения усиливались, и я потерял всякую связь с внешним миром; поток ярких зрительных образов проносился в моем мозгу – они были каким-то образом связаны со словами, и впечатления оказывались необычайно свежими. Я очутился в мире новых связей и новых измененных идей. Я теоретизировал; я представлял, что совершаю открытия».
Дэви также обнаружил, что закись азота обладает обезболивающим действием, и предложил использовать ее при хирургических операциях. Однако он не был слишком упорен, и общую анестезию ввели только в 1840-х годах. Между прочим, Фрейд (в 1880-х) так же беззаботно отнесся к своему открытию, обнаружив, что кокаин является местным обезболивающим, и честь этого открытия обычно приписывают другим.
[Закрыть].
В Бристоле завязалась тесная дружба Дэви с Кольриджем и поэтами-романтиками. В то время Дэви и сам писал стихи; в его тетрадях химические эксперименты шли вперемешку со стихами и философскими размышлениями. Джозеф Коттл, публиковавший Кольриджа и Роберта Саути, чувствовал, что Дэви – поэт не меньше, чем натурфилософ, и что в обеих ипостасях он проявляет оригинальность восприятия: «Не окажись он блестящим философом, наверняка стал бы видным поэтом». В самом деле, в 1800-м сам Вордсворт просил Дэви просмотреть его «Лирические баллады», когда готовил их ко второй публикации.
В те времена литература и наука еще существовали нераздельно; еще не произошло «расхождения рассудка и чувства». Между Кольриджем и Дэви возникла тесная дружба, а также чувство почти мистического родства и раппорта[2]2
В иностранной литературе термин раппорт употребляется в широком смысле близких межличностных отношений, базирующихся на интеллектуальной и эмоциональной общности.
[Закрыть]. Аналогия с химическими превращениями, рождающими совершенно новые соединения, была центральной в мышлении Кольриджа, и одно время он планировал устроить с Дэви химическую лабораторию. Поэт и химик были соратниками, аналитиками и исследователями принципа связи разума и природы[3]3
Говоря словами Кольриджа: «Вода и пламя, алмаз, уголь… подвластны теории химика… Это ощущение принципа связи, данное разумом и санкционированное природой… Если у Шекспира мы находим природу, идеализированную в поэзии… то в медитативном наблюдении Дэви… мы находим поэзию как она есть, реализованную в природе: да, сама природа открывается нам… одновременно как поэзия и как поэт!»
[Закрыть].
Кольридж и Дэви были как братья-близнецы: Кольридж – химик языка и Дэви – поэт химии.
Во времена Дэви считалось, что химия должна заниматься не только собственно химическими реакциями; в ее ведении находились тепло, свет, магнетизм и электричество – многое из того, что впоследствии отделилось в «физику» (даже в конце девятнадцатого века супруги Кюри сначала рассматривали радиоактивность как «химическое» свойство некоторых элементов). И хотя статическое электричество известно с восемнадцатого века, получить непрерывный электрический ток было невозможно, пока Алессандро Вольта не изобрел бутерброд из двух различных металлических пластин, разделенных пропитанной электролитом картонкой; эта первая батарея давала постоянный электрический ток. Дэви написал, что работа Вольты, опубликованная в 1800 году, служила будильником для экспериментаторов Европы, а самому Дэви внезапно показала, в какой форме пройдет работа всей его жизни.
Он убедил Беддо построить большую электрическую батарею по принципу Вольты и в 1800-м начал экспериментировать. Почти сразу он заподозрил, что электричество возникает из-за химических процессов в металлических пластинах, и задумался, не справедливо ли обратное: возможно ли вызвать химические изменения с помощью электричества? Дэви внес полезные изменения в батарею и был первым, кто использовал громадную новую силу для создания нового источника света: дуговой лампы с угольным электродом.
Эти блестящие достижения привлекли внимание столичных умов, и в том же году Дэви пригласили в недавно созданное Лондонское королевское общество. Он всегда славился красноречием и живостью изложения; теперь ему предстояло стать самым известным и влиятельным лектором в Англии – громадные толпы собирались на улицах в дни его выступлений. В лекциях Дэви продвигался от мельчайших подробностей своих экспериментов – по ним можно проследить ход его работы, ход мысли выдающегося разума – к размышлениям о Вселенной и жизни.
Вступительная лекция Дэви покорила многих, в том числе и Мэри Шелли. Годы спустя в книге «Франкенштейн» она использовала в лекции профессора Вальдмана по химии некоторые высказывания Дэви (в частности, говоря о гальваническом электричестве, Дэви указывал: «Открыто новое влияние, которое позволяет получить от мертвой материи эффекты, которые прежде наблюдались только в органах животных»). Кольридж, величайший рассказчик своего времени, всегда посещал лекции Дэви не только ради знаний по химии, но и затем, чтобы пополнить запас метафор[4]4
Кольридж был не единственным поэтом, черпавшим метафоры из мира химии. Гете наполнил химический термин «избирательное сродство» эротическим смыслом; «энергия» для Блейка стала «вечным блаженством»; Китс, получивший медицинское образование, просто купался в химических метафорах. Эллиот в «Традициях и индивидуальном таланте» применяет химические метафоры с начала до конца, вплоть до метафоры в стиле Дэви о мышлении поэта: «Аналогия здесь – катализатор… Мысль поэта – платиновая решетка». Знал ли Эллиот, что его центральная метафора, катализ – открытие Гемфри Дэви в 1816 году?
[Закрыть].
В период расцвета Индустриальной революции возник небывалый аппетит на науку, особенно химию; казалось, возник новый властный (и почтительный) путь не только к пониманию мира, но и к его улучшению. Блестящим представителем этого двойного взгляда на науку явился Дэви.
В начале своей деятельности в Королевском обществе Дэви сосредоточился на конкретных частных проблемах: процессе дубления и выделении танина (именно Дэви обнаружил танин в чае) – и на целом ряде сельскохозяйственных проблем – он первый показал животворную роль азота и важность аммиака в удобрениях (его «Элементы агрохимии» были опубликованы в 1813 году).
Однако к 1806 году, признанный самым блестящим лектором и практическим химиком в Англии – ВСЕГО в 27 лет, – Дэви почувствовал необходимость отказаться от исследовательских работ в Королевском обществе и вернуться к фундаментальным проблемам бристольского периода. Его давно интересовало: может ли электрический ток дать новый способ выделения химических элементов; он начал эксперименты с электролизом, с помощью электрического тока разделяя воду на водород и кислород и демонстрируя, что они соединяются в определенной пропорции.
В следующем году он провел знаменитые эксперименты по выделению металлического калия и натрия с помощью электрического тока. При включении тока, как писал Дэви, «у отрицательного провода возник очень яркий свет, и столб пламени… появился в точке контакта». Образовывались сияющие металлические шарики, неотличимые по виду от ртути, – шарики двух новых элементов, калия и натрия. «Шарики часто вспыхивали в момент появления, – писал Дэви, – а иногда взрывались и делились на шарики поменьше, которые носились по воздуху, горя и напоминая яркие ракеты». Тогда Дэви, как записал его кузен Эдмунд, плясал от восторга по лаборатории[5]5
Дэви был поражен воспламенением натрия и калия, их способностью плавать по поверхности воды, и предположил, что под корой земли могут быть залежи этих элементов – взрываясь под воздействием воды, они вызывают извержения вулканов.
[Закрыть].
В детстве мне доставляло особую радость повторять эксперименты Дэви по производству натрия и калия – наблюдать, как блестящие шарики вспыхивают на воздухе, горят ярким желтым – или бледно-фиолетовым – пламенем; получать металлический рубидий (который горит восхитительным рубиновым пламенем) – этот элемент был неизвестен Дэви, но наверняка понравился бы ему. Я так погружался в оригинальные эксперименты Дэви, что представлял себе, как сам открываю эти элементы.
Затем Дэви обратился к редкоземельным металлам и за несколько недель выделил их металлические элементы: кальций, магний, стронций и барий. Это очень активные металлы, особенно стронций и барий, способные гореть, подобно щелочным металлам, ярко окрашенным пламенем. В следующем году Дэви выделил еще один элемент – бор.
Элементарные натрий и калий не встречаются в природе: слишком активные, они немедленно образуют соединения с другими элементами и существуют только в солях – например, хлорид натрия (обыкновенная поваренная соль) – в соединениях, химически инертных и электрически нейтральных. Но если пропустить через них мощный электрический ток, нейтральная соль распадется: электрически заряженные частицы (положительный натрий и отрицательный хлор) устремятся к разным электродам (позже Фарадей назвал эти частицы «ионами»).
Для Дэви электролиз был не только «новым путем открытия», который требовал все более мощных батарей. Электролиз также показал, что материя не инертна, как считали Ньютон и остальные, а состоит из заряженных частиц, удерживаемых вместе электрическими силами.
Химическое сродство и электрическая сила, понял Дэви, определяют друг друга; с точки зрения строения материи – они суть одно и то же. Бойль и его последователи, включая Лавуазье, не имели точного представления о глубинной природе химических связей, полагая их гравитационными. Дэви теперь представил новую универсальную силу, электрическую по природе, удерживающую молекулы материи. Более того, он, хотя и смутно, представлял, что весь космос пронизан электрическими силами, как и гравитацией.
В 1810 году Дэви заново исследовал тяжелый зеленый газ Шееле, который и сам Шееле, и Лавуазье считали химическим соединением, – и смог показать, что это элемент. За цвет Дэви назвал его хлором (от греческого слова chloros – зелено-желтый). Он понял, что обнаружил не просто новый элемент, а целую группу элементов, которые, подобно щелочным металлам, слишком активны и не встречаются в природе. Дэви считал, что должны существовать более тяжелые и более легкие аналоги хлора, входящие в эту же группу.
Годы с 1806 по 1810-й оказались самыми продуктивными в жизни Дэви – как в практических открытиях, так и в полученных на их основе теоретических выкладках. Он открыл восемь новых элементов, окончательно похоронив теорию флогистона и представления Лавуазье о том, что атомы – всего лишь метафизические сущности. Ему удалось показать электрическую природу химических реакций. За эти пять интенсивных лет он преобразовал химию.
Дэви не только снискал высшую оценку своих коллег, завоевав множество научных наград; его также привечала образованная публика – за популяризацию науки. Он любил проводить эксперименты публично; его знаменитые лекции-демонстрации были увлекательными, яркими, драматичными и порой буквально взрывными. Дэви поднялся на гребне новой научно-технической волны, которая сулила – или угрожала – преобразовать мир. Какой монетой могла страна отплатить такому человеку? Только одной, хотя и беспрецедентной: 8 апреля 1812 года принц-регент посвятил Дэви в рыцари – такой чести ученый добился впервые после Ньютона, ставшего рыцарем в 1705 году[6]6
В 1812 году термина scientist («ученый») не существовало. Его придумал в 1834-м выдающийся историк науки, эрудит и лингвист Уильям Уэвелл.
[Закрыть].
«Дэви проводил свои исследования в романтическом беспорядке, – сообщает нам Найт. – За инкубационным периодом следовала вспышка бурной деятельности». Он работал один, помогал ему только лаборант. Первым лаборантом был младший кузен, Эдмунд Дэви; вторым – Майкл Фарадей, отношения с которым строились неровно: сначала они были безоблачными, потом начались сложности. Фарадей был для Гемфри Дэви почти как сын, «сын в науке» – так французский химик Бертолет называл собственного «сына» – Гей-Люссака. Фарадей, которому в то время было двадцать с небольшим, восторженно слушал лекции Дэви и почтительно подарил учителю аккуратно записанные лекции с комментариями.
Дэви не сразу взял Фарадея в ассистенты. Фарадей был неизвестной величиной; застенчивый, неразговорчивый, неуклюжий, малообразованный. Однако он обладал сильной, рано развившейся любовью к науке и выдающимся умом. Во многом он напоминал самого Дэви, пришедшего когда-то к Беддо. Поначалу Дэви был щедрым и заботливым «отцом»; но со временем, когда Фарадей начал проявлять интеллектуальную независимость, превратился в тирана и даже завистника.
Фарадей, сперва безмерно восхищавшийся пожилым наставником, постепенно начал чувствовать обиду и даже презрение к суетности Дэви. Приверженец фундаменталистской религиозной секты, Фарадей презирал все титулы, награды и звания; он и в дальнейшем наотрез отказывался от них. И все же на глубинном уровне этих двух людей связывали приязнь и интеллектуальная близость. Обоих отличали скромность и некоторая сдержанность в высказываниях, так что остается лишь строить догадки о внутренней истории их взаимоотношений. Так или иначе, творческая встреча двух умов высшего калибра, их продолжительные отношения были необычайно важны для обоих и, несомненно, для истории науки.
Дэви всегда тянулся к социальному статусу, престижу и власти; через три дня после посвящения в рыцари он женился на Джейн Априс – женщине из хорошей семьи, ученой, богатой наследнице и кузине сэра Вальтера Скотта. Леди Дэви (как неизменно именовал ее сэр Гемфри), блестящая собеседница, держала салон в Эдинбурге, но подобно самому Дэви привыкла к независимости и восхищению; они оба не годились для семейной жизни. Брак оказался не только несчастливым, но и разрушительным для научной деятельности Дэви. Все больше и больше энергии он тратил на дружеские посиделки с аристократами, на попытки с ними сблизиться («Он обожал слышать “лорд” в свой адрес», – отмечает Найт) и войти в их круг, что было абсолютно безнадежной задачей в Англии времен Регентства, когда место человека в обществе определялось его рождением, и ни чин, ни высокое положение, ни женитьба не могли изменить это место.
Новобрачные Дэви отложили медовый месяц; сначала они решили провести год на континенте – как только Гемфри закончит текущие исследования. Он работал тогда с порохом и другими взрывчатыми веществами, а в октябре 1812 года занялся первой «бризантной» взрывчаткой – трихлоридом азота, который стоил многим людям пальцев и глаз. Дэви открыл несколько новых соединений азота и хлора и вызвал сильнейший взрыв в гостях у приятеля. Он подробно писал об этом брату Джону: «Обращаться с ним нужно с величайшей осторожностью. Опасно экспериментировать с количествами большими, чем булавочная головка. Я получил серьезное ранение от количества чуть большего».
Дэви частично ослеп – зрение восстановилось лишь через четыре месяца. Неизвестно, какой урон был нанесен дому приятеля.
Свадебное путешествие прошло одновременно странно и смешно. Дэви захватил огромное количество химической аппаратуры и различные материалы: «воздушный насос, электрическую машину, Вольтову батарею… газовую горелку, кузнечный горн с мехами, ртутно-водогазовый аппарат, чашки и резервуары из стекла и платины, а также обычные химические реактивы», – к которым добавил некоторые взрывчатые вещества, чтобы с ними поэкспериментировать. А еще захватил юного ассистента Фарадея (с которым леди Дэви обращалась как со слугой, за что тот ее возненавидел).
В Париже супругов Дэви навещали Ампер и Гей-Люссак. Они принесли ему кусок блестящего черного вещества, обладающего удивительным свойством: при нагревании оно не таяло, а сразу образовывало пар темно-фиолетового цвета. Дэви предположил, что это, вероятно, аналог хлора, – и вскоре подтвердил, что это новый элемент («Новый вид материи», – написал он в докладе Королевскому обществу), и дал ему еще одно «цветное» имя: йод, от греческого ioeides, фиолетовый.
Из Франции новобрачные перебрались в Италию, проводя по дороге эксперименты: во Флоренции с помощью гигантского увеличительного стекла сожгли алмаз[7]7
До тех пор Дэви не хотел признавать, что алмаз и уголь – один и тот же элемент; ему казалось, что это «против всех правил природы». Возможно, это была его слабость – или сила: порой он старался классифицировать химический мир по конкретным свойствам, а не по формальным признакам (по большей части – например, у щелочных металлов и у галогенов – конкретные свойства соответствуют формальным признакам; различные физические формы для элементов, скорее, редкость).
[Закрыть]; собирали кристаллы в жерле Везувия; анализировали газ из природных отверстий в горах – выяснилось, что он идентичен болотному газу, метану; и впервые подвергли анализу краску старых картин («Всего лишь атомы», – объявил Дэви).
За время этого химического свадебного путешествия на троих, блуждая по Европе, Дэви как будто превращался в неугомонного, пытливого, непослушного мальчишку, полного разных идей. Для Фарадея это было замечательное знакомство с научной жизнью, а вот леди Дэви бо́льшую часть времени скучала. Однако путешествие наконец закончилось, и титулованная чета вернулась в Лондон, где Дэви столкнулся с крупнейшей практической задачей.
Индустриальная революция, набирая обороты, заставляла мир потреблять все больше угля; угольные шахты уходили глубже и глубже – и на глубине человека поджидали горючий и ядовитый газы: «рудничный газ» (метан) и «удушливый газ» (двуокись углерода). Канарейка в клетке служила индикатором присутствия опасного «удушливого газа», а вот о наличии рудничного газа слишком часто сообщал смертельный взрыв. Нужно было придумать лампу, которую можно было бы брать в глубины шахт без угрозы воспламенить рудничный газ в местах его скопления.
Дэви пробовал различные конструкции и попутно открыл несколько новых принципов. Оказалось, что использование в герметичной лампе узких металлических трубок предотвращает взрыв. Затем Дэви экспериментировал с металлической сеткой и обнаружил, что пламя сквозь нее не проникает[8]8
Дэви продолжал исследование горения – и через год после создания безопасной лампы опубликовал «Некоторые новые исследования пламени». Более сорока лет спустя Фарадей вернулся к этому вопросу в знаменитой серии лекций для Королевского общества «Химическая история свечи».
[Закрыть]. Оснащенные трубками и сетками, усовершенствованные лампы Дэви, испытанные в 1816 году, не только доказали свою безопасность, но и по появлению пламени показывали наличие рудничного газа[9]9
Я сам впервые узнал о Гемфри Дэви еще ребенком, когда мать привела меня в Музей науки в Лондоне, на верхний этаж, где очень реалистично была представлена угольная шахта девятнадцатого века, и показала лампу Дэви, объяснив, почему с ней в шахте работать безопаснее; потом показала еще одну безопасную лампу – лампу Ландау. «Эту лампу в 1869 году изобрел мой отец – твой дедушка, – сказала она. – Эта лампа была еще безопаснее и пришла на смену лампе Дэви». Это сообщение повергло меня в трепет.
[Закрыть].
Дэви не требовал платы и не патентовал изобретенную безопасную лампу, он безвозмездно передал ее всему миру (в этом он отличался от своего друга Уильяма Хайда Уолластона, сколотившего громадное состояние на коммерческом применении палладия и платины).
То была вершина публичной жизни Дэви – создав безопасную лампу и передав ее стране, он получил общественное признание и одобрение.
Было в Дэви нечто пророческое, мистическое, чего не замечали современники (за исключением, пожалуй, Кольриджа и Фарадея, которые знали его очень близко, а кроме того, и сами были людьми выдающимися и не без странностей), нечто, скрытое за блеском его практических достижений.
Дэви без устали трудился на практической ниве, но одновременно с этим был ярым приверженцем романтизма и натурфилософии – и оставался таким всю жизнь. Мистическая, или трансцендентная, философия вовсе не обязательно противоречит строгой научной организации эксперимента или наблюдения; они могут существовать бок о бок, как это было у Ньютона. В молодости Дэви восхищался идеалистической философией, читая работы Фридриха Шеллинга в страстном переводе Кольриджа; и собственные работы Дэви на практике подтверждали некоторые замечания Шеллинга: что Вселенная – динамическое целое, которое удерживают вместе энергии противоположных валентностей; и энергия при любых превращениях сохраняется.
Для Ньютона пространство было просто бесструктурным промежутком-вместилищем, в котором происходит движение, а силы, подобные гравитации, оставались таинственным примером «действия на расстоянии». Только Фарадей заговорил о том, что силы обладают структурой, что магнит или проводник под током создают заряженное поле. По-моему, Дэви был близок к понятию «поля» – трансцендентному и, в определенном смысле, романтическому понятию, которым мы обязаны Фарадею. Остается гадать, что происходило между двумя гениями-провидцами, Фарадеем и Дэви, когда они, в восторге от работ Эрстеда, Ампера и других, вместе размышляли над недавно открытым феноменом электромагнетизма. Соблазнительно представлять Дэви в качестве связующей фигуры между идеалистической Вселенной Лейбница и Шеллинга и современной Вселенной Фарадея, Клерка Максвелла и Эйнштейна.
В 1820 году Дэви был удостоен высшей чести в науке: он стал президентом Королевского общества. Ньютон занимал этот пост в течение двадцати четырех лет; непосредственный предшественник Дэви, аристократ сэр Джозеф Бэнкс – двадцать два года. Ни одна другая научная должность не приносит большей власти или престижа, но ни одна и не требует столько сил на дипломатические и административные функции. Подсчитано, что Бэнкс за время работы написал более пятидесяти тысяч писем – а возможно, и сто тысяч. Этот непосильный груз свалился теперь на Дэви.
Еще бо́льшими неприятностями отозвались попытки Дэви реформировать Королевское общество, которое к 1820-м годам в некоторой степени превратилось в сборище знатных людей, порой весьма одаренных, которые, однако, ничего особого в науку не вносили. Дэви утверждал, причем не всегда тактично, что Общество постепенно теряет репутацию и что его члены должны доказывать свою полезность. Его зачастую грубые попытки сократить непродуктивную опеку и превратить сборище любителей и джентльменов в общество профессионалов вызывали неприятие и гнев у многих коллег. Постепенно Дэви становился объектом презрения и злобы; тот, чьи манеры когда-то называли «очаровательными», реагировал на все это яростно, заносчиво и непримиримо. На его портретах того времени, висящих в Королевском обществе, можно увидеть опухшее и побагровевшее от гнева лицо. Когда-то самый популярный ученый Англии, он стал, по словам Дэвида Найта, «одним из самых нелюбимых людей во всей науке».
Для Дэви наступили тяжелые времена. Куча мелких проблем в Королевском обществе; дрязги с большинством коллег; разлука с Кольриджем и другими друзьями, с которыми он когда-то был счастлив и открыт; опостылевший брак без любви и без детей. После сорока Дэви начал ощущать органические симптомы – возможные признаки проблемы, которая привела его отца к ранней смерти; и оплакивал свою должность, вспоминая энергию прежних дней. Ему не хватало времени заниматься работой, которая всегда была для него главным, а порой даже единственным источником внутреннего покоя и стабильности; хуже того, он больше не чувствовал себя на переднем крае науки, понимая, что современники считают его ретроградом или маргиналом. Шведский химик Берцелиус, взявший в свои руки неорганическую химию, оценивал работу всей жизни Дэви лишь как «яркие фраг– менты».
Чувство потери и безнадежная ностальгия с каждым годом углублялись.
«Ах! – писал Дэви в 1828 году, – будь у меня возможность вернуть ту свежесть ума, какая была у меня в двадцать пять… чего бы я только не отдал за нее!.. Как живо я помню тот восхитительный сезон, когда, полный энергии, я искал ее и в других; и сила была единением, и единение – силой, когда умершие и неизвестные, великие прошлых веков и отдаленных мест становились волей воображения моими друзьями и коллегами».
В 1826 году умерла мать Дэви. Он был необычайно к ней привязан, как и Ньютон к своей матери, и тяжело переживал потерю. В конце года, в сорок восемь лет – как и его отец в том же возрасте – он пережил кратковременное онемение руки и слабость в ноге, а затем – паралич. Хотя все прошло довольно быстро, мыслями Дэви овладела тяжесть. Он вдруг ощутил усталость от бесконечной борьбы в Королевском обществе, от утомительных обязанностей в суетной жизни: «Здоровье ушло, амбиции удовлетворены, меня больше не снедала страсть к известности; то, о чем я думал с нежностью, ждало в могиле».
Одной из радостей Дэви, возможно, единственной во взрослой жизни, была рыбалка. В других случаях рассеянный, или напыщенный, или неприступный, на рыбалке он обретал истинного себя, к нему возвращалось прежнее дружелюбие. Здесь его разум становился вновь юным и свежим, он мог радоваться, и радовался, чистой игре идей. С годами Дэви, опытный рыбак, стал знатоком наживок и рыб. Одна из его последних работ, задумчивая «Салмония» – и трактат по естествознанию, и аллегория, и диалог, и поэма; Найт называет ее «книга о рыбалке, озаренная естественной теологией».
Закончив эту книгу, Дэви отправился в Словению в сопровождении крестника – Джона Тобина, последнего из его научных «сыновей». Покинув Англию с ее климатом, который, как чувствовал Дэви, держал «нервную систему в постоянном раздрае», он мог надеяться обрести и передать последние мысли: «Я искал и нашел утешение; и частично восстановил здоровье после опасной болезни… Я обрел дух моих ранних предвидений… Природа не предаст; камни, горы, потоки всегда говорят на том же языке».
После смертельного приступа в феврале 1829 года Дэви продиктовал письмо, свой Nunc Dimittis (прощальную молитву): «Я умираю от жестокого паралича, захватившего все тело, за исключением мыслительного органа… Благодарю Бога, что смог завершить мои интеллектуальные труды».
Я упоминал, что Гемфри Дэви был героем любого, кто интересовался химией или наукой в моем поколении. Мы все знали и повторяли его знаменитые эксперименты. У Дэви и у самого были идеальные коллеги в юности, в частности Ньютон и Лавуазье. Ньютона он считал почти богом; Лавуазье был ему более близок, как отец, с которым можно поговорить, согласиться или поспорить. Собственное первое эссе Дэви, которое опубликовал Беддо, хотя и содержало серьезную критику Лавуазье, было, по сути, диалогом с ним. Всем нам нужна такая фигура, нужен такой идеал – и нужен всю жизнь[10]10
Общая тема личностных идеалов и универсальной нужды в них подробно описана во вступительной главе («Как сделать великих своими») книги Леонарда Шенгольда «Из мальчика ничего не выйдет! Личностные идеалы Фрейда и сам Фрейд как личностный идеал».
[Закрыть].
Общаясь с более молодыми коллегами-учеными, сегодня я с удивлением понимаю, что никто из них не слышал о Дэви, и некоторые выглядят озадаченными, когда я рассказываю о своем интересе. Им трудно представить значимость такой «старой» науки. Сейчас говорят, что наука имперсональна, состоит из «информации» и «понятий»; старая информация и старые понятия в ходе ревизий и пересмотров становятся ненужными. С этой точки зрения наука прошлого не соответствует настоящему и представляет интерес только для историков и психологов.
Однако в реальности я вижу другое: когда я приступил к написанию моей первой книги, «Мигрень», в 1967 году, меня вдохновляла природа этого заболевания и встречи с моими пациентами, но в равной степени – и «старая» книга на эту тему, «Megrim» Эдварда Лайвинга, написанная в 1870-х годах. Я взял эту книгу в редко посещаемой исторической секции библиотеки медицинского института и прочитал от корки до корки с восторгом. Полгода я перечитывал и перечитывал ее, и узнал Лайвинга очень хорошо. Его присутствие и образ мыслей постоянно вдохновляли меня. Продолжительная встреча с Лайвингом оказала решающее влияние на мои мысли и мою книгу. Точно так же на меня, двенадцатилетнего, повлияло знакомство с Гемфри Дэви, открывшее путь в науку. Разве могу я считать, что история науки, прошлое, не имеет значения?
Вряд ли мой опыт уникален. Многие ученые, а также поэты и художники, чувствуют живую связь с прошлым – не как абстрактное ощущение истории и традиции, но как общность с коллегами и предшественниками, с предками, с которыми можно вести скрытый диалог. Порой наука считает себя имперсональной, «чистой мыслью», независимой от своих исторических и человеческих корней. Часто ее так и преподают. Однако наука – человеческое дело от начала и до конца, живое, развивающееся, как и человек, с неожиданными прорывами и тупиками и со странными отклонениями. Наука растет из прошлого, она не отвергает его, как мы не отвергаем наше детство.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































