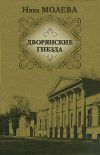Текст книги "Встречи на московских улицах"

Автор книги: Павел Николаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Да, стали! И никаких возражений против личностей этого ряда у автора «Анти-Б.» нет. «Очень хорошо! Действительно яркие личности и крупные писатели, – соглашался Бушин. – Но ты почему-то не упомянул тех, о ком сказал когда-то:
– Сегодня у нас праздник. Мы награждаем премией имени Шолохова Патриарха всея Руси Алексия Второго и выдающегося поэта всея России Валентина Сорокина.
Что ж, Юра, сегодня о патриархе умолчал? Или вспомнил, что, получив Шолоховскую премию, он вскоре, в день 70-летия Ельцина, перед лицом всего народа объявил этого предателя Владимиром святым наших дней и преподнёс ему золотую статуэтку равноапостольного князя. А почему забыт „выдающийся“, „крупнейший“ и „ярчайший“ Сорокин?»
Вопрос этот риторический, ибо Бушин сам ответил на него, связав ответ с сочинением Сорокина «Крест поэмы» (2000 г.):
– Ничего более дремучего и злобного я не читал. Сорокин поносит и советскую власть, и Отечественную войну советского народа, и множество советских писателей, но всего злобней клевещет на Шолохова. И как раз вскоре после выхода этой книги ты вручаешь ему Шолоховскую премию, лобзаешь и спешишь всех обрадовать: «Сегодня у нас праздник!» Можно ли вообразить, что Булгарина наградили премией имени Пушкина? Ты это проделал.
Литературовед Николай Федь получил премию сразу после выхода его книги «Художественные открытия Бондарева», Иван Савельев – за прямое холуйство. С «шедеврами» его беззастенчивой лести стоит познакомиться:
– Юрий Бондарев – последний из работающих ныне великих писателей.
– Он – Поэт!
– Поэтов в прозе у нас было не так уж много: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Бунин, Горький, Леонов, Шолохов, Бондарев. Я говорю о великих художниках и Творцах первого ряда.
– Бондарев – поэт интуиции; ею в высшей степени обладали Пушкин и Толстой…
– Бондарев как Пушкин…
– Бондарев как Толстой…
– Бондаревская поэзия – нестареющая красота. Тут весь Пушкин, а до него – весь Гомер.
– Юрий Васильевич – человек в высшей степени деликатный…
С последним утверждением панегириста, по-видимому, можно согласиться: только человек с гиперболической деликатностью может принимать такие притязания на свое место в сонме великих – от Гомера до Льва Толстого.
Бушин беспощаден в своей критике несправедливости, зазнайства, хамства, злоупотреблений всякого рода. Сергей Михалков говорил: «Попал Бушину на суд – адвокаты не спасут». Но он немстителен и незлобив: выдав на гора правду-матку о бывшем приятеле, считал, что это не должно отражаться на его личных отношениях с Бондаревым, и с лёгким сердцем поднёс к последнему юбилею Юрия Васильевича следующее поздравление:
Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.
Так писал большой поэт
Александр Твардовский,
Но куда щедрей завет
Оставил Маяковский.
Он считал, что надо жить
Лет до ста без старости,
Не болеть и не тужить,
И не знать усталости,
Да при этом чтоб росла
Бодрость год от года,
Дабы добрые дела
Делать для народа.
Так давай же, старый друг,
Жить вторым заветом,
И страну, и всех вокруг
Радуя при этом.
Хоть и старше мы с тобой
Самого Толстого,
Но куда деваться – бой!
И в бою мы снова.
В нашем взводе этот граф
Бой ведёт за души.
Да, он с нами. Тут ты прав.
Обнимаю. Бушин.
Словом, вместо сегодняшнего «ты – мне, я – тебе», ставшего законом, дедовское «ты мне друг, но истина дороже».
И небывалое бывает. Они встретились в вестибюле станции метро «Охотный Ряд» – бывшие лагерники Михаил Молостов и писатель Валентин Лавров. Последний получил широкую известность своими историческими детективами. В «Книжном обозрении» за 10 марта 1998 года сообщалось: «В фотоцентре на Гоголевском бульваре прошёл крупный аукцион рукописей и редких книг – без малого четыреста лотов. Наибольший ажиотаж вызвала вёрстка с многочисленной правкой первого полного издания Валентина Лаврова „Граф Соколов – гений сыска“».
За этот лот было заплачено 12 миллионов рублей! По слухам, расщедрился представитель одного американского университета, решивший, видимо, загодя собирать автографы русских писателей – пока они ещё здравствуют.
Бывшие страдальцы (оба были осуждены как политические) обнялись и, конечно, вспомнив прошлое, заговорили о настоящем. Молостов оказался депутатом Государственной Думы первого созыва. Это удивило писателя, твёрдо убеждённого в том, что «эти важные люди на метро не ездят; они раскатывают на роскошных иностранных марках с мигалками на крышах и специальными номерами».
На недоумевающие вопросы бывшего солагерника Молостов заявил:
– Я ведь всегда был отщепенцем, вот и отказался от авто и всяких депутатских привилегий. Призывал остальных депутатов от них отказаться. Куда там!
– Небось, на тебя твои коллеги смотрят как на сумасшедшего!
– Хуже – как на личного врага! Если бы могли, пришили бы 58-ю!
По этой статье Молостов и попал в начале шестидесятых годов в мордовские лагеря. В Омске он преподавал марксизм-ленинизм, вёл ещё переписку с несколькими друзьями – обсуждали политические проблемы, проговаривали (не в лоб, конечно) способы их решения. Во всяком случае, в приговоре говорилось: «Обдумывали возможность создания организации».
Вот чтобы у «трёх товарищей» было больше времени для обдумывания, «самый гуманный в мире суд» отправил их куда Макар телят не гонял.
Во власть Молостов пошёл, чтобы «добрые дела делать». Сетовал Лаврову:
– Поверь, в нынешней Думе с этим очень трудно. Повальное взяточничество, проталкивание чьих-то интересов.
Но, как говорится, один в поле не воин; на всех уровнях государственных структур «народные» избранники продолжают являть примеры корыстолюбия и продажности. И что хуже всего – политической. Неслучайно в последние годы СМИ бьют тревогу по поводу пятой колонны.
Прощание. Весной 1918 года молодая художница Евгения Ланг весьма решительно порвала с поэтом В. В. Маяковским. Но забыть, вычеркнуть его из своего сердца не могла. Поэтому, уезжая на следующий год за границу, она не выдержала и позвонила ему, предложив встретиться. Местом встречи Ланг назначила угол Лубянской площади, у консистории. Женщина волевая и решительная, Евгения сразу объявила о цели свидания:
– Знаешь, я уезжаю за границу, и не могла уехать всё-таки, не повидав тебя.
– Я тебя не отпущу.
– Ну, об этом поздно говорить. Я решила ехать, потому что здесь мне дороги нету. Я знаю, что нам с тобой встречаться не нужно, у тебя – Брики, ты выбор сделал. А я поеду и буду художником. Я выбрала свою профессию.
По-видимому, в сознании Маяковского ещё оставались какие-то крохи воспоминаний о недавнем увлечении; и он принялся уговаривать Ланг остаться, изрёк даже крылатую фразу, одну из тех, на которые был щедр в отношениях с женщинами:
– А что я буду делать – Москва без тебя опустеет.
Конечно, Евгения колебалась, а Владимир Владимирович поддавал жару:
– Когда я думаю, что есть какое-то будущее, я его без тебя не представляю. У меня такое впечатление, что ты всегда в моей жизни была, даже раньше, чем я тебя узнал. И что ты будешь в ней всегда.
Слова, слова, слова…
Поверить в их искренность могла только одураченная простушка. Ланг к таковым не относилась, но речениям поэта внимала долго, так как любила его, но согласиться с его «особыми» отношениями с Бриками не могла. Встреча несколько затянулась:
«Долго мы стояли на углу и разговаривали. В конце концов он опустил голову и сказал:
– Знаешь, я, пожалуй, буду спокойней, когда ты уедешь.
И тут я сказала:
– Володя, я прощаюсь по-настоящему. Если мы с тобой встретимся, а мы с тобой наверняка встретимся когда-нибудь, я не буду ни разговаривать, ни перемывать старое. Вот теперь, теперь мы прощаемся».
…Эта женщина проявила железную силу воли. Она действительно дважды случайно встречалась с Маяковским в Берлине и Париже и говорила об этих мгновениях счастья: «Я, может быть, чересчур резко поступила». Вычеркнув великого поэта из своей жизни, Евгения Ланг продолжала его любить. На закате своих дней (в восемьдесят лет) она говорила сотруднику Научной библиотеки МГУ В. Дувакину:
– Понимаете, ко мне Маяковский обратился своей самой лучшей стороной. По отношению ко мне он за все годы никогда не был груб, никогда не был невнимателен и никогда не был резок. Я эту лучшую сторону приняла. Потом я очень много слышала всего. Но я, кроме светлого и хорошего, от него ничего не видела. Потом, много позже, я поняла, что тогда на всё смотрела в розовом свете.

В. В. Маяковский
Роз не будет. Поэт Анатолий Мариенгоф, друг Сергея Есенина и Рюрика Ивнева, был щёголем. Даже в суровые годы Гражданской войны тщательно следил за ногтями рук (это при необходимости топить буржуйку!) – красил их розовым лаком; волосы на голове вызывающе разделял гвардейским (прямым) пробором; ходил в новеньких лакированных ботинках и элегантном костюме. И это на фоне потёртых френчей и галифе, облезлых шуб, вязаных фуфаек и башлыков.
К простым людям относился с плохо скрываемым презрением. «Сколько вокруг всякой мрази, – говорил он. – И только подумать, что для них мы творим и сжигаем себя в огне творчества!»
Эстетом и модником Мариенгоф оставался всю жизнь. Как-то в начале 30-х годов встретился на Театральной площади с Ивневым, приехавшим из Тбилиси на премьеру оперы Захария Палиашвили «Абессалом и Этери», либретто которой он перевёл с грузинского языка на русский. Мариенгоф же прибыл из Ленинграда для просмотра своей пьесы «Наследный принц»; её привезла на гастроли труппа одного из провинциальных театров.
Был ясный июльский день. После объятий, поцелуев и бормотаний несвязных слов Мариенгоф неожиданно сказал:
– Ты совсем не изменился. Что-нибудь принимаешь?
– Если бы было что принимать, – засмеялся бывший председатель «Общества поэтов», – это принимали бы все.
Старый приятель ничего не ответил, а посмотрев внимательно на визави, спросил:
– Красишь брови?
– Ты с ума сошёл, – воскликнул Ивнев. – Кто их красит?
– Как ты отстал от жизни! – удивился друг. – Красят теперь все – мужчины и женщины.
– Ну есть же такие, которые не красят.
– Этого не может быть, – твёрдо сказал Мариенгоф.
Ивнев знал, что в кармане пиджака приятель всегда носил маленький флакончик духов и шёлковый платок. Поэтому предложил:
– Не пожалей несколько капель своих парижских духов и проверь.
Проверил, но не поверил. Изрёк:
– Достал, значит, хорошую краску.
Ивнев так и не понял, шутит приятель или смеётся над ним. Мариенгоф отличался язвительным остроумием и ёрничал всю жизнь. Последний раз поэты виделись в 1960 году – Ивнев навестил больного друга. Мариенгоф попросил:
– Прочти свои стихи.
Ивнев прочёл. Стихотворение оканчивалось так:
Кому готовит старость длинный ряд
Высоких комнат, абажур и крик из детской,
А мне – столбов дорожных ряд
И розы мёрзлые в мертвецкой.
– Это самое оптимистическое из всех твоих стихотворений! – воскликнул больной.
– Толя, какой же это оптимизм? – ошеломлённо прошептала жена Мариенгофа.
Тот развёл руками и пояснил снисходительно:
– Как вы не понимаете! Это же оптимизм – розы. Пусть даже мёрзлые. Никаких роз в жизни и после неё у нас не будет.
Не сегодняшнюю ли Россию имел в виду поэт есенинского круга?
Две встречи. Первая из них произошла осенью 1961 года. B. C. Бушину, сотруднику журнала «Молодая гвардия», позвонил некий майор из КГБ и предложил встретиться… под навесом левой стены Большого театра. Особого желания идти на «свиданку», конечно, не было, но и отказаться нельзя – не тёща на блины приглашает. Встретились. Разговор был короткий, но весьма конкретный:
– Надеюсь на ваше содействие и помощь в случае чего.
– О чём говорить! – обнадёжил Владимир Сергеевич представителя грозной организации. – Если какой-то чрезвычайный случай, приму посильные меры.
Речь шла о плавании на теплоходе «Феликс Дзержинский» из Одессы в Египет советской туристической группы. Вполне естественно, что органы государственной безопасности были озабочены исходом этого вояжа. И что же наш блюститель общественной нравственности?
– Как только теплоход вечером отошёл от одесского причала, я сразу направился в бар и познакомился там с молодой русской парой из Франции: Олег и Марина. Он настроен очень прорусски: много рассказывал о знаменитых людях русского происхождения по всему миру. А она не помню, что говорила, но была очень мила. Прекрасно провели вечер. Обменялись адресами. На другой день, кажется в Стамбуле, они сходили. Я помог им нести вещи к трапу.
По возвращении из турне Бушин получил письмо от Марины, «очень трогательное и забавное, не шибко грамотное». Только собрался ответить – звонок и приглашение под тот же навес вдоль левой стены Большого театра. Тот же майор осведомился о впечатлении от зарубежного тура.
– Всё было прекрасно!
– А вот эта пара, с которой вы беседовали в первый вечер. Вы не завязали знакомство, не обменялись адресами?
– Нет! – твёрдо произнёс Бушин под укоризненным взглядом кербелевского Маркса[6]6
Монументальная скульптура К. Маркса работы Л. Е. Кербеля.
[Закрыть]. Но основоположник великой утопии промолчал – тоже любил женщин.
Вторая памятная встреча произошла через сорок семь лет на Театральной площади. 9 Мая она (как и другие) становится местом сбора ветеранов Великой Отечественной войны. Постоянно бывал на ней в этот день известный журналист B. C. Бушин. Первый день Победы Владимир Сергеевич встречал в Кёнигсберге, тогда он так писал об этой эпохальной вехе в мировой истории:
«Как непривычно и странно: война кончилась. Уже с двух часов ночи почти никто не спал. И до утра была пальба изо всех видов оружия. И раненые в госпиталях ликовали. Утром у репродуктора политотдела, когда ещё раз передавали акт капитуляции, встретил С. А. Шевцова. Мы поздравили друг друга и поцеловались. Позже он пришёл к нам на митинг, читал стихи.
В День Победы я гонял на велосипеде, которых здесь множество. Радость требовала физического выражения. Днём на одном из перекрестков были танцы, танцевали генерал Гарнич[7]7
Н. Ф. Гарнич – военный историк, автор книги «1812 год» (издания 1952 и 1956 годов).
[Закрыть] и сам Озеров, наш новый командарм (Фёдор Петрович, 1899–1971, два ордена Ленина и др.). Все гадают: когда будут отпускать, кого в первую очередь. В такие дни, как сегодня, лучше молчать, всё равно не выскажешь всей радости. Но не молчится!»
За восемь дней до окончания войны Бушину был присвоен чин капрала; служил он в 103-й Отдельной армейской роте воздушного наблюдения, оповещения и связи (50-я армия), пописывал стихи.
После оглашения акта о капитуляции Германии Владимир Сергеевич получил задание написать стихотворение о Сталине. Что он с удовольствием и сделал:
Если было б судьбой суждено мне
Жить до ста, даже тысячи лет,
И до тех бы времён я запомнил
Дня победы и облик, и цвет,
Слёзы счастья и скорби на лицах…
Отстояли мы волю и честь!
Залпы тысячи пушек в столице,
О Победе разнёсшие весть.
И простое сердечное слово
Поздравленья отцом сыновей
В этот день мы услышали снова,
Дети разных земель и кровей.
Его слово нас в битвы водило,
В амбразуры бросало сердца.
И его беспощадную силу
Враг сегодня узнал до конца.
…В 63-ю годовщину Великой Победы Бушин, при орденах и медалях, стоял у памятника К. Марксу и пытался увидеть в людском водовороте кого-нибудь из однополчан. Неожиданно к нему подошла супружеская пара, и женщина расцеловала Владимира Сергеевича, ввергнув 84-летнего ветерана в ступор.
Но на этом «театральная» история не закончилась. К следующей годовщине Победы незнакомка подала о себе весть по интернету: «Владимир Сергеевич, имею желание в очередной раз поцеловать вас в День Победы на Театральной». Бушин, человек внешне вспыльчивый и грубый, а внутренне отзывчивый и сострадательный, ответил через тот же интернет:
Всё помню, милая Наташа,
Весь облик ваш, всю вашу стать,
А тот поступок, смелость ваша
Мне до сих пор мешают спать.
Знавал я женщин, был в полоне
Не раз у них, но чтоб в толпе
При Марксе и при Аполлоне,
Как на лесной глухой тропе…
Я был бы лицемер, Наташа,
Восторг свой в День Победы скрыв.
Нет ничего на свете краше,
Чем женский искренний порыв.
В воспоминаниях «Я жил во времена Советов» Бушин сделал такое примечание к приведённым выше строкам: «Маркс был рядом, и Аполлон взирал с Большого театра. Не хватало только Кербеля». Не удержался и прошёлся по адресу последнего:
– Он тогда[8]8
В 1965 году.
[Закрыть], женившись на лихой девчонке, кажется, ещё не был Героем Социалистического Труда, но уже был раза в три старше неё. Это не всегда хорошо. Довольно скоро он понял, что ему гораздо лучше было бы жениться не на дочери, а на матери. И маэстро без проблем сделал это.
У костра. Было начало 1918 года. Алексей Николаевич Толстой возвращался с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С ним была жена, Н. В. Крандиевская, и попутчики: писатели Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин, А. Соболь.
Шли к Арбату. Мороз подгонял засидевшихся в гостях литераторов. Ни извозчиков, ни трамваев, ни освещения в городе не было. Ориентироваться помогали яркая луна да глубокая тропа, проложенная среди высоких сугробов. На перекрёстках улиц и переулков горели костры, у которых грелись постовые, проверявшие документы.
Возле Лубянки у одного из костров было особенно многолюдно. Высокий человек в распахнутой шубе, широко жестикулируя, читал стихи. Завидя приближавшихся писателей с дамой, приветливо закричал:
– Пролетарии, сюда! Пожалуйте греться! А, граф! – узнал он Толстого и повторил: – Прошу к пролетарскому костру, ваше сиятельство! Будьте как дома.
Приветливым великаном был уже известный поэт Владимир Маяковский. Алексей Николаевич познакомился с ним пять лет назад в «Обществе свободной эстетики». Тогда Владимир Владимирович считался больше художником, чем поэтом, хотя окружение его уже предчувствовало священный дар в будущей знаменитости. Софья Дымшиц вспоминала об этом времени:
– Очень большой и прекрасный человек стоял среди нас на Воробьёвых горах. Он был больше всех нас, художников, которые, собравшись у Лентулова, вышли на эту прогулку. Он читал стихи, которые я, признаться, не столько понимала, сколько чувствовала. Мне казалось тогда, что это не стихи, а стихия – стихия поэзии, творчества и борьбы.
Вот и на этот раз, у костра, Маяковский что-то декламировал. Потом протянул руку в сторону Толстого и торжественно произнёс:
Я слабость к титулам питаю,
И этот граф мне по нутру,
Но всех сиятельств уступаю
Его сиятельству – костру!
– Здорово! – одобрил экспромт Алексей Николаевич.
У костра оживление, смех. Толстой не отрываясь смотрел на Маяковского, видимо, любуясь им. Андрей Соболь потянул писателя за рукав:
– Плохо твоё дело, Алексей, идём-ка от греха!
Мимо Китайгородской стены писатели спустились по склону Неглинной горы к Охотному Ряду. Пустынная тишина города, древняя стена и башни слева, горы снега, скрадывавшие все звуки, безмолвие звёзд, мерцавших над головами путников, – всё создавало иллюзию ирреальности, настроение отрешённости от сегодняшнего дня.
Долго шли молча. Снег тихо поскрипывал под валенками. Неожиданно Алексей Николаевич произнёс:
– Талантливый парень этот Маяковский. Но нелепый какой-то. Громоздкий, как лошадь в комнате.
И опять тишина. Каждый думал о своём, возвращаясь в промёрзлые московские квартиры первой послереволюционной зимы.
«Так помни». Редактор Госиздата H. A. Брюханенко познакомилась с В. В. Маяковским летом 1926 года, постоянная связь с ним установилась в июне следующего. О степени их близости можно судить по следующим строкам воспоминаний Натальи Александровны «Пережитое»:
«Звал меня Маяковский большей частью очень ласково – Наталочка. Когда представлял кому-нибудь чужому, говорил: „Мой товарищ-девушка“. Иногда, хваля меня кому-нибудь из знакомых, добавлял: „Это – трудовой щенок“. Часто и мне говорил:
– Вы очень симпатичный трудовой щенок, только очень горластый щенок, – добавлял он с укором. – Ну почему вы так орёте? Я больше вас, я знаменитей вас, а хожу по улицам совершенно тихо».
Как-то Владимир Владимирович провожал товарища-девушку домой. Шли через пустую Лубянскую площадь. Наташа только что вернулась из Харькова, поездку куда Маяковский не приветствовал. Грустный и тихий, он пенял подруге:
– Вот вы ездили в Харьков, а мне это неприятно. Вы никак не можете понять, что я всё-таки лирик. Дружеские отношения проявляются в неприятностях.
Чувствуя себя несколько провинившейся, на следующий день Наташа позвонила сама:
– Когда увидимся?
– Сегодня я занят, – огорчил её Владимир Владимирович, – но завтра приду к вам, помахаю билетами, и мы пойдём в кино, потом в концерт, а потом в театр – сначала в Большой, потом поменьше, потом – в самый маленький.
На намеченные развлечения Маяковский шёл усталым и расстроенным. Отвлекая спутника от невесёлых мыслей, Наташа похвалила его статью о культурной революции, напечатанную в «Комсомольской правде».
– Вещь-то хорошая, – согласился Владимир Владимирович, – а из-за неё столько шума теперь. Луначарский написал в Агитпроп ЦК письмо с протестом. Я не думал, что про министров нельзя писать. Тем более предварительно звонил Луначарскому, и мне передали, что он на стихи не обижается. Строк шестьдесят выкинул после этого, и всё-таки…
Помолчал и добавил:
– Я считаю всё время, что я заодно с советской властью и о культурной революции написал не против, а за неё.
…По воспоминаниям «Пережитое», Наталья Брюханенко помогала Маяковскому в работе и скрашивала три последних года его жизни. Но оказывается – не только. Воспоминания её заканчиваются весьма многозначительным признанием: «Лиля Брик писала в 27-м году в Ялту Маяковскому, что „я слыхала, ты собираешься жениться, так помни, что мы все трое уже женаты…“ Это писалось обо мне».
Синонимы. В труднейшие годы становления СССР наиболее ответственные посты нового государства занимал Ф. Э. Дзержинский: председатель ВЧК-ОГПУ, председатель ВСНХ и нарком путей сообщения. То есть в годы экономической разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, Феликс Эдмундович восстанавливал железнодорожное движение и промышленность страны, ликвидировал саботаж этому, боролся с контрреволюцией, спекуляцией и детской беспризорностью. И на всех своих совмещаемых постах Дзержинский сделал достаточно много, чтобы вызвать ненависть тех, кто был так или иначе причастен к разрушению великого государства; именно с него началась вакханалия низвержения памятников советским государственным деятелям, писателям и учёным.
В Москве памятник Феликсу Эдмундовичу возвышался в центре площади, носившей его имя, и был снят с постамента 22 августа 1991 года. Расправа с железным Феликсом происходила в обстановке крайнего возбуждения огромной массы людей, потерявших всякое чувство реальности. Поэт Е. Евтушенко писал в своих мемуарах «Волчий паспорт»:
«В толпе неподалёку от меня судорожно дёргался истощённый истерическим комплексом неполноценности, весь искривлённый человек, захлебываясь от ненависти, видимо, ко всем знаменитым людям, которая у него фонтанировала изо рта, ноздрей и ушей:
– Пора скинуть с пьедесталов не только политических, но и литературных подхалимов, чекистов, стукачей, начиная с Пушкина! Да-да! С Пушкина, господа! Хватит идеализировать наши памятники! Кто как не Пушкин бегал к шефу жандармов Бенкендорфу, клянча, чтобы тот заступился за него перед царём?! А Горький, прославлявший Беломорканал, построенный на костях заключённых? А о Маяковском нечего и говорить – он сам был чекистом!
Вот такие взгляды на классиков отечественной литературы были внедрены всяческими „голосами“ и „народными“ доброхотами в сознание советской интеллигенции к концу существования СССР. Всё было плохо не только в стране рабочих и крестьян, но и в той России, „которую мы потеряли“. Наступило трагическое десятилетие нашей нелёгкой истории, десятилетие, которое не имеет аналогов в существовании развитых цивилизаций.
Телевидение, радио и пресса довели народ до полного оболванивания, и он не увидел трагедии в развале первого в мире социалистического государства. Но 22 августа кое-как ещё трепыхался. Из толпы выступил седой человек со сплошным рядом стальных зубов и заговорил, произнося каждое слово внятно и твёрдо:
– Всё это неправда. Пушкин ходил к шефу жандармов только для того, чтобы пробить через цензуру „Бориса Годунова“[9]9
Попасть к А. Х. Бенкендорфу было сложно; A. C. Пушкин встречался с ним один-два раза, но много писал по литературным делам. Сохранилось 55 писем и три деловых документа, направлявшихся поэтом Александру Христофоровичу.
[Закрыть]. А скольких людей Горький спас во время революции… Я был заключённым на Соловках, когда туда приехал Горький. Нас помыли, постригли, приодели, дали в руки свежие газеты. В знак протеста мы перевернули газеты вверх ногами. Горький понял, что мы хотели этим сказать. Он подошёл ко мне и перевернул газету. Глаза его были полны слёз. Я уверен в том, что Горький поехал на Беломорканал, чтобы Сталин его выпустил, а за границей рассказал бы всему миру правду о лагерях. Но Сталин разгадал Горького, и его убили, да и Маяковский не палач, а жертва…Ввязываться в полемику с бывшим зэком искривлённый человек не стал и переключился на современную ему знаменитость:
– Да это же Евтушенко! Посмотрите, это он, собственной персоной, наверно, только из Америки, такой доступный, без многочисленных жён и поклонниц, и пешком – не за рулём своего чёрного мерседеса! Как нам всем повезло! А вот вы нам скажите, дорогой наш будущий памятник, если вы на самом деле такой уж честный человек, почему вы никогда не были арестованы, а? За какие заслуги вас так берегла советская власть? Не хаживали ли вы, часом, как я слышал от некоторых ваших литературных коллег, вот в это самое гостеприимное здание?»
Хаживал. Конечно, по его уверениям, ради защиты преследуемых КГБ. Но кого убедишь в этом, особенно если ты человек с очень подмоченной репутацией – хамелеон и приспособленец. Как человек Евтушенко популярностью не пользовался. Люди чувствовали гнильцу в натуре поэта, и никто не вякнул в его защиту. Оскорблённый до глубины души Евгений Александрович безропотно удалился с «поля битвы», с грустью размышляя о несоответствии идеалов с действительностью:
«Не зная, что такое свобода, мы сражались за неё, как за нашу русскую интеллигентскую Дульсинею. Никогда не видя её лица наяву, а лишь в наших социальных снах, мы думали, что оно прекрасно. Но у свободных множество не только лиц, но и морд, и некоторые из них невыносимо отвратительны».
Словом, не та свобода оказалась в России, и с присущей ему прытью Евгений Александрович сиганул в США, где проблем со свободой (по его твёрдому убеждению) никогда не было.
Кстати. Характерна оговорка, сделанная Евтушенко в его воспоминаниях: «Ни разу не пересечься советскому писателю и КГБ было просто физически невозможно, потому что КГБ было везде». Вот так знаменитый поэт, с присущей ему «интеллигентностью», отождествил свою страну с Комитетом государственной безопасности. То есть это, по его мнению, даже не близнецы-братья, а просто одно и то же, синонимы.
Знатоки. Как-то С. А. Есенин ехал на извозчике из Политехнического музея (то есть по Новой площади). Разговорившись с хозяином этого средства передвижения, спросил, знает ли он Пушкина и Гоголя:
– А кто они такие будут, милой? – озадачился извозчик.
– Писатели. На Тверском и Пречистенском бульварах памятники им поставлены.
– А, это чугунные-то? Как же, знаем!
Сергей Александрович редко бывал один. На этот раз оказался вместе с писателем И. И. Старцевым, которому и посетовал на равнодушие современников:
– Боже, можно окаменеть от людского простодушия! Неужели, чтобы стать известным, надо превратиться в бронзу?
Две королевы. Напротив Политехнического музея с 1935 по 1998 год находился Музей Москвы (тогда – Музей истории города Москвы, а ещё раньше – Музей истории и реконструкции Москвы). Он размещался в здании церкви Иоанна Богослова под Вязом и имел несколько филиалов; нас интересует один – Английское подворье.
Оно находится на Варварке, между церквями Варвары и Максима (то есть внутри Китай-города). Это одна из немногих гражданских построек середины XVI столетия, дошедшая до нашего времени. Для размещения в ней музейной экспозиции требовалась очень серьёзная реставрация здания. Ею несколько лет занималась молодая сотрудница музея Инна Рощина, которая буквально жила этим уникальным памятником и посвятила ему стихи:
Есть Английский двор с обрубком крыльца,
С ростком тополиным на крыше.
Кто строил? Кто жил в нём?
Века. Они здесь сквозили по каменным нишам.
В распалубках залы звенели шаги,
А сильные люди, сгружая тюки,
Косяк задевали плечами,
И люстры слезились свечами.
Матросы, торговцы, послы, знахари —
Такие далёкие речи —
Любили погреться у русской печи,
Болтая на странном наречье.
Их море носило из дальней земли,
А с морем не всякий поспорит.
Строители, дел золотых мудрецы
Знавали, что мужество стоит.
И что мне до них? Почему не могу
Не думать, как жили, что пели?
Россия, тебе поверяли судьбу
В те давние годы Горсеи.
И льстили тебе, и бранили тебя,
Дивились, страшась разоряли.
А всё-таки деток родили
И язык твой учить наставляли.
Пожары – татары, поляки – война,
Опалы, лихие годины
Людины – людины – чужая страна,
Врозь веры – а беды едины.
Да, многое помнит тот аглицкий дом,
Тот – русский, за частым забором.

И. Рощина
До открытия экспозиции работа на Английском подворье была весьма далека от музейной: наблюдение за ходом реставрации этого памятника истории; координация научно-исследовательских работ по нему; подготовка всякого рода справок и документов в Госинспекцию, Управление культуры и другие организации… Общаться приходилось в основном с мужчинами, которые, отдавая должное внешним данным Инны и той настойчивости, с которой она отстаивала интересы музея, прозвали её королевой Английского двора.
И вот в октябре 1994 года Рощиной пришлось сыграть эту роль в действительности. Во время официального визита в СССР королева Великобритании Елизавета II изъявила желание осмотреть здание, с которым долгое время были связаны дипломатические и торговые отношения России и Англии. Честь приветствовать высокую гостью невольно досталась хозяйке Английского двора, и она с блеском выполнила эту задачу.
Рощина буквально очаровала старушку, и, поскольку она знала английский язык, королева отказалась от услуг переводчиков. Свершилось небывалое: невольно оттеснив официальных лиц, сопровождавших Елизавету II, Рощина целый час занимала её внимание рассказом о вверенном её попечению памятнике – его истории, ходу реставрационных работ и его будущем как музея Старый Английский двор.
Визит королевы невольно вышел за рамки официальщины, что она и подчеркнула при прощании. Все были довольны: представители Министерства культуры и Управления музеев, Моссовета – тем, что удалось скрыть огрехи реставрации; дирекция Музея истории Москвы – удачным приёмом высокой гостьи, а все вместе – явным удовлетворением королевы Британии своим неофициальным визитом.
И ещё, Елизавета не забыла об очаровательном «экскурсоводе». Где-то через месяц после посещения ею Английского подворья в Министерство иностранных дел СССР пришло официальное приглашение на имя Рощиной. Королева Великобритании звала в гости королеву Английского двора.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?